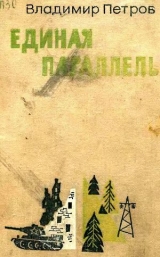
Текст книги "Единая параллель"
Автор книги: Владимир Петров
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
23
Стояло первое воскресенье августа – канун госпожинок, двухнедельного «сладкого» поста: было время, когда в тайге «переламывалось» лето, отцветала сарана, а по осинникам несмело проглядывала ранняя желтизна. Уже копнили сено, вострили серпы для отяжелевших ржаных клиньев, докашивали травяные мыски меж сумрачных пихтачей.
Событие, которое произошло в это воскресенье, даже старикам не с чем было сравнивать, разве только с «огненным зубом» – пророческим видением в ночном небе летом четырнадцатого года. Как раз накануне мировой войны.
В полдень накатилось из-за Ивановского белка басовитое шмелиное гудение, потом мощно наросло, затарахтело и разверзлись небеса, обрушив на пустынную прокаленную зноем улицу невообразимый грохот, от которого дворовые псы срывались с цепей, а коровье стадо убежало под гору Золотуху, в ужасе задрав хвосты, как от оводинного бзика.
Над Черемшой летела огромная грязно-зеленая двукрылая птица. Выскочив на крылечки, старухи крестились и опрометью бежали в избы ставить свечки у чудотворных икон.
А первым разглядел диковинную птицу Андрюшка Савушкин, как раз, когда они с отцом разгрузили на Зареченском взгорке бричку с бревнами для сруба. Глазастый Андрюха всмотрелся из-под ладони и заорал вдруг благим матом, будто под отцовским ремнем:
– Ироплан!! Ироплан!!
Брюхатая Пелагея – Андрюшкина мать, пришедшая разглядеться на будущее подворье, в страхе прикрыла платком рот, дважды перекрестилась:
– Свят, свят, борони господи! Говорила я тебе, Егор: не к добру первым начинать. Худая примета, спаси нас святая заступница!
Савушкин равнодушно отплевывался и хотел было сдернуть Андрюшку с бревен, но того уже след простыл: сверкал пятками у речных кладок – над селом, над пожарной площадью мельтешили белые бумажки, словно роились бабочки-капустницы у дорожной колдобины.
А птица уже делала круг над плотиной, где обалдело размахивал винтовкой стоявший на часах Гошка Полторанин. Аэроплан примерился, зашел к самой Золотухе и оттуда начал скользить вниз, прямо к гребню плотины. Грохотом, горячим ветром Гошку прямо-таки прижало к бетонным плитам, сорвало фуражку, но он успел все же увидеть, как от аэроплана отделилась темная штуковина с длинной красной лентой, коротко мелькнула в воздухе и бултыхнулась в воду. «Неуж бомба?! – Гошка разинул рот от изумления и сразу присел. – А ну как шарахнет?»
Пока аэроплан делал круг над озером, Гошка осторожно заглянул вниз: что же оно упало? Вроде какой-то бумажный пакет или мешок плавает… Да и не бывают бомбы с ленточками.
Теперь машина пронеслась над самой гладью водохранилища, почти вровень с плотиной, Гошка хорошо разглядел пилота в черном шлеме и в огромных очках, даже видел, как тот махал рукой вниз, показывал: доставай, мол, дуралей, мешок. Чего пялишься?
Мигом сбросив сапоги и одежду, Гошка в трусах сиганул с плотины и через несколько минут выволок бумажный мешок с надписью «Авиапочта». Погрозил кулаком пилоту: «Сам дурак – не смог сбросить на сухое место!»
Промокший мешок надо было спешно просушивать на солнышке, на бетонных плитах.
А аэроплан начал отчего-то чихать, будто просквозило его тут, у золотухинских снегов. Кружится и тарахтит, белым дымом отплевывается. Дважды перекувырнулся, почихал и вовсе вдруг затих. Уж не думает ли садиться в самых скалах да россыпях?
Нет, пошел в сторону Выдрихи. Значит, углядел сверху: там как раз приречный заливной луг. Только ведь нынче на Выдрихе сено копнят, почти вся черемшанская молодежь на воскреснике. Не подавил бы ребят ненароком, ему под крыльями-то, однако, ни хрена не видно.
На Выдрихе, в сенокосном урочище, скрытом поперечным хребтом, аэроплан не видели, хотя грохот утробный сюда все-таки дошел. Приняли за близкую грозу, начали поторапливаться с греблей.
И когда он неожиданно вынырнул из-за листвяжника – черный, громоздкий, окруженный дьявольским свистом, – черемшанцы на лугу обомлели, девки завизжали и попадали на землю, кое-кто из парней деранул по кустам.
Крыластым чудовищем аэроплан промелькнул у всех на глазах, ударился колесами, подпрыгнул, с визгом разметал встречную копенку и в самом конце луга, налетев на пенек, с треском перевернулся. Хвост его оказался задранным в небо, будто зловещий перст указующий.
Это произошло как раз на Фроськиной сенокосной делянке. Услыхав нарастающий свист, Фроська оглянулась, обмерла, да так и рухнула коленками на колючую стерню – даже перекреститься не успела.
Впрочем, тут же сообразила: кажись, аэроплан. Она их на картинках видела, в киножурнале показывали. Сразу после треска запахло смрадно, пугающе-остро, будто молния в дерево ударила.
Отбросив грабли, она побежала в сторону к лесной опушке, однако остановилась, вспомнив, что во время удара из аэроплана вылетело нечто темное, похожее на распластанное человеческое тело.
С опаской обогнула опрокинутую машину, бросилась в приречные заросли таволожника: вроде туда улетело. Услыхала стон и уж тут начала продираться через кусты напролом, не думая о сучьях, не чувствуя колючек босыми ногами.
Летчик лежал ничком, этаким маленьким сирым комочком. «Сердешный, уж не поотрывало ли ему руки-ноги?» Фроська нагнулась, осторожно перевернула тело и, увидав выбившиеся из-под шлема льняные кудри, изумленно разинула рот: «Пресвятая богородица, да ведь это баба?!»
Кумачовой своей косынкой Фроська вытерла кровь с лица, летчица застонала и открыла глаза. «А глаза-то синие, сизарные, – подумала Фроська. – Как есть мои глава».
– Не горит? – спросила летчица.
– Где не горит? – не поняла Фроська.
– Машина не горит?
– Ироплан-то? Воняет идолище поганое – что ему сделается? А сгорит – туда и дорога: вишь, как тебя-то выплюнул, сатанинская таратайка.
– Дай посмотрю. – Летчица пыталась приподняться, но опять застонала, раздраженно поморщилась: – Да вынеси ты меня отсюда, муравьи жрут – не видишь?
Фроська только теперь сообразила: а ведь верно, попала прямо на муравьиную кучу. Повезло бабенке, а ну как угодила бы в соседние камни, на береговые булыги? Костей бы, поди, не собрать.
Она легко подняла летчицу и даже усмехнулась: не баба, а девчонка-недомерок, никакого женского веса не чувствуется. Наверно, только таких и берут на аэропланы, чтобы было не в тягость по воздуху возить.
У Фроськи в затенку под кустом стоял туесок с ключевой водой, она напоила летчицу, плеснула в лицо, и та сразу взбодрилась, попробовала подняться на ноги. Вдвоем, в обнимку, они поплелись к аэроплану. Летчица отплевывала кровь, ругалась на чем свет стоит, корила себя: зачем согласилась лететь на непроверенной после ремонта машине?
– Да будет тебе! – сказала ей Фроська. – Живая осталась и радуйся. Возблагодари всевышнего во спасении своем. А судьбу не ругай – она у тебя счастливая.
– Ты что, верующая?
– Все мы под богом ходим, – уклонилась Фроська. – И в чего-нибудь верим: не в бога, так в себя.
– Кержачка, наверно?
– Кержачка. Бетонщицей на плотине работаю.
– Интересно…
Они едва успели добраться к поломанной машине, как галдящая толпа сенокосников заполонила Фроськииу делянку. Всем надо было непременно прощупать крылья, подержать за колеса, притронуться к горячему мотору. Парни разочарованно кривились: думали железная, а она из деревяшек, смоляными тряпками обтянута. Да и за рулем-то баба оказалась…
Летчица подергала за расщепленный пропеллер, и ей сделалось худо: ойкнула, обвисла на Фроськиных руках. Положили ее в телегу на сено, и Фроська бесцеремонно согнала с передка возчика.
– Сама повезу в больницу. А вдруг по дороге с ней женские надобности приключатся? Нешто сподручно мужику? Слазь!
В больнице Фроська помогала раздевать летчицу и все время удивлялась: под комбинезоном на синей шевиотовой форменной куртке оказались командирские голубые петлицы, золотисто-красный орден, а в кармане – блестящий и маленький, будто игрушечный, пистолет. Пока пострадавшей накладывали гипс на левую руку, делали уколы и мазали синяки всякими мазями, Фроська тихо сидела на табуретке: для женского сочувствия. И летчица благодарно поглядывала на нее, а потом потребовала в свою палату, даже накричала на врачиху, когда та пыталась не разрешить.
– Ты зачем летела-то сюда? – спросила Фроська.
– Агитполет, – сказала летчица. – У нас, понимаешь, такая эскадрилья: пропагандируем достижения авиации. Агитируем население, бросаем листовки: «Молодежь, на самолет!»
– Не больно ты сагитировала! – усмехнулась Фроська. – Сама и брякнулась.
– Мотор подвел, – вздохнула летчица и закатила таким трехэтажным, что Фроська испуганно оглянулась на дверь: а ну как услышит фельдшерица?
– Ну и матерная ты, прямо срам, – укоризненно сказала Фроська. – Но я таких баб люблю, сама такая. Тебя как зовут-то?
– Светлана.
– Ишь ты, красиво! А наши старые дураки все по святцам ширяют: какой день – такое имя тебе нарекут. Мне вот святая Ефросинья попалась.
– Тоже неплохо, – сказала летчица и здоровой рукой достала из-под подушки кожаный портсигар. – Чиркни-ка спичку.
Фроська уже не удивлялась: такой женщине все мужичьи пакости позволены. Наверняка и водку хлещет, да еще небось прямо из горлышка.
Летчица Светлана курила папиросу, задумчиво глядела в окно и, по всему видать, успокаивалась, приходила понемножку в себя. Оно и понятно: эдакие передряги перенесла, с того света вернулась.
– Так во что ты веришь, Ефросинья? – неожиданно спросила летчица.
– В любовь, – сказала Фроська и радостно вздохнула.
Летчица повернула голову, внимательно посмотрела на Фроську, усмехнулась:
– Втюрилась, что ли?
– Чего, чего?
– Влюбилась, говорю? И пожалуй, по уши?
– Да маленько есть…
– Завидую тебе… И понимаю, любовь – это больше, чем вера. Жаль только: временно.
– Что временно? – насторожилась, подобралась Фроська.
– Любовь. Понимаешь, Фрося, любовь – это чувство, а оно не может быть постоянным. Чувства всегда переменчивы – так уж устроен человек. Верить в любовь можно и нужно, но ставить на нее жизнь – рискованно. Если рухнет – полетишь вверх тормашками. Вот как я сегодня, к примеру.
– Чего-то я не понимаю… Что же тогда главнее любви?
– Сама жизнь. Дело, которое есть у тебя. Хотя ты, мне кажется, еще не нашла его.
– Дело… – неуверенно протянула Фроська. – Вот у тебя свое дело, летчицкое. Так сама же говоришь: чуть шею не свернула.
– Ради дела стоит рисковать. А вот ради любви – вряд ли. Потому что тут все зависит не только от тебя, а еще от другого человека. От того, сможешь ли ты на него полностью положиться.
– Это у разных людей по-разному бывает…
– Конечно. Хочешь я расскажу тебе про свою жизнь.
Наслушалась Фроська, наохалась и наплакалась – вот это была жизнь… Почище, однако, чем житие Параскевы-пятницы или великомученицы святой Варвары. Да и то рассудить: святые девы ради веры муки-страдания принимали, а оно, как ни говори, – дело благостное, возвышающее. А эта Светлана-летчица непонятно из-за чего терпела, сердцем и душой изводилась: и в огне горела, и в воде тонула, и под расстрелом стояла, дочку похоронила и с двумя мужьями развестись успела. Ей бы, кажись, угомониться давно пора, семью завести, тихими бабьими радостями наслаждаться – ведь уже за тридцать перевалило. А она на громыхалке своей над тайгой носится, народ пужает-агитирует, жизнь ни в копейку не ставит. Нешто эта женская доля?
– Бесшабашная ты… – пригорюнилась Фроська, дивясь спокойствию, с которым летчица рассказывала про жизненные свои передряги. – Натерпелась, насмотрелась, горемычная, – а чего ради?
– Так в этом и состоит жизнь! – рассмеялась Светлана. – Надо чтобы было интересно, чтобы всегда была большая цель. Смысл жизни определяющая. Понимаешь? Нужно не просто жить – это и корова умеет, а бороться, побеждать, постоянно идти вперед.
– Ты небось партейная?
– Да. А что?
– То-то и сказываешь, как по радио: «бороться, побеждать». А куда мне бороться, кержачке неумытой, дуре неграмотной? Тебе хорошо говорить: у тебя вон и орден золотой, и ливарверт в кармане. Мне-то с кем и за что бороться?
– Да хоть бы за себя, за свою лучшую долю. К примеру – за свою любовь бороться, – усмехнулась летчица, опять щелкнув портсигаром. – Я ведь вижу, что ты все время киснешь. Нелады у тебя с любовью-то, Угадала?
– Да уж угадала…
Уходила Фроська под вечер, чувствуя легкость и ясность на сердце, какую-то дивную просветленность – вот так же, с такой внутренней успокоенностью, покидала она вечерние моленья в свое первогодье в Авдотьиной пустыне. Ни о чем не думалось, ничто не тяготило, не заботило ее, все трудности житейские словно были теперь отсортированы, упрощены до изначальной своей сути и расставлены по порядку, в полной аккуратности, как горшки и кринки по полкам в хозяйском погребе. Они теперь не тревожили и не мешали: стоят себе, и пускай стоят до лоры до времени, до подходящей надобности.
Фроська присела на больничном крылечке, наблюдая, как село постепенно делалось ночным: растворялись в сумерках очертания домов, желтыми пятнами вспыхивали окна, и пятна эти выкладывали ровную дорожку вдоль берега Шульбы. Почему-то не хотелось уходить…
Невдалеке по булыжникам затарахтела телега, свернула в темноте и въехала в больничный двор.
– Эй, фершал! – послышался мальчишеский голос. – Принимай ранетого человека!
В свете надкрылечного фонаря появилась бричка с высокими бортами. Белоголовый парнишка – возчик замотал вожжи, спрыгнул на землю.
– Не слышишь, что ли? Фершала скорее зови.
Очевидно, он узнал Фроську, да и она сразу припомнила: один из кержачат, из бесенят Кержацкой пади, которые обычно по утрам пескарей удят у моста.
– Кого привез-то?
– Кого-кого… Батьку своего привез, вот кого. Да зови, тебе говорят!
В телеге, на холщовом рядне, постеленном на сене, лежал Егор Савушкин, жмурился от света, прикрывая рукой окровавленную бороду. Штаны и рубаха изодраны в клочья, густо заляпаны черными пятнами крови. Он тихо стонал, матерился, когда тетки-санитарки под руки повели его к дверям.
– Кто это его так? – участливо спросила Фроська.
– Степанидины варнаки, – ответил мальчик. – Сучьи выродки… Сперва собак своих натравили, а потом палками били. – Он заплакал, кулаками размазал слезы, с детской яростью погрозил в темноту. – Ну погодите, мироеды! Вот как вырасту, уж я вам отомщу! Уж я вам припомню!
– За что избили-то? – Фроська нагнулась, хотела было приласкать Савушкина-младшего, но тот хмуро отстранил ее руку, насупился.
– Больно любопытная! Вот как саму-то поймают тебя да отхлестают валежиной, тогда узнаешь за что.
24
Не любил Вахромеев торчать в сельсоветской канцелярии, а полдня пришлось отдать: просидел у телефона. Сначала из райисполкома названивали, требовали отчетов за полугодовые сметы и еще велели немедля расходовать средства, выделенные на кержацкое переселение. Строго предупредили: деньги должны быть реализованы до конца текущего года.
Вахромеев прямо скис от такого непотребства; кому давать ссуды, когда кержачье и не помышляет о новоселье, их трактором не выпихнешь из насиженной щели…
Потом из областного центра начальник какой-то в трубку покрикивал, аэропланом интересовался – как будто черемшанцы виноваты, что воздушная тарахтелка тут у них шлепнулась. Сами небось оконфузились, незачем бабу посылать на серьезное дело.
Приказали держать круглосуточную охрану – пока ремонтники не прибудут. Ну об этом Вахромеев и без них давно догадался: милиционер Бурнашов Василий построил при аэроплане сторожевой шалаш, живет там с личной охотничьей собакой.
А вот о летчице Вахромеев ничего толком не знал: лежит в местной больнице с переломом руки. Состояние вроде бы хорошее. Почему «вроде бы»? Потому что Вахромеев не больничная сиделка, а председатель сельсовета и у него на данный момент есть дело поважнее: например, сенокос, а также коммунальное обеспечение трудящихся.
Областной начальник обозвал такой ответ «политическим недомыслием» и велел переключить телефон на черемшанскую больницу.
Вахромеев пожалел, что погорячился («Так ведь спозаранку трезвонят без передыху! Осточертели!»), вышел во двор, вскочил на Гнедка и поехал в больницу, надо и в самом деле навестить эту бедолагу-летчицу да Егоршу Савушкина проведать. Жалко мужика, хотя, между прочим, пострадал по своей дурости: кто же с кержаками в одиночку связывается?
А сообразил Егорша: самый солнечный, тучный и удобный клин застолбил. Надо будет сегодня же законным порядком закрепить за ним дворовый участок. Только как быть с остальными переселенцами, теперь ведь и вовсе бояться станут?..
С летчицей побеседовать не удалось: принимала лечебные процедуры. А с Егоршей оказалось проще: он сидел на подоконнике, грелся на солнышке и чинил суровой ниткой изорванные штаны. Под левым глазом темнел здоровенный синяк.
– Ну как дела, Аника-воин? – поздоровался Вахромеев.
– Да вот сижу, поджидаю, – ухмыльнулся Егорша, трогая пальцами распухшие губы.
– Это кого же?
– Степанидиных суразов. Думаю, кого-нибудь из троих должны доставить сюды. Я им вчера тоже ребра пересчитал.
– Как было-то?
– Да так и было, – Егорша отложил иголку, поскреб в лохматом затылке, ойкнул, матюкнулся – руку заломило. – Встрели они меня, значица, у Холодного ключа – я там жерди рубил на оградину. Дак боятся сами-то сволочи – спустили на меня свою свору: у них собаки, сам знаешь, – медвежатники. Однако ничего. Споймал я двух-то кобелей за загривки да и шабарнул об лесину. Вышиб, значица, собачий дух. Ну а они, братья то есть, тут как тут. Загоношились, поперли на меня с палками-поленьями. Старшой-то, Гераська, слышь, что мне сказывал: ты, грит, поганец христопродавец, пошто божью тварь жизни лишил? Ты, грит, помнишь, как писано: «Сотвори господь собаку и повеле стрещи Адама». Против бога идешь, Иуда? Да и хрястнул меня поперек спины. А потом, что же, – причастились как полагается. Я ведь должником не люблю оставаться, а кулак у меня потяжельше палки будет. Это без бахвальства сказываю.
– Судить их станут! – зло выдохнул Вахромеев. – За бандитское нападение.
– Да иди ты со своим судом! – отмахнулся Егорша. – Нам, кержакам, мирской суд не указ – сами разберемся.
– Передам дело в суд, – заупрямился Вахромеев. – А ты напишешь заявление, как пострадавший.
– Сдурел ты, никак? – рассердился, нахохлился Егорша. – На позор меня выставлять? Да когда это было слыхано, чтобы Егорша Савушкин в пострадавших ходил? Али не помнишь, как я в школе вас дюжинами лупил? И тебе перепадало, промежду прочим.
– Охламон неотесанный, – в сердцах сказал Вахромеев и, повернувшись, направился к воротам. Нет, не потому что обиделся на упрямого черторожего Егорку – председатель только сейчас понял, что ему надо делать. И немедленно.
Он вернулся в сельсовет, достал из сейфа свою красную с золотым тиснением председательскую папку и, опять вскочив в седло, не спеша поехал в Кержацкую падь.
Судьба подбросила ему очень выигрышный шанс, он окажется круглым оболтусом, если умело и вовремя не воспользуется им.
Коня Вахромеев стреножил на прибрежной лужайке и еще оттуда, издали, пригляделся к массивному, крепко тесанному дому кержацкой уставницы. Дом стоял на склоне выше других и выглядел вызывающе-нарядным, поблескивал мытыми окошками, рябил резными завитушками ставней. Под стрехой, вдоль каждой стены, – будто деревянные кружева навешаны. Ничего не скажешь – рукодельные сыновья у Степаниды.
Проходя чисто подметенным двором, Вахромеев вспомнил тогдашнюю кержацкую сходку, подивился: груда бревен вроде бы стала больше: для нового сруба готовят, что ли? Неужто расселяться с сыновьями задумала Степанида?
Вот тут стоял колченогий столик, с этого крыльца величественно не спустилась, а явилась с ходу мать Степанида. Неужели она сама натравила сыновей на Савушкина? А собак что-то не видать, и в сарае не слышно, не побил же их всех страхолюдный Егорша…
Председатель постучал в приоткрытую дверь, прошел сенцами, дивясь чистоте и умытости: всюду только янтарно-слюдяной деревянный блеск, дух вереска, мокрого песка и скобленого кедрача. Наверно, невестка – Филькина молодуха, драит да наяривает, говорят, уж больно пристрастна бабенка к порядку и ухоженности.
Уставница сидела в горнице у окошка с геранью, без очков читала пухлую книгу в обтертых кожаных корешках.
Приходу незваного гостя она не удивилась, а может, виду не подала. Вздохнула, поправила под подбородком узел черного платка, на приветствие не ответила – молча ждала, что скажет Вахромеев.
А Вахромеев вдруг почувствовал себя растерянным и понял, что заранее заготовленное начало разговора не годится: он увидел кержацкую уставницу совсем не такой, какой ожидал увидеть. От прежней важности и заносчивости не было и следа – перед ним сидела очень утомленная дряхлая старуха, глаза которой ничего, пожалуй, не выражали, кроме легкой досады из-за прерванного интересного чтения.
Напряженно кашлянув, он сказал:
– Вот ваше письмо. Так сказать, жалоба-коллективка. Оно попало ко мне, как представителю власти. Ознакомившись, возвращаю. – Вахромеев протянул письмо старухе, но она, кажется, не собиралась его брать. Тогда, помедлив, он положил бумагу на стол. – Между прочим, оно не имеет юридической силы: там одни крестики да пятна. А нужны росписи.
Уставница устало пожевала губами, не моргая, глядела на Вахромеева, дескать, ну-ну, продолжай.
– С фактической стороны полное опровержение получается. Во-первых, насильно вас переселять никто не собирается. А во-вторых, по части снабжения промтоварами все делается законно, по справедливости: стройке – большая часть, а вам – меньшая. Они работают на социализм, а вы пока нет. Вам еще далеко до социализма. Так что ваше письмо-коллективка неправильное по всем статьям. Что ты на это скажешь, Степанида Сергеевна?
– А что мне говорить? – тихо молвила уставница. – Ты пришел, ты и говори. А я тебе ничего сказывать не собираюсь.
«Хитрая карга, – огорченно подумал Вахромеев. – Ей хоть стихами читай, хоть в доклад развертывайся – она будет гляделками хлопать да причмокивать. Мели, мол, Емеля, коль твоя неделя. Нет, такой разговор не годится, не в коня корм выходит. Надо с другого боку подойти».
– Ты, вот я гляжу, грамотная женщина. Вон сколько книг на дому имеется. – Вахромеев указал на полки в углу, тесно заставленные ветхими книгами. – Там небось и старописьменные книги есть…
– Есть, есть, голубчик, – неожиданно оживилась Степанида. – Есть и писанные при первых пяти патриархах, и патерики всяческие есть: иерусалимские, синайские, печорские и даже скитские. Только ведь они все – для умных людей.
– Это как понимать? – демонстративно оскорбился Вахромеев.
– Да так и понимать. По естеству. – Уставница легко встала, прошла к полке, с минуту рылась там, затем вернулась с небольшой книжкой, которую тщательно обтерла передником, перед тем как положить на стол. – Вот книжка-то про социализм писанная – «Город Солнца». Так ведь у нас в общине как раз социализм и есть: люди мы все равные, дела решаем сообща и по справедливости, старост своих избираем, и каждый у нас получает по труду.
У Вахромеева шея сразу взмокла: он-то думал старуха — одуванчик, божья душа немощная, а тут тебе гидра развернулась в полной змеиной красе. Да еще шпарит по-научному.
– Кто писал? – хрипло спросил Вахромеев.
– Ученый монах италийский. По фамилии Кампанелла.
– Ну тогда все ясно – ваш брат! И книжки его – враки религиозные.
– Неуч ты, Колька! – ехидно вздохнула старуха. – Прямо темнота дремучая. А еще в председателях ходишь. Да ведь книжку сию сам Ленин хвалил.
– Ты брось, мать Степанида! Не возводи поклеп на товарища Ленина.
– Вот те крест святой, председатель! Да чего ради я лгать-то буду? Говорю, как есть.
– Ладно, – нахмурился Вахромеев. – Я это дело уточню. Только заранее скажу: социализмом в вашей Кержацкой пади и не пахнет. Это я своим классовым чутьем чую. Кулацкий он у вас социализм. Ширма для закабаления трудящихся. Вы вон даже опричников завели для острастки сознательных граждан. Добро проповедуете, а сами людям морды бьете, ребра ломаете.
– Ладно-ладно! – замахала руками уставница, испуганно оглядываясь на дверь в соседнюю комнату. – Утихомирься, господи ради! Почто кричишь-то? Чай, не в сельсовете.
И вот тут-то Вахромеев кое-что понял! Да и как было не догадаться: ежели старуха пугается насчет двери, значит, за ней кто-то есть? А кто же еще, кроме ее родненьких распрекрасных сыночков, которые небось отлеживаются теперь на тюфяках, чешут на боках синяки от свинцовых Егоркиных кулаков?
То-то квелая нынче мать Степанида, лицом изможденная, будто с креста снята: за «чада возлюбленные» переживает. Еще бы: сама, поди, толкнула их на разбойную дорожку.
– Вот он ваш социализм! – Вахромеев многозначительно кивнул на дверь опочивальни. – Судить будем за бандитизм.
Сникла вся, съежилась Степанида – аж жалость кольнула в председателево сердце. Разве узнать было властную, непререкаемую и суровую уставницу в этой хилой, дряблой старушонке, скорее похожей на деревенскую побирушку.
– Шибко зашибаешь, Сергеевна! Уж коли детей своих не жалеешь, к тюремной решетке подпихиваешь, то дальше, как говорится, ехать некуда.
Она подняла голову резко, энергично, и Вахромеев чуть отпрянул, встретив немигающий стальной взгляд. Старушечье лицо оживало на глазах, разгладились морщины, только у тонких губ глубже залегли колючие складки. Сказала глухо, весомо:
– Опара только тогда станет хлебом насущным, когда в кадке-коломанке держится. Взбродит – удерживай, не то поползет на пол и вместо хлеба – грязь. Понял ты что-нибудь?
– Понял, понял! – махнул рукой Вахромеев. – Все это бредни ваши стариковские, мать Степанида. Опара всегда бродит, иначе какой же хлеб? Одни черствые колотушки. Так что не держите вы опару, все одно не удержите. Да и не вам ведь жить, а им, молодым. Что вы, старики, лезете не в свои сани?
– Глупый ты. Святость и благочестие нужны людям. Перво-наперво.
– Чепуха! Все вверх тормашками поставлено. Жизнь сначала нужна человеку, а к ней все остальное прикладывается. Жизнь! Вот и пускай живут молодые по-своему, как время теперешнее требует. Не надо им мешать, не надо путать.
– Я уже не путаю, – вздохнула, поглядела в окно уставница. – Делиться решили. Только тут мы жили, тут все и помрем на святой земле прадедов.
– А ежели половодье весной захлестнет?
– Так тому и быть. Знамо, господу угодно.
Вахромеев поднялся, потянул носом, фыркнул: фу-ты, язви тебя! А в избе-то больницей пахнет, как он сразу не почувствовал! Может, заглянуть к кержацким «опричникам», побалакать, полюбоваться на Егоркину работу? Не стоит. Старуха и так вон квохчет, крутится, как наседка перед коршуном. Ждет ее дождется, чтобы выпроводить нежеланного гостя.
– Так что прощевай, мать Степанида! И ты и присные. Да поберегитесь революционного красного паровоза. Как в песне-то поется: «Наш паровоз, вперед лети!» Не копошитесь на рельсах у истории.
Уставница пригнулась в дверном проеме – желтолицая, высохшая, печальная, похожая на иконную богородицу. Сказала жестко, сквозь зубы:
– Не грозись, Колька! Тебя ведь упреждали… – и с треском захлопнула дверь.
Ну старуха ядовитая, ни дна тебе ни покрышки! И ведь обязательно ужалит или плюнет вдогонку. И чтоб последнее слово – только за ней.
Вахромеев перегнулся с крыльца, заглянул в огород. Там, на деревянных пяльцах, сушились на солнце, обсыпанные золой, две собачьих шкуры, вокруг них роились зеленые мухи. Оборотистые хозяева, ничего у них не пропадет: добрые рукавицы-махнашки на зиму будут! Уму непостижимо, как это они умудрились натаскать охотничьих собак на человека?.. Ведь обычно лайка людей не берет, ну, может быть, цапнет для острастки. Знать, в хозяев собачий выводок пошел, не зря же говорят: «Злые собаки у злых людей». А может, наоборот?
В левое кухонное окошко кто-то наблюдал за ним, оттянув пеструю занавеску. Вахромеев подумал, что ведь разговор в горнице Степанидины сыновья слышали: дверь-то была чуть приоткрыта. Собственно, он и раньше догадывался об этом.
Красная папка в руке напомнила еще об одном запланированном деле, и Вахромеев, не мешкая, свернул к моленной, к срубу Савватея Клинычева. Справа от входной двери председатель кнопками прикрепил на степу объявление, написанное красиво и четко клубным художником по его личному заказу. «Распределение дворовых участков на новой Заречной улице будет произведено только до 10 августа. Сельсовет».
Слово «только» дважды красно подчеркнуто. Это хорошо – сразу настораживает.
Отошел на середину улицы, полюбовался, неожиданно горько усмехнулся: что за люди живут на земле! Ровно слепых котят тыкают их в молоко, а они отворачиваются, да еще отплевываются. И ведь сорвут объявление, непременно сорвут, как стемнеет. Ну да все равно молва-то пойдет.
На берегу, взнуздав коня, Вахромеев обернулся и увидел возле объявления кучку мужиков: галдят, пальцами тыкают. Гляди-ка, разобрали! А говорят – читать не умеют.








