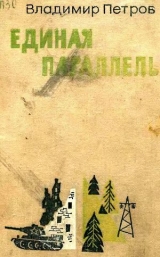
Текст книги "Единая параллель"
Автор книги: Владимир Петров
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
– Небось про Черемшу?
– Точно, про нее самую.
– А я в медсанбате отоспался, слава те господи! Теперича аж до самого Берлина попру без передыху. Кухня имеется в наличии, командира своего отыскал – чего мне еще надобно? Как говорится, дуй до горы.
«Эх, Егор, Егор… – с нежностью подумал Вахромеев. – Вот уж кого мне не хватало в эти тяжкие дни, пропитанные пылью, кровью, едким солдатским потом. Не хватало присутствия его, мудрого крестьянского совета, веского кержацкого слова…» Вахромеев это понял на другой день после взятия Выселок, после ухода раненого Савушкина. Он вдруг сразу ощутил войну такой, какой она есть, – очень страшной. Егоршина хозяйская будничность, невозмутимая дотошная деловитость, которые до этого окрашивали каждый окопный день в Сталинграде, каждый рукопашный бой, каждую изничтожающую бомбежку под Белгородом. Это все – хлопотливо-обыкновенное, как сама жизнь, неожиданно исчезло, отошло в сторону отдернутой быстро шторой, и тогда обнажилась суть фронтового бытия: ежеминутное балансирование между жизнью и смертью…
Егорша не просто воевал – он жил войной. Как раньше жил таежной охотой, пашней, бортничеством, всеми своими повседневными мужицкими делами. Боялся ли он смерти? Наверно. Но он просто не думал о ней и заставлял не думать других. Он был силен именно этим.
Вспомнив что-то, Савушкин хлопнул себя по лбу, рысцой сбежал вниз, покричал солдатам, и «студебеккеры» заурчали, двинулись к ближнему мыску. Там, в мелком сосняке, отцепили пушки, а тяжелые машины с треском полезли в глубь леса, где и сразу затихли, будто притаились.
Егорша вернулся с туго набитым вещмешком – сидором, тут же у ракиты принялся сноровисто его потрошить, ворчливо приговаривая:
– Эти архаровцы, ну прямо без соображения! Какого, говорю, хрена уши-то развесили, растележились, мать вашу так, на голом месте? А ну как немец углядит, да той же миной шарахнет. Живо, говорю, занимайте боевую позицию! – Крупно накрошив на газету американскую колбасу (второй фронт!), Егорша хитро подмигнул: – Это я им от твоего имени указания дал. Ты супротив ничего не имеешь?
– Да вроде все правильно, – прищурился Вахромеев. – Пушки поставлены на место.
– На место! – хмыкнул Савушкин. Да тут лучше позиции не сыскать. Обе дороги – и та и эта, как на боговой ладошке. В случае чего шуруй прямой наводкой. А эту вашу пушчонку-сорокапятку вон в те кусты поставим. Она ж в лоб и быка не возьмет, а по борту ей оттуда сподручней.
– Архистратиг! – шутливо ухмыльнулся Вахромеев. – Быть тебе, Егорша, генералом, ежели немцы башку не оторвут.
– А ты не смейся. Война – та же самая охота, а я охотник первостатейный. Сам знаешь. Тут што надобно? Соображай, шевели шариками – и вся загвоздка. – Наблюдая, с какой торопливой голодной жадностью заглатывает Вахромеев куски «второго фронта», Егорша жалеючи покачал голевой: – Исхудал ты, Фомич… Жилы да кости остались. Видать, плохо за тобой Афонька доглядывал. Ну какой из него ординарец: сопля соплей, да и только. Где он, живой остался?
– Вон лежит, отсыпается.
– Ну не паразит ли! – возмутился Егорша. – Командир бодрствует, а ординарец дрыхнет, как шалава последняя. Ну я его сейчас живо из штанов вытряхну!
– Ладно, не ерепенься! – осадил Вахромеев. – И нас с ним не равняй. Мы с тобой кто? Мужики, жизнью крученные, огнем верченные. А он пацан. За девкину юбку поди, не успел подержаться.
– И то верно, – вздохнул Егорша. – Только не жалко мне его, Степанидиного сураза. Верно тогда капитан замполит говорил: трус и смердяк. Он-то где, этот капитан? Тоже спит?
– Погиб, наверно… – тихо ответил Вахромеев. – Тут, в этом лесу. Ночью повел роту в контратаку…
Савушкин сразу помрачнел, медленно дожевывая колбасу, незаметно перекрестил пряжку ремня. Потом вскочил, взбеленился, начал зло тормошить испуганно мычавшего Афоньку: какие люди погибают, а этот слизняк храпит живехонек, ровно святой праведник! Мать твою перетак, где же она та божья справедливость?..
Вахромеев с трудом оттащил разъяренного Егоршу, и сам разозлился: не слишком ли много берет на себя?
К тому же Афоня Прокопьев ничем плохим не выделялся за эти дни: все делал так же, как делали другие. Да и не будил его Вахромеев умышленно: собирался через полчаса послать в штаб с боевым донесением. Там ведь до сих пор толком не знают о судьбе батальона.
Савушкин утихомирился, молча отошел от заснувшего опять Афоньки, так же молча, сосредоточенно собрал с газеты остатки завтрака, упрятал в вещмешок.
– Ладно… – раздумчиво произнес Егор. – Пущай остается при тебе, ежели такое дело… А меня куды прикажешь?
Вот она в чем причина неожиданной ярости Егорши… Ревнует, от этого и ненавидит.
– Ты не сердись, Егорша. – Вахромеев подошел вплотную, положил руку на новенький Егоршин сержантский погон. – Мы с тобой старые друзья. Чего нам делить? И честно скажу: из ординарцев ты давно вырос. Командиром тебе быть надобно. Вот и будешь пока командиром взвода.
– Да уж буду, – вздохнул Савушкин. Перевел взгляд опять на Афоньку, по-детски разметавшего руки. – А в штаб посылать его не надо. У меня на «студере» рация имеется. Американская.
– Что же ты молчал, черт сиволапый?!
– Дак ты же не спрашиваешь…
Они вдвоем быстро спустились с пригорка, направляясь к «студебеккеру», и как раз на том месте, где под углом пересекались полевые дороги, их застал пулеметный треск и грохот, внезапно упавший с неба. Вдалеке, над серединой ржаного поля, падал сверху «кукурузник», шел к земле юзом, поставленным на ребро зеленым крестиком. А еще выше сверкнул крылом «мессершмитт», словно жук-дровосек издали ощупывая «кукурузник» огненными усами пулеметных трасс.
«Кукурузник» выровнялся, сделал nepeвоpoт и стал вилять из стороны в сторону, направляясь сюда, к лесному массиву. «Мессер» коршуном клевал его сверху, заходя в новые атаки, делая размашистые, вполнеба, развороты.
Жутко было это наблюдать, обидно делалось за наш фанерный беззащитный самолетик: какого черта летчик не садится? Плюхнулся бы прямо в поле, да и сиганул из машины в рожь… Ведь собьет немец, обязательно собьет!
Нет, летчик упрямо тянул к лесу, наверно, рассчитывал нырнуть в какую-нибудь просеку, а может, знал, чувствовал, что тут находятся свои.
Неожиданно во ржи вспухли два черных взрыва – упали авиабомбы. Кто их бросил: «мессер» или «кукурузник»?
Рожь заходила волнами – «кукурузник» теперь прямо прилип к земле, несся к лесу дребезжащей растопыренной этажеркой. И тут его настиг-таки фашист: хлестнул по спине, как бичом, свинцовой очередью.
Немец с победным ревом свечой ушел ввысь, а наш ткнулся носом, опрокинулся – во ржи торчали лишь колеса, будто у перевернутой телеги.
– Едрит твою салазки! – Егорша плюнул с досады и бегом кинулся в рожь: надо хоть вытащить из-под обломков бедолагу-пилота.
Побежал и Вахромеев, побежали солдаты – почти все, кто прибыл недавно на «студебеккерах». Перепотели-перемучились они за эти минуты; хуже нет беспомощно наблюдать, как у тебя на глазах бьют, изничтожают твоего же товарища…
Самолет приподняли за крылья (не такой уж маленький он оказался!), а Егорша с Вахромеевым вытянули из кабины окровавленного, бесчувственного пилота. Оттащили в сторону, облили водой из фляги разбитое лицо. Застонал, пришел в себя.
Уже на носилках летчик вдруг приподнялся, громко, встревоженно спросил:
– А где Просекова?
– Какая там Просекова, – отмахнулся Савушкин. – Ты, майор, был один в самолете.
– Второй наш самолет! – Летчик сел, раздраженно оглядел небо. – Самолет старшины Ефросиньи Просековой. Вы разве не видели его?
Егорша растерянно таращил глаза, еще не понимая, в чем дело, но чувствуя неладное, нечто нежданно пугающее, несущее с собой пустую тишину, как мина, которая упала под ноги и не разорвалась. Он глядел на посеревшее вдруг лицо Вахромеева и мучительно соображал, не понимая и не веря тому, о чем начинал догадываться. Медленно выпустил из рук носилки, которые начал поднимать, и летчик, морщась от боли, сполз по ним на землю.
– Ефросинья Просекова?! – К носилкам кинулся Вахромеев.
– Ну да, – недовольно сказал летчик. – А в чем дело? Почему вы меня трясете?
– Спиридоновна?
– Спиридоновна.
– Она с Алтая?
– Вроде оттуда. Сибирячка.
– Жива она? Жива?
– Была жива. А теперь – не знаю.
Вахромеев долго стоял на коленях, пытливо, с каким-то острым и жадным любопытством вглядываясь в изуродованное лицо летчика, будто старался запомнить его навсегда, на всю жизнь. Потом нагнулся, поцеловал в окровавленный лоб и, круто повернувшись, пошел через рожь к остаткам своего батальона.
Тыльной стороной ладони майор осторожно потрогал лоб (видно, вахромеевский поцелуй причинил ему боль) и спросил Савушкина:
– Он кто ей? Родственник?
– Муж, – сказал Егорша.
– Не заливай, – хмуро буркнул майор. – Ее муж погиб в сорок первом. Он был летчиком.
– То второй муж. А это – первый.
– По личному делу не значится.
– Ну так теперь будет значиться! – подмигнул Егорша, легко подхватывая носилки…
…Через несколько минут Вахромеев вышел на связь со штабом дивизии и получил приказ удерживать высоту 207 – возможна крупная контратака немцев.
Провожая в медсанбат раненого летчика, лежащего в кузове полуторки на ворохе надерганной солдатами ржи, они еще не знали, что спустя полчаса, неподалеку отсюда, за ближайшим поворотом, в ложбине, полуторка будет сожжена и раздавлена гусеницами «фердинанда».
Не знали они и о том, что всем им предстоит кромешный ад в этот день.
15
Эсэсовский взводный цугфюрер Кортиц – так на немецкий манер звучала фамилия Евсея Корытина – чувствовал удушье: тугой воротник мундира липким хомутом сдавливал шею, а расстегнуть его не было возможности – на запястьях стальные наручники.
Он бессмысленно глядел на белый круг стола, медленно трезвел, соображая только одно: в эти мгновения вся его прошлая жизнь вдруг начинает проноситься вспять, мелькает в бешеной обратной раскрутке.
Остроскулое, сухощавое лицо человека с обожженной щекой, сидящего напротив, удивительно ясно напомнило ему события далекого двадцатого года. Этот человек был похож на атамана Анненкова. Тот же дерзкий прищуренный взгляд, острый нос и безжалостная ухмылка, не оставляющая никаких надежд.
Атаман называл его, есаула, командира сотни «черных гусар», по-приятельски «Ешкой». Они были старыми знакомыми, судьба свела их еще в Омске в 1918 году в белогвардейской тайной организации «Тринадцать».
Ешка, как и атаман, безумно любил лошадей, умел пить самогон по-лошадиному из ведра, был хлестким отчаянным рубакой: одним взмахом сабли он разваливал пленных пополам, наискось – от плеча до поясницы. Атаман называл это экстра-классом.
Они расстались у китайской границы, у озера Ала-Куль. На песчаном берегу лежали сотни анненковских вчерашних драгун, пожелавших остаться в Советской России. Их, безоружных, только что изрубили Ешкины каратели-гусары. На окрестные сопки слеталось воронье, тошно пахло кровью и нарождающимся смрадом – стояла июльская жара. Обнимая на прощание закадычного Ешку, атаман прослезился…
– Ты будешь говорить или нет? – сидящий напротив еще раз перелистал зольдбух, брезгливо отодвинул от себя – Тут написано, что ты русский. Ты действительно русский?
Отвечать не то чтобы не хотелось, он не видел в этом смысла. Он знал, что его все равно прикончат. Этим вот эсэсовским кинжалом, демонстративно лежащим на столе, которым, как сказал остроносый, они только что прирезали сторожевую собаку. «А ты похуже собаки», – сказал остроносый.
Он ощущал странное равнодушие. Злобы и отчаяния не было: в последние дни он предвидел свой конец и почти наверняка знал, что из Харькова ему вряд ли удастся уйти. Так уж неловко складывались обстоятельства.
Все-таки удивительно: такие заморенные дохлые хлюсты сумели взять в мертвый капкан его, десятки раз уходившего от верной смерти. Выходит, пришел конец пути, оборвалась долгая веревочка…
А профессоришка тут ни при чем. Старая вонючая крыса, подыхающая от собственной жадности. Впрочем, в злобе он опасен, и они правильно сделали, что связали руки ему, сомлевшему от страха. Ну а врежет дуба – туда и дорога.
– Да я русский, – глухо сказал Кортиц и неожиданно попросил: – Расстегните воротник… Душно.
Те, что сидели напротив, переглянулись: человек с обожженной щекой и другой помоложе – смуглый, с выбитыми передними зубами. Этот второй все время нервно пощелкивал предохранителем парабеллума, лежащего перед ним на столе. В ответ на просьбу Кортица он сплюнул на пол, дескать, противно даже прикасаться к тебе.
«Интересно… – вяло размышлял Кортиц. – Кто они? Переодетые русские разведчики, недавно заброшенные в город? Нет, судя по тощему виду, они из местных, из подпольщиков. Не зря же ему показалось, что он уже встречал где-то того третьего – круглоголового коротышку, который ушел, наверно, сторожить на крыльцо».
– «Гауптшарфюрер», – медленно прочитал остроносый в солдатской книжке. – Это что значит?
– Мое воинское звание.
– Не воинское, а эсэсовское. Я тебя спрашиваю, что оно означает, какой чин?
– Ну вроде вашего старшины. В армейских частях у немцев это фельдфебель.
– Что-то мало тебе, собаке, дали… – неопределенно, без особой злобы, сказал подпольщик. Поднялся, подошел к окну, осторожно прислушался, прижав ухо к ставне. Потом сделал знак молодому, и тот вышел, сунув за пазуху пистолет.
«Что они затевают? – обеспокоенно подумал Кортиц. – И вообще, почему тянут, будто ожидают кого-то?» Он уже понял, что подпольщики интересуются им всерьез и что внезапный его захват – не случайная акция партизан-мстителей. За ним, очевидно, долго следили и небезуспешно, несмотря на его маскировку, на цивильный плащ и шляпу. Теперь постараются вытянуть из него сведения, ради которых все это было затеяно. Но какие сведения?
Решив так, Кортиц приободрился. Значит, еще не конец, значит, на какое-то время ему сохранят жизнь.
А это значит, самые неожиданные новые варианты, которые могут окончиться непредвиденным, в том числе и его побегом, избавлением. Черт возьми, так бывало уже не один раз!
Надо подтолкнуть их к этому, надо бросить им «конец», как говорят матросы, бросая бухту нанята на спасительный причал.
– Я вам могу пригодиться.
Эта фраза была заветной палочкой-выручалочкой Корытина-Кортица, к помощи которой он прибегал в самые критические моменты жизни которая всегда неизменно выручала его.
Именно с этих слов он начал свое знакомство в 1938 году с бывшим врангелевским полковником Семеном Красновым, племянником известного белогвардейского генерала Краснова. Семен Краснов ведал тогда в Париже Гитлеровским «Комитетом по делам русской эмиграции».
А с началом войны пришлось применять палочку-выручалочку довольно часто. И в разговоре с генералом Шкуро, который формировал для гитлеровцев так называемый русский охранный корпус, а позднее – в полевом штабе генерал-полковника Шоберта, командующего одиннадцатой немецкой армией. Генералу, любившему экзотику, весьма импонировала идея личного конного конвоя во главе с лихим белогвардейцем-фельдфебелем. Правда, Шоберту почему-то не понравилось, когда, желая доказать безграничную преданность, начальник конвоя на его глазах зарубил шашкой трех пленных партизан, да еще в азарте прихватил стоявшую на обочине старуху. Впрочем, вскоре и сам генерал благополучно отбыл на тот свет, напоровшись на русскую мину.
– Я могу вам пригодиться…
Подпольщик, который теперь оставался один, неопределенно усмехнулся, потом быстро взял со стола кинжал и приставил в горлу Кортица остро заточенный конец. Эсэсовец сдавленно замычал, закатывая глаза.
– Но-но, гнида! Уймись! Ты же сам просил. – Ловким тычком подпольщик вспорол крючки на тугом воротнике мундира. – Подыши и поговори напоследок.
Теперь стало легче, но появилась жажда, неодолимая, испепеляющая все внутри. Она была хорошо знакома Кортицу по многим похмельным рассветам, когда, просыпаясь, он бросался к ведру или водопроводному крану.
Он боялся просить воды, боялся отказа, который превратился бы для него в пытку.
В это время на полу завозился связанный хозяин дома. Видимо, пришел в себя и жалобным старческим голосом попросил пить.
– Вишь ты, от самогона угорел, фашистский прихвостень! – желчно усмехнулся подпольщик. – Люди кругом с голодухи мрут, а эти паскуды выпивку устроили.
«Ну вот… – уныло подумал цугфюрер. – А уж мне-то он ответит похлеще. Надо торговаться с ними даже за глоток воды».
– Между прочим, – сказал он нарочито равнодушно, – у этого старика в подвале целый склад ценного барахла. Золотишко есть. Можете проверить.
– Вре-ет!! – оживился, завопил пан, профессор, катаясь по полу. – Кому верите? Душегубу – эсэсовцу!
В комнату быстро вошел третий из подпольщиков, тот самый коротышка, что ловко прикинулся дурачком в начале всей этой истории, а потом сумел захлопнуть западню. Это он оглушил Кортица рукояткой пистолета.
– Что за крик? Что тут происходит?
– Да вот «друзья» не поладили, – с усмешкой пояснил остроносый. – Почем зря продают друг друга. Слушай, а может, хрыча выбросить в сад, да это самое… Мешает он тут.
– Нет, нельзя. Его судить будут наши. Вытащи его в соседнюю комнату и запри. А будет орать, мы его успокоим быстро.
Коротышка, оказывается, был за начальника. Когда он сел к столу, придвинул ближе керосиновую лампу, Кортица бросило в жар, потом начало знобить: так вот откуда ему показалось знакомым это круглое, грубо-простоватое лицо…
Алтай, Черемша… Вот где он встречал малорослого, крепко сбитого парня, зычно, уверенно выступавшего там на праздничных митингах…
Он опять, млея от страха, стал будто проваливаться в бесконечную яму прошлого: замелькали перед глазами таежные кручи, рыхлая пена горных речек, разбухших от осенних дождей… Увиделась китайская погранзастава, где его долго и старательно били, обобрав буквально до кальсон, а потом извинялись, показывая желтые лошадиные зубы. Он помнил эту зловещую Черемшу, слишком хорошо помнил…
– Водички бы… Стаканчик.
К немалому удивлению, командир-подпольщик сразу же налил ему воды и поднес напиться, не обращая внимания на гневные протесты остроскулого. Кортиц старательно прятал лицо от лампы в тень: он панически боялся быть узнанным.
– А теперь к делу! – резко и властно произнес коротышка. – Вот я отыскал и принес план города. Хорошо видно? Ты должен показать на нем все главные объекты минирования. И дать пояснения.
У Кортица сразу отлегло от сердца: он понял, что будет жить. Правда, неизвестно сколько, но это пока не имело значения. Он мог сейчас затеять примитивную торговлю, прикидываться, волынить, тянуть время – они пойдут на все. У них на него слишком высокая ставка, и он постарается не разочаровать их в этом, даже более того, накинет себе цену. Они обязательно клюнут.
Они просто не знают, с кем имеют дело. Неопытные новички в таких вещах, они будут идти на ощупь, а он уже теперь видит финиш. И пойдет к нему не настырно и прямо, как они к своей цели, а станет петлять, делать заячьи откидки по сторонам, мазать им нос совсем другим салом.
– А какие гарантии? – Кортиц настолько освоился с обстановкой, что даже выложил на стол руки в никелированных наручниках с клеймом фельджандармерии. А почему бы нет: пусть это лишний раз подчеркивает неравенство «партнеров по переговорам».
Человек с обожженной щекой многозначительно, с явной угрозой поиграл лежащим на столе кинжалом. Однако командир спокойно выдерживал свою роль. Скептически улыбнулся:
– Гарантии насчет твоей жизни? Это дело сложное… В лучшем случае можем гарантировать плен, а потом суд. Как положено по закону.
«Врет, конечно, – мысленно усмехнулся цугфюрер. – И при этом думает, что я поверю в эту дешевую игру. Ладно, пусть думает. Главное – натолкнуть их на план действий, нужный мне самому».
– Ну а если я вам ничего не скажу? – медленно произнес Кортиц, делая задумчивый вид. – Если я не знаю эти самые объекты, если я их не видел?
Квадратные часы на стене долго и хрипло стали отбивать время: одиннадцать… Этот бой сразу будто подстегнул всех, заставил вдруг с особой беспощадной ясностью осознать зыбкость происходящего. Тут все держалось на минутах, даже на секундах, все балансировало на невидимой хрупкой грани. Время решало все, с той только разницей, что для него оно тянулось слишком медленно, а для них – слишком быстро.
– Ты думаешь, мы будем церемониться, чтобы развязать тебе язык? – резко, со злостью сказал командир. – Будь уверен, мы пойдем на все. Я знаю, такие гады, как ты, не выносят и вида собственной крови, Хотя чужая для них – вода.
– Вы не так меня поняли! – обеспокоенно завозился цугфюрер. – Я готов отвечать! Пожалуйста, я даже покажу на карте несколько минированных объектов. Но я же не знаю их все. Ей-богу, не знаю.
– Давай показывай.
Сложенными вместе руками Кортиц показал четыре-пять объектов на плане, одну улицу сплошного минирования: командир-подпольщик обводил их в кружки, с ученической старательностью прикусив губу. Гауптшарфюрер едва сдерживался, чтобы не ударить по этой стриженой ненавистной голове. Поднять скованные руки и, гэкнув, врезать, как колуном, в древесную чурку… Но это было бы безрассудством – он понимал.
Терпение и еще раз терпение… Пускай убедятся, пускай поймут, что эти его сведения сущий пустяк, капля в море, мало чего стоящие баранки на огромном пространстве осажденного города. И вот тогда он сделает решительный ход: по диагонали в дамки.
Поняли… Переглянулись, и задумались оба. И он наверняка знал, о чем они сейчас думают. Этот долговязый с пошкрябанной щекой – как его, Кортица, теперь ликвидировать? Прямо в доме или сначала вывести в сад?
И еще прикидывает: надо ли читать скороспелый приговор или без всякого приговора?
Командир-коротышка тот умнее. Его беспокоит другое: что еще можно вытянуть из эсэсовского цугфюрера?
И конечно, оба они обеспокоены одним и тем же: время позднее, пора кончать дело. Не ровен час, его, Кортица, хватятся в штабе айнзацкоманды и пошлют на розыски. Не будет же он говорить им, что в журнале оперативных действий числится ушедшим на всю ночь на самостоятельное спецзадание. И уж тем более не раскроет истинную цель спецзадания; ликвидировать барыгу-профессора, чтобы основательно почистить его антикварный подвал…
– Вы можете мне верить или не верить… – тихо, вкрадчиво начал Корытин-Кортиц. – Но скажу вам по совести: я готов помочь вам. Да, я был вашим врагом еще с гражданской войны, я много пролил русской крови… Но поверьте…
– Заткнись, падло! – Остроносый схватил кинжал и разъяренной кошкой метнулся через стол на цугфюрера. И все-таки не достал, не успел: коротышка с непостижимой быстротой перехватил занесенную руку. Тяжело дыша, сказал сквозь зубы:
– Сядь, Миша… Я тебя предупреждаю. Последний раз предупреждаю.
Чувствуя холод на висках, Кортиц с трудом перевел дыхание: пронесло… И подумал, что, пожалуй, ошибся, приняв командира-подпольщика за бывшего алтайского строителя. Нет, то был обычный деревенский вахлак, этот – из отборных большевистских кадров, не случайно оставленный в городском подполье. Железная хватка…
– Я по совести… от души и от сердца… – бормотал Кортиц, и в голосе его слышалась теперь неподдельная дрожь. – Рано или поздно раскаяние… Жизнь становится маятой… Рвет душу…
– Ладно, не канючь! – Командир прищурился, встал со стула: – Говори толком, что ты хочешь?
Кортиц напрягся, сделал необходимую, очень нужную сейчас паузу. Отчетливо произнес:
– Я знаю, где расположен штаб минирования города и бывал в нем. Я помогу вам организовать налет на него. Вы возьмете важные документы. Вы спасете город. А я… я хоть сколько-нибудь искуплю свою вину…
Цугфюрер Кортиц действительно знал месторасположение штаба минирования, хотя и никогда не бывал в нем (тут он приврал для значительности). Но знал он и другое: особняк, где находился штаб, был сущей западней для любой, даже самой изощренной диверсионной акции.
Ход был сделан, и эсэсовец, прикрыв глаза, чутко, настороженно ждал: клюнут или не клюнут? Он знал, что у них нет иного выхода, но все-таки опасался, особенно этого необузданного бешеного Миши…
Время опять прессовало в секунды минувшие годы. Только теперь память вдруг сделала странный скачок.
Кортиц увидел обрюзгшую физиономию «генерала» атамана Шкуро, его бритую шишкастую голову на фоне черного знамени с эмблемой волчьей пасти. Увидел угрюмые, насупленные лица «господ офицеров»: они судили судом чести его, Корытина-Кортица, за кражу полмиллиона марок из сейфа охранного корпуса.
У него впервые в жизни текли слезы: он ждал расстрела, ждал неминуемой смерти. Как и сейчас. Как и сейчас, тогда тоже размашисто-тяжело стучал на стене маятник, отсчитывая, казалось, последние минуты его верченой грешной жизни.
А теперь?
– Не верю я этому гаду. Ни единому слову не верю! – Рослый подпольщик Миша со звоном вогнал кинжал в металлические ножны. Потом подошел к двери комнаты, куда полчаса назад упрятал связанного пана профессора. Прислушался. – Но попробовать надо… Цугфюрера я беру на себя. От меня живым еще никто не уходил.
– Горазд! – поднялся командир. – Вставай, эсэсман! Пойдем отмывать твои грехи.
Для бодрости Кортицу дали еще стакан воды. Шефствующий над ним Миша бесцеремонно ткнул под ребро дулом пистолета: «Ауф!»
Но гауптшарфюрер боялся не его: резкого, дерзкого и безжалостного. Он лишь опасался его. А по-настоящему боялся, испытывая леденящий душу страх, круглоголового, мальчишески некрупного командира.
Он возвращал его в грязное гнусное прошлое. Он олицетворял его будущее, в котором было только одно – неминуемое возмездие.








