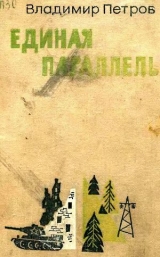
Текст книги "Единая параллель"
Автор книги: Владимир Петров
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
Танк ревущим смерчем промчался вдоль лесной опушки, выскочил на луг и тут неожиданно остановился, будто удивленно замер. В каких-нибудь двухстах метрах стоял зеленый двукрылый русский самолет «русфанер», из тех самых, что заслужили недобрую славу среди солдат вермахта за свои адски-беспощадные ночные бомбежки.
«Русфанер» готовился к взлету: в его заднюю кабину грузили раненого (очевидно, важную персону, судя по стоящему рядом штабному автомобилю).
– Форвертс! – рявкнул Бренар, не опускаясь внутрь башни. Ему хотелось видеть самому, как затрещит под танком этот смертоносный хрупкий «ночной дьявол».
Танк заметили, засуетились, засверкал на солнце пропеллер. Уже вблизи от самолета майор Бренар изумленно прищурился: в переднюю кабину вскочила женщина-пилот. В спешке она не надела шлема и ветер от винта разметал веером ее длинные светлые волосы.
Бренар соскользнул вниз, ударил по плечу водителя-механика: скорость, скорость!
«Ночной дьявол» и «русская фурия» – это был стоящий приз за все мытарства кровопролитного безумного утра.
13
Летать с каждым днем становилось труднее, подчас невозможно было понять, где наши, где немцы. Все тут под Харьковом переплелось-перепуталось. Улетая утром на задание, разыскивая растянутые и разбросанные танковые бригады, Ефросинья уже не один раз на обратном маршруте попадала под огонь немецких пулеметов.
Линия фронта на штабной карте напоминала очертание огромной ладони, прихлопнувшей поля Харьковщины. Указательный палец ее был вытянут к Богодухову, а оттопыренный большой – к Волчанску, он с каждым днем вcе ближе придвигался к окраинам Харькова: армии Степного фронта стальной хваткой постепенно стискивали горло вражеской обороны.
Стояли ясные дни, и передний край хорошо просматривался с высоты полета. Дымами, снарядными разрывами. густыми султанами пыли он змеился по полям и ложбинам, переползал скаты пологих высот. Будто гигантский огненный пал неудержимо полз по земле, оставляя после себя изрытую черноту, серый пепел да обугленные, искореженные стволы деревьев.
Гарь чувствовалась даже на высоте. Она была не похожа на ту, которая синими пластами ложилась в лога во время памятных Ефросинье таежных пожаров. Эта пахла кисло и тошно, от нее до рези слезились глаза, тосклива заходилось сердце.
Накануне вечером, возвращаясь от Валок, Ефросинья напоролась на зенитную батарею: немцы прорвались на наши тыловые коммуникации. Снаряд протаранил обе плоскости, и моторист Сагнаев до полночи латал дыры полотном-перкалем, а нынче с рассвета закрашивал их эмалитом.
Атыбай пел казахскую песню, негромкую, однообразно-унылую, каждое коленце заканчивая тяжким вздохом, будто ехал на арбе с надломленным колесом – через пару-другую метров арбу основательно встряхивало.
Ефросинья грелась неподалеку на солнышке, слушала. Сквозь полуприкрытые ресницы виделась ей раздольная степь под Павлодаром, стоянки учебного аэродрома, пропахшего бензином и полынью, метелки ковылей в мареве размытого горизонта… Она не раз слышала эти песни, удивительно созвучные ветреному простору, во все стороны распластанной голубой бесконечности. Там, в степи, песня улетала, не возвращалась, здесь ей тесно, оттого кажется она скупой и тоскливой.
– О чем поешь, Атыбай?
Он спустился со стремянки, поставил на траву ведерко с краской, хмуро посмотрел на Ефросинью:
– Про любовь пою, командир. Зачем спрашиваешь, разве не понимаешь?
Ефросинья смущенно улыбнулась, вспомнив, как неделю назад случайно нашла в инструментальном ящике альбом Атыбая. Он неплохо рисовал и числился в эскадрилье вроде нештатного художника: писал штабные объявления, обновлял номера на машинах, иногда давал рисунки в боевой листок. В альбоме она обнаружила несколько женских портретов и в каждом, вообще говоря, узнала себя… Немножко непохожую и почему-то с едва заметным, но явным монгольским разрезом глаз. Посмеялась: экая скуластая дочь степей!
Конечно, она догадывалась, в чем дело. Да и нельзя было не замечать затаенных, горящих ревностью глаз моториста всякий раз, как только она заговаривала с кем-нибудь из посторонних. Даже с дядькой Устином.
– Любовь – это радость, Атыбай, – поднимаясь, сказала Ефросинья. – А ты поешь грустно.
Подошла, заглянула ему в глаза: чудак парнишка… На семь лет моложе – ну какая может быть любовь? И смех, и слезы…
– Нет, – сказал моторист. – Неправильно, командир! Любовь бывает хорошо, бывает – плохо.
Она опять вспомнила альбомные рисунки: а ведь он ее придумал. Нарисовал, создал для себя такой, какой она не была на самом деле. И ничего удивительного в этом нет, любовь вся на думах, на воображении – это ее крылья.
Она сама-то тоже так поступала в памятном тридцать шестом: чуть ли не с крылышками воображала себе залетку Коленьку.
А теперь?
Может, и теперь все только в мыслях, в думах, в сладком, больно-тревожном наитии? У нее же нет ничего реального, кроме этой случайной фронтовой газеты…
Может, костер потух давным-давно, а она оживить неживое пытается, раздуть пламя из несуществующей искры?
Может, вообще не стоит ворошить прошлое?
Лейтенант Полторанин по-своему был прав, потому что и в самом деле: любовь на войне, что тополиная пушинка над огнем. Вспыхнет и сгинет. Любовь любит заглядывать в будущее, в завтрашний день, а здесь все зыбко, недолговечно.
Сомнения, одни только сомнения… А останавливаться, отрекаться ей, пожалуй, поздно. И просто – невозможно.
Что ж, любовь и живет сомнениями. Хорошо известно: кончаются сомнения – кончается любовь.
– Не горюй, Атыбай! У тебя еще будет любовь… Своя, истинная, настоящая.
Моторист ее понял. Молча поднял ведерко, молча пошел к скрытой в кустах технической землянке. У порога обернулся, долго и пристально глядел на Ефросинью. Взгляд был укоряющий, строгий, жалеющий. Но без обиды.
«Вот и объяснились…» – невесело подумала она. И странным, до невероятности неподходящим по месту и времени показался ей вдруг этот непредвиденный разговор на будничном фронтовом аэродроме, у самолета, остро пахнущего эмалитом.
У нее когда-то было не так… Пришла к нему в сельсовет, села на лавку и сказала, что любит. И баста – все остальное не имело значения.
Правда, потом проплакала в подушку всю ночь. От стыда и от радости…
На дальнем конце стоянки появился майор Волченков, шел тропинкой мимо замаскированных в орешнике самолетов. Помахивая планшетом, зычно давал указания, поругивал мотористов, покрикивал на заправщиков – деловой непреклонный мужик.
Направлялся он к просековской «семерке» и, как видно, спешил. Рапорта недослушал, шагнул к самолету, на ощупь ладонью попробовал свежие латки, залитые эмалитом.
– Порядок в авиации! Дырки были – дырок нет. Ну, а ежели будут, так на новом месте. Как настроение, Просекова?
– Норма, – по-инструкторски ответила она. – Бензин – по пробку, пропеллер крутится, расчалки звенят. Жду «добро» на вылет.
Когда-то на первых порах, еще в запасном полку, Ефросинья побаивалась ретивого комэска. Странное чувство испытывала к нему: уж очень он напоминал Костю, погибшего мужа. Такой же бровастый, осанистый, с решительной отмашкой на ходу, он был и по-Костиному грубоват, пер всегда напролом, деликатность с женщинами считал делом зряшным. Он, помнится, сразу развернул амурную атаку, и уж как Ефросинья выстояла, одному богу известно. Честно говоря, нашла ключик: на грубость – грубостью. Он сначала дивился, потом привык. Это, пожалуй, даже импонировало ему.
Комэск придирчиво оглядел Ефросинью с головы до ног, чем-то остался недоволен.
– Вид у тебя, прямо скажем, неважнецкий… Квелый какой-то. Вроде бы не выспалась или влюбилась?
– Так точно! – сказала она. – Влюбилась. И уж конечно, не в вас.
– Брось дурить, Просекова! Я почему спрашиваю: предстоит ответственный вылет. И мне важно, чтобы ты была в полной боеспособности. А может, это после вчерашнего, когда зенитки тебя потрепали? Это бывает, по себе знаю. Так ты скажи откровенно.
– Со мной полный ажур, – сухо сказала Ефросинья. – А ежели кто-то накануне «горючего» переложил, так надо крепкого чая выпить. Зрение просветляет.
Она откровенно намекала на пристрастие комэска к боевым ста граммам, которые он частенько удваивал-утраивал. Пусть знает и не хамит с утра пораньше.
– Но-но, понесла-поехала! – Майор сердито потрепал чубчик под козырьком. – Сколько раз тебе говорил: не умеешь с командиром разговаривать. Ну гляди, Просекова, когда-нибудь ты у меня попляшешь! И моториста вон тоже к разгильдяйству-панибратству приучила. Какого черта, он там за фюзеляжем прячется, подслушивает? Эй, рядовой Сагнаев, ты что там делаешь?
– Лючки проверяем! Как по инструкции. – Моторист вышел из-за самолета, вытянулся, затаив ехидную усмешку («Точно подслушивал!»). – Не надо? Тогда не будем…
– А ну вас всех! – Комэск в сердцах махнул рукой, потом отвел Просекову в сторону на кошенину, откуда уже начиналась взлетная полоса. Снял фуражку, отер платком лицо, промакнул лысеющую макушку. Недовольно проворчал: «Кадры-работяги, чтоб вас порастрясло… Вот поставят на отдых, на гауптвахту буду сажать. Ладно, ладно, не оправдывайся, хватит языком чесать! Будем говорить о деле».
Через двадцать минут предстоял вылет: им вдвоем, в паре. Маршрут старый, проторенный – на Золочев и оттуда к Богодухову. Не долетая, над Забродами, поворот на девяносто градусов, прямо на юг, курсом Валки. Посадка в районе Александровки, чуть западнее, у полевого госпиталя. Почему госпиталь? Потому что такое задание: срочно вывезти двух тяжелораненых старших командиров. Почему не санитарная авиация? Приказано нам, штаб знает, что делает. И вообще излишние вопросы – свидетельство плохой сообразительности. А это не украшает боевого летчика.
Высота полета прежняя, строй – пара, углом вперед, дистанция двести метров, противозенитный маневр выполнять самостоятельно, при атаке истребителей уходить на бреющем. Дополнительная развединформация: на второй половине маршрута активно действуют одиночные истребители-охотники из специальной авиаэскадры асов «Удет» с опознавательным знаком на фюзеляже – кобра в боевой стойке.
…Майор летел первым, Ефросиньина «семерка» – сзади, чуть ниже, чтобы лучше видеть ведущего на фоне неба (иначе защитная окраска майорского «кукурузника» сливалась с пестрой зеленью земли).
Шли на «кисельной высоте» – триста-четыреста метров. Это гарантировало от прицельного пулеметно-автоматного огня снизу, а главное, давало возможность при встрече истребителей противника быстро нырнуть к спасительным перелескам.
Ефросинья вспомнила грустное лицо моториста и укорила себя: напрасно, пожалуй, обидела парня… Можно было деликатно отмолчаться, пусть думает как ему хочется, пусть живет своими надеждами – это ведь ей не мешает. Да и надежды сейчас у каждого как осенние паутинки: один лишь шаг – и ничего нет. Война…
Нет, не может быть других мерок у любви даже на войне. А обнадеживать попусту – значит обманывать. А может, в обманных грезах ничего плохого нет? Ведь уже хорошо одно то, что они есть, что они рождаются и держат, окрыляют человека в трудные минуты.
Она тоже жила обманом, сладким, трепетным обманом в то незабываемое довоенное лето… И теперь словно бы возвращалась к прошлому, совершив огромный круг в семь лет, снова видела-пересматривала былое до самых незначительных деталей. Только теперь смотрела на него с иронией и доброй грустинкой, будто со стороны и даже с высоты – вот как из кабины летящего самолета.
Там много было незрелого, опрометчивого, легковесного, до смешного нелепого… Но она не хотела ничего переделывать, сглаживать или приукрашивать – прошлое было дорого таким, каким было, каким вернулось нежданно-негаданно.
Вернулось… Да, пожалуй, вернулось. Не все, а лишь немногое, самое памятное и значительное. Опять, как и тогда, отчетливо и постепенно, день за днем, раздваивался мир, как расслаивается-лопается переспелый степной арбуз. Была она сама с этой газетой и вчерашним письмом-ответом из редакции, и было все остальное – в другой половинке, и эта другая половина мира виделась ей чужой, не своей. Близким могло стать лишь то, что проходило через призму ее проснувшегося чувства, что было связано с поиском, ожиданиями, надеждами.
Да и саму войну она воспринимала теперь через свою любовь и хорошо знала, что, если останется живой, навсегда запомнит эти дни именно такими: в сочетании трагического и радостного.
Запомнит предполетную беседу с комэском, у которого на лбу несолидная мальчишеская челка, запомнит раскосые печальные глаза казаха-моториста и этот полет над утренней землей, где в полусгоревших яблоневых садах мертво белеют сморщенные плоды. Вспомнит не раз, как пристально, с затаенной надеждой, вглядывалась через борт кабины в темно-зеленые сосняки внизу… Где-то там должна быть Колина дивизия, его окопы, его земля. Все это был и ее кровный мир: израненный, окровавленный, по радостный и неповторимый.
Вчера, получив письмо из редакции газеты («сообщаем, номер полевой почты…»), она впервые пошла на вечерние фронтовые танцульки. Под жеманные звуки аккордеона в полусгоревшем сарае она вдруг снова почувствовала себя юной, уверенной, красивой. Партнеры-летчики расшаркивались наперебой…
А ведь, очевидно, вот отчего встревожился нынче поутру моторист Сагнаев, вот откуда взялась его заунывная песня про золотоволосую алтын-кыз! Он же был на танцах, жался в дальнем углу, оглядывая оттуда танцующие пары.
И майор Волченков был. Правда, он не танцевал, а весь вечер простоял рядом с сержантом-аккордеонистом, осанисто запрокинув голову и прижав к правому боку фуражку «крабом» вперед. Может, не умел танцевать, а скорее всего (Ефросинья подозревала) просто считал неудобным для своего командирского положения расшаркиваться-приглашать на танцы подчиненных девушек-оружейниц и ее, старшину Просекову.
Он и в воздухе был резковатым, занозистым, в плотной паре с ним ходить нелегко, маневры делал неожиданные и рисковые, ставя ведомого в положение разини. Потом, оглядываясь, грозил кулаком.
Сейчас его машина шла впереди спокойно, лишь изредка «плавала» по горизонту в потоках нагретого, восходящего от земли, воздуха.
Ефросинья вздрогнула, задохнулась от испуга, когда увидела вдруг тонкую, дымчато-желтую трассу, перечеркнувшую наискось самолет Волченкова. Пулеметная трасса упала сверху – атакует истребитель!
Сваливая «семерку» в пике со скольжением, оглянулась, вжалась в сиденье: над головой промелькнула распластанная тень «мессера», ударил в лицо упругий воздушный поток.
Приближаясь к земле, она успела увидеть падающего листом ведущего, который переворотом ушел от повторной очереди. Потом она неслась над руслом реки, над камышами, а приметив справа овраг, резким креном направила туда машину. Через несколько минут взглянула на компас: надо было корректировать курс.
Набрала высоту, огляделась. Ни «мессера», ни самолета Волченкова не было видно. Пристыженно подумала: ох уж эта горемычная тактика «кукурузников» – спасайся как можешь… Где он сейчас, занозистый комэск Волченков? Может, сел вынужденно в поле или на проселке, может, горящим факелом врезался в лес, а скорее всего, как и она, «разбежался во все стороны» – майор летчик бывалый, опытный.
Ну что ж, в предполетной подготовке этот вариант тоже учитывался: дальше идти самостоятельно. Только теперь она вспомнила о бомбах. Майор Волченков настоял на сотенной нагрузке – на ее «семерке», как и на самолете комэска, оружейники подвесили под плоскости по две пятидесятикилограммовые авиабомбы. Бывший бомбардировщик Волченков любил подбросить фрицам горяченьких гостинцев. Как он вышел из опасной передряги? Ведь не говоря уже о затрудненном маневрировании, вынужденная, случайная посадка с бомбами под крылом – дело крайне рискованное. Наверное, сбросил их куда попало. Ей тоже следовало сбросить бомбы во время атаки «мессера», но она просто забыла о них.
Да, очевидно, и к лучшему. Еще пригодятся.
Всю остальную часть маршрута Ефросинья поминутно оглядывалась, по-курсантски вертела головой, чему когда-то учила в аэроклубе учлетов. И не потому, что боялась новой атаки вражеских истребителей – все еще надеялась увидеть заплутавший самолет майора Волченкова.
Внизу чувствовалось приближение передовой: клубилась пыль за танковыми колоннами, которые спешили к Богодухову, в район нараставшего немецкого контрудара. В стороне черными торпедами пронеслись три девятки остроносых штурмовиков-«илов».
На днях она уже летала на Богодухов, возила штабного полковника, который рассказал ей потом об огромных трофеях, захваченных танкистами-катуковцами в городе. Полет проходил вечером, в сумерки, и многое на земле она просто не разглядела. А сейчас удивлялась: столько было внизу разлито сочной солнечной желтизны, неожиданной после изрытых войной черных полей от Белгорода до Харькова!
Здесь раздольно цвели подсолнечники, и желтизна их была мерцающей, переливчатой, очень похожей на то живое янтарное пламя, которое встает по утрам в таежных распадках над зарослями огнеголовых «жарков».
Ей захотелось снизиться совсем, прильнуть крыльями к этой радостно-переменчивой желтизне, чтобы от пропеллерного ветра заколыхались, закачались черные упругие диски цветов, роняя, как дождь, ночную росу…
Она опять забыла про подвешенные авиабомбы, вспомнила о них, когда уже надо было заходить на посадку. Недобрым словом помянула Волченкова: вообразил из себя лихого бомбера и ей навязал этот опасный груз… Она имела полное право избавиться от бомб, бросить их прямо в поле. Но уж слишком дорогостоящими были бы эти пустые взрывы.
Решила садиться с бомбами – все-таки она бывший инструктор.
Предварительно, из предосторожности, прошла низко вдоль опушки, осмотрела место посадки и убедилась: место ровное, можно притереть машину без сучка, без задоринки – легонько «на три точки». Ну, а к риску не привыкать.
Хорошо села, легко – «кукурузник» даже не вздрогнул. Зарулила поближе к лесу и, выпрыгнув на крыло, первым делом из-под ладони еще раз оглядела небо: не видно ли Волченкова? К самолету прямо по целине, по косогору уже спешил штабной «виллис» – везли раненых командиров.
Ефросинья сняла шлем, бросила его на сиденье в кабину, с удовольствием вдохнула луговой воздух, пахнущий ромашкой. И тут увидела танк… Он медленно выполз из-за кустов на противоположном конце лесной опушки – приземистый, серый от пыли, плоский, как жук-рогач. Недобро, ощупывающе-грозно повел из стороны в сторону орудийным стволом.
Еще не понимая происходящего, Ефросинья вздрогнула, чутьем предугадывая беду: танк был каким-то странно-непохожим, явно чужим – она таких не видела никогда. А потом прямо на ее глазах началось страшное…
Многотонное серое чудище с нарастающей скоростью устремилось на госпитальные палатки, на санитарные двуколки, с которых снимали только что доставленных раненых. Цепенея от ужаса, Ефросинья видела все это, видела рухнувший брезентовый тент с опознавательным красным крестом, летящие в стороны обломки, обрывки, обезумевших бегущих санитаров. Она лишь в начале услыхала звериный рык танкового мотора, потом в ушах ее рев этот превратился в непрерывный людской вопль, от которого холодело, останавливалось сердце…
Она успела взлететь буквально из-под танковых гусениц и сейчас же над лесом, над верхушками деревьев, заложила машину в глубокий вираж, поворачивая обратно. Теперь сверху она отчетливо видела бронированного зверя с черным крестом. Он уже не был для нее грозным и страшным, скорее, беспомощным перед скоростью и высотой. И еще – перед двумя «полусотками», которые висели в замках бомбодержателей.
Она не могла промахнуться, не имела права. Она обязана была не просто сбросить эти бомбы, а положить их – со всем своим летным инструкторским мастерством, буквально положить на головы людоедов, сидящих в танке. Даже если ей суждено будет перевернуться и погибнуть от своей же взрывной волны.
…Самолет, изрешеченный осколками, легко, как пушинку, бросило вверх силой взрывов, наклонило резко, поставило на ребро – заваливаясь, он пошел вниз. И все-таки Ефросинья справилась с управлением, выровняла машину и снова направила ее в небо.
Потом сделала победный круг.
Внизу чадящей головешкой на боку лежал «тигр» с перекошенной взрывом башней.
14
Медленно и кровопролитно шло наступление.
Немцы дрались упорно, цеплялись за каждую балку и высоту, уходили в осатанелые контратаки всякий раз, если их выбивали из какого-нибудь села; лезли настырно, десятками теряя танки, самоходки, бросая под палящим небом тысячи незахороненных трупов. Теперь им было не до похоронных церемоний, не до белых крестов с нахлобученными солдатскими касками – вступил в действие безжалостный приказ Гитлера: за отступление расстрел.
Дивизии Степного фронта намертво вцепились в загорбок отступающего врага, теснили, давили яростно, наседали, не давая ни минуты передышки. Немцы пошли было на хитрость: с наступлением ночи открывали беспорядочный огонь, имитируя контратаки, и за этой ширмой отрывались, спешно отводили потрепанные части на новые рубежи обороны.
Однако маневр быстро разгадали, и теперь, вот уже целую неделю, наступление советских дивизий шло круглосуточно: с приходом ночи в атаку вводились вторые и третьи эшелоны.
Батальон Вахромеева редел с каждым днем, пополнялся и снова редел – учебным его давно называли только по привычке. Какая уж там учеба, когда сутками продолжались изматывающие бои…
Бессонница вконец измочалила, опустошила солдат. Даже под Сталинградом не было такой страшной, отупляющей души усталости. Люди засыпали на ходу, в атаке иные падали не от пуль, а сморенные зноем и сном. Поистине «падали, как убитые», рискуя быть раздавленными своими же танками или колесами пушек, которые шли прямо в атакующих пехотных подразделениях.
Медленное наступление со вчерашнего дня и вовсе застопорилось, натолкнувшись на плотную стену лесных массивов, охватывающих Харьков с запада. Все дороги, опушки, даже лесные тропинки немцы густо минировали, наделали многочисленные заслоны и засеки. Используя дубравы и сосняки, скрытно передвигали войска, наносили чувствительные фланговые удары. Тут все готовилось заранее: и позиции, и связь, и тыловые коммуникации.
Очень скоро выяснилось, что наступать на открытой местности и наступать в лесу – далеко не одно и то же. Полки и батальоны теряли локтевую связь, сбивались с боевых направлений, плутали в ночном лесу, иногда с боем обрушивались на тылы и фланги своих же частей.
Первая ночь боевых действий в лесу стала кошмарным уроком: батальон Вахромеева атаковал на рассвете село, которое, как потом выяснилось, должно было быть освобождено полком соседней дивизии.
На минных полях и в огне лесных засад батальон потерял почти половину людей, всю приданную артиллерию. Оставшиеся – изодранные, исцарапанные, подавленные неудачей – просто не держались на ногах.
Они уже перешагнули предел человеческих возможностей, и потому, выйдя на опушку, тут же все попадали на мокрую росистую траву. Как по команде. Ни брань, ни выстрелы, ни сигнальные ракеты не помогли – батальон спал мертвым сном.
Надо было оценить обстановку.
Опушка являлась несомненно господствующей высотой. Уже по одному этому не стоило продолжать попытки разбудить солдат: на случай боя лучшей позиции в окрестностях не придумаешь. К тому же внизу, у подножия, перекресток двух полевых дорог – высотка явно контролирует положение.
Главное – не уснуть самому.
«Нужно бы выставить боевое охранение… Лучше из тех отставших, что продолжают поодиночке появляться из леса… Приказать им, пока они не уснули… И еще надо срочно послать связного с донесением в штаб, сообщить свое место… Вот хотя бы Афоньку Прокопьева… Разбудить, растолкать и послать немедленно…»
Чувствуя, как утро начинает меркнуть, растворяться в теплом голубом тумане, Вахромеев тряхнул головой, сделал несколько шагов и сунул лицо в листья дудника, облитые холодной росой. Сразу взбодрился, свернул цигарку – вроде бы просветлело в глазах.
Ощутимо начинало припекать солнце: эка, черти, разлеглись прямо на солнцепеке! Ничего, вот прижарит, расползутся в тень по кустам. А куда деться ему самому и сколько он вообще может выдержать?
Пятеро солдат выкатили из лесу сорокапятку, у них еще хватило сил дотащиться с ней прямо к стоявшему столбом Вахромееву. Тоже повалились на землю, обнимая колеса и лафет. А шедший сзади лейтенант-артиллерист даже доложил Вахромееву, правда далеко не по уставному:
– Прибыли, мать ее перетак! Остальное оставили там – на минах.
Честь он отдавал левой рукой – правая была в грязном бинте и покоилась в петле из командирского ремня, который лейтенант приспособил на шею.
– А снаряды есть? – спросил Вахромеев.
– Сейчас подвезут. Там еще четверо волокут снарядный передок.
Тишина стояла оглушительная. Луговая, раздольная, растушеванная тягучим стрекотом кузнечиков. Звук этот не нарушал тишину, а вплетался в нее, жил в ней баюкающим шуршанием, от которого неудержимо клонило в сон, как от шороха хозяйского веника в уютной вечерней избе…
– Я в бодрости, – сказал лейтенант. – А вам бы часок придавить, товарищ капитан. Надо бы…
Вахромеев судорожно зевнул, отмахнулся: «Тоже нашелся бодряк – у самого глаза слипаются, хоть пальцами раздирай».
– Тут должны быть окопы, – сказал артиллерист. – Мы с пушкой вышли как раз на вырубку. Свежие пеньки – значит, немцы недавно рубили, чтобы стенки окопов крепить. Аккуратисты.
Окопы они в самом деле вскоре обнаружили: по северному склону высоты. Свежие, добротные, с брустверами, хорошо заделанными дерном – трава еще не успела пожелтеть. Видимо, немцы оставили окопы без боя, отошли по какой-то причине: стреляных гильз нигде не видно. И вообще окопы эти внушали смутное подозрение: вроде заготовленные впрок в ожидании хозяина.
Лейтенант обнаружил у кустов терновника командирский блиндаж с легким, пустяковым накатом. Спустился туда, да так и не вылез: слышно было – сразу захрапел в холодке.
Вахромеев размышлял: что же делать?
В любом случае надо дать людям поспать хотя бы час-полтора – война от этого не остановится. Все остальное потом: связь с полком, доклад обстановки, новое задание. И «фитиль», который наверняка уже приготовлен для него в штабе полка, а может, и у самого комдива.
Ничего, подождут с «фитилем»…
Никак не мог вспомнить фамилию лейтенанта-артиллериста, командира приданной вчера, а сегодня уже не существующей артбатареи. А звали его Боря – это точно. Ночью в бою на просеке артиллеристы все орали, таскаясь со своими пушчонками: «Боря приказал сюда, Боря – велел туда!» Дрыхнет Боря, тоже умотался вдрызг…
Слева, между сосняком и лесополосой, золотился ржаной клин – налитые колосья узрели под серп. Рожь чуть-чуть шевелилась на ветру, будто плескалась речная гладь, а за лесным мысом сразу разливалась вширь мерцающим половодьем.
Вахромеев присел под ракиту, положив на колени автомат, прищурился, зачарованный переливчатой игрой спелых колосьев, и вдруг остро, освежающе приятно ощутил речную прохладу, с удивлением увидел, как ржаная полоса меняла окраску: светлела, голубела, набирала прозрачность и вот уже сделалась сизой полуденной заводью.
Он увидел родную Шульбу такой, какой виделась она ему из окошка сельсовета: с огромным водопойным плесом, с малинниками на противоположном косогоре, с гранитными крутолобыми камнями, облитыми волной, и стрекозами, которые неподвижно подолгу торчат в воздухе, будто разглядывая галечное дно своими глазищами, похожими на глянцевые зерна марьина коренья.
У берега был заветный камень – буровато-серый, с искристыми прожилками, наполовину ушедший в воду и четко разделенный по этой половине зеленоватой чертой. Тот самый камень, на котором сидела Фроська в памятное июньское утро…
Сейчас он увидел ее на другом берегу, все в том же домотканом простеньком платье, с туеском на ремне, перекинутом через плечо, – она собирала малину. «Ну какая там может быть ягода? – усмехнулся он, удивляясь ее простодушию. – Пацаны давным-давно весь крутояр обшарили».
На его крик она обернулась и долго глядела из-под ладони, не узнавая. Потом радостно всплеснула руками, отбросила за спину косу и кинулась к берегу. Ей бы перебрести: снять бутылы и перейти речку – тут же мелко, едва ли по колено! Но она почему-то панически боялась воды, все бегала, суетилась, прыгала по прибрежным камням.
Хорошо, что чуть ниже, над перекатом, оказались деревянные кладки: длинная огородная жердь, кем-то переброшенная над водой. Фроська шла по этой непрочной кладке, опасно балансируя, приседая, размахивая туеском, просто досадно делалось за ее бабью неловкость. А пойти навстречу он не решался: не выдержит жердина двоих, лопнет…
Все-таки она перебралась, бросилась к нему, вытянув руки. Он гладил ее теплую ладонь, испытывая что-то необъяснимо-странное – тоскливое и горькое… А она смеялась, потом фамильярно похлопывала его по щеке:
– Ну, хватит же, хватит! Вишь разгладился, варнак!
Вахромеев открыл глаза, испуганно отпрянул: перед ним на корточках сидел Егор Савушкин. В новенькой амуниции, непривычно свежий, чисто выбритый – от него, кажется, даже попахивало одеколоном. Это его руку сдуру со сна гладил Вахромеев.
– Егор?! Ты откуда?
– От верблюда, – хохотнул Савушкин. – Да не бойся, не с того света: из медсанбата явился. Живой, невредимый, даже отштукатуренный. Вставай, комбат, всю войну проспишь.
Савушкин явился не один: внизу, на дороге, стояли два «студебеккера» с пушками на прицепе, а чуть дальше, справа по склону, газовала полуторка, направляясь, очевидно, к зарослям орешника. Она тащила за собой пузатую армейскую кухню.
– А это откуда? – обрадованно удивился Вахромеев.
– А все оттуда – от комдива. Я ведь теперича, Фомич, командир. Во как! Комдив лично беседовал. «Давай, – говорит, – кержак, забирай эту выздоравливающую ораву, сажай на „студеров“ и вали на высоту 207 – вот на эту самую». Есть догадка: немцы сюда попрут вскорости.
– А насчет меня комдив говорил? – осторожно поинтересовался Вахромеев.
– Тебя считают в окружении. Я ведь к нему обратился зачем? Прошу направить в родной батальон. Ну, а эти ребята со мной были, в команде. Значица, слава богу, комбата нашел, а батальон будет.
– А он и есть, – хмуро сказал Вахромеев. – Вон народ кругом, отсыпается.
– Ит ты! – удивился Егорша. – А мы сослепу-то подумали: побили вас тут, порешили всех до единого. Мы даже пилотки поснимали, как увидали побоище: честь и слава убиенным, в храбрости погибшим. А вы одно слово дрыхнете. Ну молодцы, коли так. Тут теперя до сотни наберется. Силища.
– Болтун ты, Егорша, – сплюнул Вахромеев, поднимаясь с земли. Вразмашку, с хрустом, с удовольствием потянулся, чувствуя силу и радость в каждой жилке. – Эх ты, обормот, сон-то какой мне перебил!..








