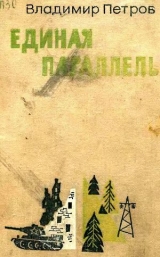
Текст книги "Единая параллель"
Автор книги: Владимир Петров
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
11
Весть о взятии Богодухова советскими танковыми войсками взбудоражила город, освежающим ветром пронеслась над задымленными улицами. Светлели изможденные лица харьковчан, появлялись робкие улыбки изумления: понадобилось всего четыре дня советским танкам, чтобы нанести удар глубиною более ста километров! Люди понимали, что война начала новый счет и его будут определять теперь не фашистские, а наши темпы наступления, нами взятые города, нами разгромленные вражеские дивизии, нами захваченные пленные.
Сталинград стал прикидкой этого нового счета, битва за него, начавшись в сорок втором, завершилась, возвратив исходные рубежи немецкого броска к Волге. И только сейчас начиналась «обратная раскрутка» трагического сорок первого, кровопролитное, долгожданное, но неминуемое «возвращение на круги своя».
Богодухов – это было настолько серьезно и неожиданно, что весь немецкий гарнизон словно хватил шок. Самый последний солдат прекрасно понимал, что советский танковый клин фактически отрезал с запада харьковскую группировку фашистов.
Срочно появился угрожающий, небывалый по свирепости приказ Гитлера: город ни в коем случае не сдавать! Харьков велеречиво именовался восточным бастионом, стальным замком, воротами на Украину, однако самое главное состояло в том, что фюрер панически боялся потерять Донбасс с его богатыми ресурсами. Именно поэтому он дал согласие Манштейну отвести туда из-под Белгорода танковый корпус СС – в самом конце кризисного июля, буквально накануне советского контрнаступления.
Теперь эти дивизии спешно разворачивались обратно, с ходу бросались под Харьков и на богодуховское направление.
Раскаленный август звенел над полями и перелесками, горячей пылью ложился в садах на спелые плоды, дышал гарью и трупным смрадом над пепелищами сожженных хуторов и сел…
Приказ Гитлера адресовался солдатам, а в самом городе уже хозяйничали паразитические службы оккупационного тыла от военно-хозяйственных команд до отрядов имперской трудовой повинности. Хватали, тащили все, что можно было сдвинуть с места. Срывали и скатывали в бухты медные троллейбусные провода, выворачивали трамвайные рельсы и грузили на мощные «майбахи», «христофорусы», грабили уцелевшие стеллажи Короленковской библиотеки, даже очищали от поленниц дровяной склад на Ивановке. Все учитывалось в аккуратных ведомостях – поштучно и покилограммно.
Открыто, не стесняясь, минировали город. Среди бела дня саперы уложили взрывчатку под опоры харьковского, свердловского мостов, точно так же заминировали филипповские мосты через реку Уду. Тут все было ясно: мосты взорвут электродетонаторами в последний момент при отступлении. А пока, надежно охраняемые, мосты пропускали танки, пехоту, автомобильные колонны – все это интенсивно вливалось в город с юго-запада, улицами растекаясь потом в сторону фронта, в северном направлении.
Куда сложнее выглядело скрытое специальное минирование. Инженерно-саперные группы, оснащенные буровыми установками, даже малогабаритными экскаваторами, круглосуточно шпиговали минами, зарядами заводские районы, оцепленные плотным полицейско-эсэсовским кордоном. Всех, кто случайно оказывался в местах минирования, расстреливали без предупреждения.
Хлопцам из группы Слетко удалось пока установить немногое: несколько десятков вероятных точек минирования, и еще – широкое применение немцами сюрпризов. Нередко саперы делали многослойное минирование: сверху обычная мина, а еще ниже, на метровой глубине, крупный заряд с дистанционными, многосуточными по времени взрывателями, с установкой на неизвлекаемость.
Город все больше напоминал осажденную крепость. Улицы перекрыли патрули фельджандармерии, разогнали и закрыли толкучку на Благовещенском базаре, перестали работать и без того редкие водоколонки – люди пили зловонную зеленую воду из Лопани.
По ночам весь северный обвод – от Залютина до Журавлевки, полыхал орудийными зарницами, а с рассвета, с первыми лучами солнца, закипало небо. Советские бомбардировщики волнами накатывались на городские окраины, бомбили железнодорожные станции на Алексеевке, Основе, Леваде, Новой Баварии. Среди зенитных разрывов вертелись, вспыхивая плоскостями крыльев, юркие истребители, то и дело стелился к земле длинный дымный шлейф, наискось перечеркивая небо: самолеты обычно падали за чертой города, унося с собой приглушенный отзвук взрыва.
А иногда, прорвавшись через зенитно-артиллерийский заслон у Пятихаток, выскакивали на бреющем зеленые остроносые штурмовики. Мелькнув над головами разбегающихся фельджандармов, они накрывали кварталы душераздирающим свистом, страшным грохотом, от которого сыпались уцелевшие стекла в развалинах, а в захламленных аллеях Профсоюзного парка начинал ходить жаркий удушливый ветер.
Говорили, что в городе уже действуют несколько советских армейских разведывательных групп, но ни на одну из них Слетко пока не удавалось выйти. Те, кто оставляли его в марте, очевидно, давно списали группу со счета: ведь радиопередатчика Слетко лишился тогда же весной (он находился в тайнике с продуктами).
Павлу почему-то казалось, что те два советских разведчика, которых немцы недавно схватили под Золочевом, шли на связь именно с ним. Но след их уже был безнадежно утерян, вернее, он уводил, как достоверно сообщил Филипп, в апартаменты штандартенфюрера Бергера. А это означало фатальный конец.
На Филиппа тоже больше не приходилось рассчитывать– на днях он эвакуирует в Полтаву свои «богоугодные заведения», где обретали покой и ласку ветераны-фронтовики тысячелетнего рейха. Насчет минирования города «шеф борделей» тоже, к сожалению, ничего не мог сообщить. То, что в руках СД и СС, выходило за рамки его возможностей.
Надо было что-то предпринимать, надо было искать выход из замкнутого круга…
Собственно, существовал только один разумный вариант: установить контакт с группой Миши Родионова и действовать сообща.
Родионовская боевая группа состояла из «беглых» – бывших красноармейцев, узников Холодногорского концлагеря, которые по ранению или болезни переведены были в больницу для военнопленных (она помещалась в 9-й городской поликлинике) и бежали оттуда при помощи местного медперсонала. Многих из них переправляли через линию фронта, однако лейтенант Родионов, бывший летчик-штурмовик, остался в городе – у него, как он говорил, «имелись особые счеты с немцами». Родионовцы специализировались на «охоте за крупной дичью», особенно из числа эсэсовского и гестаповского начальства, действовали редко, но дерзко и беспощадно.
Миша Родионов (Жареный) жил где-то на Журавлевке, а это значило, что Слетко предстояло пересечь самую опасную – Нагорную часть города, чтобы попасть к нему.
С большим трудом Слетко миновал Клочковскую улицу и дворами, осыпями развалин выбрался наконец на городской холм к театру оперы и балета. Здесь у кирпичной стены отдышался, прислушиваясь к марширующей по Рымарской колонне пехоты. Припомнил: вот отсюда, из театрального подъезда, в панике разбегались люди с торжественного заседания восьмого марта – «юнкерсы» девятками шли со стороны Шатиловки, опорожняя бомболюки над центром города…
Вспомнил, как позднее, неделю спустя, уже перед нашим отступлением из города, шел этой же улицей, потом свернул в проходной двор, чтобы спуститься в подвалы «Саламандры» – многоэтажного жилого дома на Сумской. В подвале размещался тогда обком партии, именно там получил свое задание Павло Слетко.
Наблюдая в щель однообразно-зеленые проходящие мимо шеренги, с ненавистью подумал, что, наверно, именно это и есть самое страшное, самое омерзительное в войне: страх побежденного, ощущение постыдного бессилия, когда ты вынужден таиться и прятаться в собственном доме, в своем родном городе… А они вот идут – наглые, уверенные, вооруженные до зубов, пропахшие пылью, потом и порохом. Она кажется неостановимой, эта загорелая орава, тяжко ухающая коваными каблуками.
Но что это? У поворота на Сумскую колонна вдруг мгновенно рассыпалась, солдаты, сваливая и давя друг друга, кинулись в подворотни – улица опустела. Слетко поднял голову и все понял: высоко в голубом поднебесье летели советские самолеты: тремя плотными колоннами неторопливо, с истинно хозяйской солидностью пересекали воздушное пространство над городом. Они, вероятно, шли в тыл на Богодухов или Полтаву и их не интересовала какая-то жалкая колонна трусливых «завоевателей», разбежавшихся от одного гула моторов.
Неподалеку пожилой немецкий солдат тщетно старался протиснуться в узкое подвальное окошко, ему помогали, тянули внутрь, но толстый обтянутый штанами зад немца был явно не тех габаритов. Слетко пожалел, что не захватил с собой парабеллума – вот это была бы цель! Потом рассмеялся, плюнул и решительно вышел из-за укрытия: в конце концов, кто-то должен держаться смело в этом городе.
Он прошел по тротуару мимо строящейся колонны и, когда регулировщик-фельджандарм погрозил ему кулаком, тряхнул инструментальной сумкой: дескать, иду по срочному вызову (аусвайс дежурного слесаря-сантехника у него имелся!).
Так, не хоронясь, в открытую, он пересек весь район, и его ни разу не остановили. Только спустившись на Журавлевку и разыскав нужный адрес, Павло облегченно вздохнул, поежился: безрассудное мальчишество могло дорого ему обойтись! Он ставил под удар не только себя, но и всю группу…
Ко всему прочему, риск оказался напрасным. Родионова не было дома. Хозяйка – сердитая полуглухая старуха, отмолчалась: «Ничого не чула, никого не бачила». Слетко ушел, оставив на всякий случай записку.
Миша – Жареный сам явился к Павлу под вечер. Точнее сказать, не явился, а ворвался, когда они с Миколой Зайченко пили опостылевший малиновый чай, обсуждая безрадостные перспективы. Родионов, не морщась и не кашляя, залпом выпил слепковскую кружку горячего чая, перевернул ее и постучал по донышку дулом пистолета:
– Чаи гоняете, народные– мстители? А у вас прямо под боком угнездилось гестаповское кодло! Эх вы, братья славяне, архаровцы рогатые…
– Ну-ну! – спокойно усмехнулся Павло. – Выдавай дальше, а мы послушаем.
Он уже дважды встречался с Родионовым и хорошо усвоил, что удивить, ошарашить – рабочий стиль Миши – Жареного. Он и эсэсовцев так брал: «на шарашку», то есть на испуг.
– Кролики лопоухие! – Миша зло дернул левой – багровой, сплошь обожженной щекой. – Я вам на полном серьезе. Слушайте, только что, идя сюда, я встретил гада, одного из тех, кто поджигал госпиталь в марте, когда немцы ворвались в город. Помнишь, Павло? Они жгли первый этаж из огнеметов по окнам, второй решетили пулеметами… Четыреста ребят погибло. Эх! – Родионов налил в кружку чая и, опять не остужая, хлебанул залпом. На этот раз закашлялся. – Я тогда вывалился в окно… Лежал под кустом уже с двумя пулями. Подошли двое, достреливали таких, как я… Один из них выстрелил в меня, вот сюда. Я его харю буду помнить и на том свете. Это он, слышите, он зашел сейчас в соседний дом! Я его узнал, хоть и переодетого. Кто живет в этом доме?
– Профессор один, – поднимаясь и тоже подходя к окну, ответил Слетко. – Гнида из националистов. Барыга.
– Значит, все правильно. – Миша закурил немецкую сигарету, привалился к косяку, пристально, не мигая вглядываясь в темные окна профессорского дома. – Заметем обоих, братцы! Как только стемнеет. А ежели он выйдет раньше, догоню и уложу на улице. Или – не жить мне больше.
– Нельзя, – негромко, сухо произнес Слетко.
– Что ты сказал? – Родионов повернулся, в ярости стиснул зубы. – Что?
– Нельзя, говорю, Миша. Ты не горячись, но убивать его ни в этом доме, ни на нашей улице нельзя. Ты нас подставишь под удар. А у нас задание поважнее этого вшивого эсэсовца. Немцы готовятся взорвать город – мы должны помешать. Я к тебе шел за помощью сегодня.
Родионов, успокаиваясь, жадно докурил сигарету, чуть приоткрыл окно: что-то в профессорском саду привлекло его внимание. Жестко усмехнулся, не поворачивая головы от окна:
– Я сам думал об этом… То, что делаете сейчас вы, – чепуха, детская забава. Ну зафиксируете десять – тридцать мин. А их тысячи! Нужен план, понимаешь, Слетко, нужно достать план!
– Какой такой план?
– Как человек военный, я знаю и уверен: у немцев должен быть план минирования. На нем обозначена каждая мина. Надо во что бы то ни стало достать этот план. Конечно, не попросить, а просто взять. Вот в такой игре я с вами играю.
Разумеется, Слетко и сам знал все это. Более того, на прощальном инструктаже в марте ему прямо говорилось о таком плане-схеме, как о возможной задаче-максимум. Но уж слишком переменились обстоятельства, чтобы можно было сейчас всерьез думать об этом.
– Легко сказать… А попробуй только подступиться.
– А почему не попробовать? – Родионов опять приник к окну, побарабанил пальцами по стеклу. – Слушайте, славяне, у меня есть дельная идея. Давайте поговорим с этим эсэсовцем, он наверняка что-нибудь да знает о плане. Да вы соглашайтесь, все равно другого выхода у вас нет. И мне будет интересно побалакать с этой падлой. Хочу спросить: как это он, опытный живодер, промахнулся в меня, на два вершка взял выше сердца? Ведь стрелял-то в упор.
– Я пойду с тобой! – неожиданно поднялся с лавки молчун Микола.
Зайченко прямо давал понять, что осторожность и нерешительность Слетко не одобряет. В последнее время он явно начинал срываться: упрямничал, затевал беспричинные споры. Видно, у парня сдавали нервы.
– Вы оба коммунисты, – тихо сказал Слетко, – И должны поступать с моего согласия. Потому что я здесь оставлен обкомом партии – вы знаете.
– Так ты что, против? – насупился Родионов.
– Нет, не против. Но я за то, чтобы сначала все хорошенько обдумать и взвесить. И уж, во всяком случае, действовать без злости, а спокойно. Это я тебе говорю, Миша.
– Я этой злостью живу! – отпарировал Родионов. – Неужели ты этого не понимаешь?
Миша возбужденно, резкими шагами заходил по комнате. Поджарый, мускулистый, он чем-то напоминал старинных удальцов, которые с разбойным криком: «Сарынь на кичку!» – очертя голову бросались на купеческие баржи. О его дерзости, безрассудстве и удивительном везении в городе ходили легенды.
Слетко подумал, что хорошо, благоразумно делал, стараясь раньше не связываться с бесшабашным Мишей Жареным и его «флибустьерами». Ну а сейчас просто не было иного выхода.
– Давай говори, Миша, что предлагаешь?
– Бросаем в окно гранату, вот эту, без запала. Прямо на стол, – Родионов подкинул на ладони пехотную немецкую гранату с деревянной ручкой. – Они наделают в штаны, повалятся на пол, поползут по углам – тут мы врываемся и берем их тепленькими. Ну так согласны?
– Окна на ночь изнутри закрываются ставнями, – сказал Слетко. – А на двери два амбарных засова, кувалдой не собьешь.
– Ты что, бывал у него?
– Приходилось…
Вот теперь Миша сразу остыл, перестал метаться по темной комнате. И Микола Зайченко уже не сопел обиженно – дошло до них до обоих наконец-то.
Тут нужна была хитрость. Следовало придумать такой предлог, чтобы трусливый пан профессор сам открыл дверь и чтобы его гость, переодетый эсэсовец, ничего не заподозрил, не почувствовал беспокойства.
…Полчаса спустя собрались в малиннике за сараем, как раз напротив соседского сторожевого поста. Здесь, в укромном углу, удобно было проделывать дыру в трехслойном проволочном заборе.
Накрапывал дождь. Ночь давила духотой, горячей и липкой, настоянной на вони близкой застоялой и загаженной реки. В саду за забором негромко, предупреждающе-злобно ворчал сторожевой кобель – уже почуял неладное. Начинать надо было с него.
Родионов замотал тряпкой левую руку по локоть, зажал зубами клейменый эсэсовский кинжал, полез в дыру первым. Слышно было, как с яростным утробным рычанием кинулся кобель – тут же неподалеку, в кустах крыжовника. Короткий собачий визг – и все стихло.
Потом они короткими прыжками, по одному, затаиваясь в садовой темноте, приблизились к дому, обошли и оказались на крыльце. Микола и Родионов прижались к дверным косякам, Павлу предстояло теперь главное – выманить за дверь старого барыгу.
Слетко уже поднял кулак, чтобы постучать, и засомневался: а вдруг не получится?.. Да нет, вроде все продумано логично: в дверной глазок сейчас ничего не видно, так или иначе ему придется открывать дверь. А открыть должен обязательно, тут расчет верный, без промаха – на жадность.
Послышались шаркающие шаги, через замочную скважину пробился слабый свет.
– Кто там?
– Это я, пан профессор. Ваш сосед Павло. Пришел по важному делу – вас касается.
Загремел один, второй засов, со скрипом провернулся ключ. Дверь приоткрылась на ширину железной цепочки.
– Что случилось, хлопче?
– Беда у вас, пан профессор! Там в углу какие-то парни ваши яблоки трясут. Прямо в мешки гребут. Я крикнул, так куда там… Плюнули, да и все.
– А Трезор?
– Не слышно его, чуете? Мабуть, прибили.
Старик наставил ухо в дверь, помедлил, с подозрением спросил:
– Не брешешь, хлопче?
– Да что вы, пан профессор! Ну если не верите, я пошел. Мое дело сообщить, как соседу…
Павло и сообразить не успел, как старик с неожиданным проворством, сняв цепочку, мигом втащил его в прихожую, сразу захлопнул дверь. Поняв, что Родионов и Зайченко так и остались на крыльце. Павло обмер, чуть не плюнул с досады – ну ротозеи…
Слетко уже нащупывал в кармане теплую рукоятку пистолета, но, к счастью, пан профессор в комнату его не повел, а, вручив керосиновую лампу, сказал:
– Стой тут. Я пойду схожу за ружьем да и гостя приглашу на подмогу. Гость у меня нынче.
Едва старик скрылся в комнате, Слетко быстро метнулся к дверным засовам.
Все остальное произошло так, как они и планировали.
12
Наступило 11 августа.
Утром этого дня майор Бренар вдруг подумал, что ему слишком долго везет…
Самым значительным в этом везении была Прохоровка– танковое побоище, в котором сгорели почти все танки его полка, погибла большая часть личного состава.
Он почему-то уцелел. Хотя по логике вещей должен был погибнуть, ибо уже горел в танке, где заклинило люк. Как сгорели остальные члены экипажа с черно-золотистым «герром Питером».
Его выбросило взрывом вместе с оторванной башней.
Прохоровка стала новым отсчетом жизни, может быть даже его новым символическим днем рождения, который он поклялся отмечать ежемесячно.
Сегодня канун первого месяца. Все в порядке, он жив – благодарение господу.
Этот минувший месяц спрессовал всю предшествующую жизнь в единый драгоценный слиток, Бренар стал по-настоящему дорожить жизнью, потому что после Прохоровки панически боялся смерти.
Собственно, впервые он испугался смерти еще год назад, когда в сентябре его полк, спешно переброшенный из Франции, участвовал в операции по уничтожению советских войск в районе Бекетовки под Сталинградом. Однажды в вечерних сумерках он увидел горы трупов, перемешанных с землей, и вначале принял их за причудливые очертания брустверных насыпей перед траншеями. А когда пригляделся к торчавшим ботинкам, судорожно вздетым рукам, испытал ужас… Но без внутреннего содрогания: все это было похоже на фотографию или полотно, которые рождали сильные впечатления без какой-либо реальной физической близости, а тем более личной причастности.
Понадобился почти целый фронтовой год, чтобы понять наконец эту личную причастность к чужим смертям. Теперь он уже не испытывал былого азарта и удовольствия, когда его «тигр» давил гусеницами пушки с прислугой или санитарные русские повозки. Все чаще ему приходила в голову мысль о том, что однажды могут вот так же захрустеть и его собственные кости…
Это была не трусость, а, скорее, усталость. Он понимал, что, как и всякое трудное дело, война тоже со временем вызывает усталость.
В слитке прошлого искорками были вкраплены наиболее памятные события. Он видел отца – бывшего ветфельдшера кайзеровской армии, травленного ипритом под Марной. Коренной эльзасец, дальний отпрыск французских переселенцев, отец не любил «меднолобых бошей», этих воинственных болванов – пруссаков. «Не случайно вся немецкая литература началась с „Разбойников“ Шиллера», – язвительно ворчал он.
Очень явственно припоминались мотогонки, первые завоеванные призы и кубки. Короткая и странная дружба с Манфредом фон Браухичем, знаменитым гонщиком, племянником фельдмаршала фон Браухича. В свое время Манфред тоже окончил офицерское училище, однако офицером не стал и к военщине относился с откровенным презрением.
Да, именно на этой почве они вскоре разошлись…
Предвоенные годы – как плохая старая кинолента… Обрывки, нечто смутное, смазанное, вперемешку с яркими эпизодами на фоне факелов, разноцветных флагов, фанфар и барабанов, от которых закладывало уши.
Гора Кифхойзер… Бесконечная гранитная лестница, уходящая под облака, – «лестница в небо». На вершине каменный Фридрих Барбаросса, угрюмый, непреклонный, могучий: само олицетворение вечности германского духа. Его длинная борода стелется по земле.
Здесь на холодном осеннем ветру, в багровом мерцании факелов, давали священную клятву молодые штурмовики. Клятву на верность заветам великого Барбароссы…
Потом еще одна клятва. Нюрнбергский стадион. Рев многотысячной толпы, приветствующей фюрера клятвой-лозунгом: «Айн фольк! Айн райх! Айн фюрер!» На веки вечные, на тысячелетние времена – «один народ, одна империя, один фюрер!»
И третья клятва. В солдатском строю, осененном боевыми знаменами, на виду у распростершего крылья имперского орла: «Клянусь перед господом богом сей священной присягой безоговорочно повиноваться фюреру германской империи и народа Адольфу Гитлеру, верховному главнокомандующему вооруженными силами, и, как храбрый солдат быть готовым, выполняя эту присягу, отдать свою жизнь!»
«Отдать свою жизнь» – все очень просто.
А за что?
Он с усмешкой вспомнил статью «За что?» доктора Геббельса в газете «Дас Райх», опубликованную в мае прошлого года – как раз тогда шли разговоры о переброске танкового полка Бренара на восточный фронт. Интригующим заголовком статья привлекла внимание офицеров.
Рейхсминистр популярно объяснял, что война в России это война не за трон и не за алтари. Это война за хлеб и зерно, за обильные завтраки, обеды, ужины и прочие сугубо житейские удовольствия вплоть до строительства новых квартир и благоустройства улиц.
А стоило ли за все это воевать и умирать?
Да еще здесь, на клочке земного рая, на облитом росой поле подсолнечника, где каждый желтый лепесток – твердый, резной, выпуклый – был словно кован из пластин церковного сусального золота…
Бренар с горечью вздохнул: оказывается, Прохоровка, ко всему прочему, еще научила его и сомневаться. А это особенно плохо. Потому что сомневающийся солдат – уже наполовину побежденный солдат.
Что ж, логично: поражение – всегда отрезвление. И наоборот: победа рождает инерцию. Именно она вынесла русские танки далеко за линию фронта, сюда под Богодухов, в этот янтарный разлив цветущего подсолнечника. Русские познали вкус победы, и потому остановить их будет очень нелегко.
Вчера их танковые бригады из Богодухова нанесли удар на юг, вышли к железнодорожной магистрали и взорвали ее, отрезав таким образом Харьков от Полтавы. Это уже напоминало оперативный мешок.
Три танковые дивизии СС: «Мертвая голова», «Викинг» и «Райх» после ускоренного ночного марша вышли на исходные рубежи для контрудара.
Бренар знал, что наступает переломный момент в сражении за Харьков – по странному совпадению тоже одиннадцатого числа, как и месяц назад под Курском. Бренар помнил, что бригаденфюрер СС Макс Симон обещал представить его к дубовым листьям. Он будет первым в дивизии кавалером Рыцарского креста с дубовыми листьями, если возьмет Александровку.
И если останется живым.
«Айн фольк, айн райх, айн фюрер!» Черт возьми, это и сегодня звучит неплохо! Очень даже неплохо.
Майор Бренар смотрел на выстроенные вдоль опушки танки, экипажи-четверки подле каждого из них, чувствуя, как привычное предбоевое волнение теплым ознобом охватывает тело, пульсирует по мышцам. В зыбком рассвете и танки, и экипажи – каждый, как обойма, готовая снарядить бронированные машины смелостью, неудержимым движением, – выглядели угрюмо, смутно, будто рожденные и второпях забытые здесь уже ушедшей тревожной ночью…
Бренар читал приказ фюрера: «…уверен, что каждый из вас, мои солдаты, будет драться до последнего дыхания, потому что Харьков – основной опорный пункт на востоке Украины!»
– Хайль фюрер!
– Хайль! Зиг хайль!
Майор с сожалением подумал, что лежащее за его спиной солнцелюбивое поле в последний раз повернет к восходу свои черно-золотые упругие шляпки – через полчаса танки измесят и раздавят его до неузнаваемости.
Уже стоя в открытом люке, Бренар включил рацию, поднял губную гармошку: несколько тактов любимой песни «Три бука». Пусть знают его «окольцованные кинжалы» – командир впереди!
Бренар оказался прав: подсолнечник был уничтожен за несколько минут, так и не успев повернуться к восходящему солнцу. И не только танковыми траками: неожиданно через все поле, наискось разрезая его, встала бурая стена снарядных разрывов – это был заранее и хорошо организованный рубеж русского заградогня. Не снижая скорости, танки нырнули в огненную завесу, но миновали, «прошили» ее не всю, сзади осталось несколько густо чадящий факелов.
Майор был в ярости: ведь только вчера бригаденфюрер Симон утверждал, что они застанут русских врасплох, что его дивизия нацелена на тылы ударной группировки противника. Какие же, к дьяволу, это тылы, когда прицельно бьют пушки и гаубицы, а с левого фланга, прямо в открытую, из кустов тявкают советские сорокапятки – назойливые и далеко не безвредные «пистолеты на колесах»?
Только сейчас он понял, каким тяжелым будет его путь к заветной Александровке, до которой еще целых пятнадцать километров…
Неожиданной была русская артиллерия на направлении атаки, неожиданностью стала многочисленная пехота, правда поспешно занимающая высоты впереди, и уж полной ошеломляющей неожиданностью явилась контратака советских танков, внезапная, как засада, – сразу с дистанции бронебойного огня.
Слишком много неожиданностей в бою – явный признак грамотного, умного и решительного противника… Да, приходилось признавать: русские научились воевать. Они принесли сюда из-под Курска то необъяснимое упорство, которое бригаденфюрер Макс Симон презрительно называл азиатским фанатизмом. В выгоревших, почти белых гимнастерках солдаты вставали на пути танков с хрупкими бутылками в руках. Погибали, но жгли танки.
Здесь повторялось то же, что было под Обоянью, Гостищевом, Рындинкой…
Честно говоря, Бренар любил своего командира Макса Симона, сорокалетнего эсэсовского генерала, с подчеркнутой лихостью носившего черную танкистскую пилотку. В нем сочетались воля и недюжинный ум. Но сейчас, видя, как один за другим пылают танки полка, Бренар впервые неприязненно подумал о командире дивизии: «Самонадеянный позер!» И все его напыщенные многозначительные спичи во время командирских застолий – чистейший вздор, замешанный на мистике, приправленный философским коктейлем из Розенберга, Ницше, Шопенгауэра. Никакого фатализма войны не существует!
Нет и не может быть так называемого закона войны – победа любит смелых и только смелым дарует жизнь.
Разве не был смелым командир танкового батальона Отто Бухвальд, сгоревший под Яковлевкой, или весь старый экипаж его, Бренара, командирского танка?
Разве не отличался отчаянной смелостью ветеран полка гауптман Бруно Гашке, танк которого только что подбит слева и мгновенно забросан бутылками с горючей жидкостью?
Только в одном прав бригаденфюрер Симон: «Побежденный принимает смерть от более сильного врага». В противном случае сама война теряла бы всякий смысл…
Танк Бренара с ревом выскочил на шоссе, тараном смял несколько грузовиков и устремился на запад. Там, в сиреневой дымке, была Александровка. Майор вспомнил утренний строй полка: приземистые громады танков, черно-стальные шеренги экипажей – олицетворение неостановимой всесокрушающей силы. Воодушевленно крикнул в микрофон:
– Форвертс! Айн фольк, айн райх, айн фюрер!!
Откинул броневой люк, жадно захлебнулся воздухом зреющих полей. Впереди было безлюдное шоссе, чистый и зеленый, уже нагретый солнцем простор. Впереди была победа!
А когда оглянулся назад, похолодел: по шоссе, в кильватер командиру двигалось только семь танков. Да и седьмой горел, маневрировал, пытаясь на ходу сбить пламя.
– О, доннер веттер!..
Вцепившись в поручни, он пристально, не мигая глядел на оставшиеся танки, пытаясь определить, чьи они, кто теперь следует за ним? Боевые номера ускользали из глаз, смазывались пылью, дорожной тряской.
Заряжающий внутри танка беспокойно подергал майора за сапог: «Руссише панцер!»
Да, впереди снова появились русские танки. Много танков – они не только заняли шоссе, но и двигались полем, справа и слева, четко видимые средь желтеющих хлебов. Бренар увидел не только это: в двух километрах от шоссе, сзади, со стороны безымянного хутора, разворачивались в атаку основные силы дивизии «Тотенкопф». Увидел и понял: теоретик-фаталист бригаденфюрер Симон принес его в жертву вместе с полком, бросив в качестве тарана на подготовленную оборону противника…
Ну что ж, война не покер и не бридж, в ней, сделав заход, не бросают карт и играют до конца.
– Форвертс!
Развернувшись на ходу, шестерка «тигров» Бренара пошла навстречу русским танкам.
Командирский танк так и не свернул с шоссе: три прямых попадания, убитый заряжающий, раненый пулеметчик-радист, не особенно удачный танковый таран – и все-таки Бренар прорвался сквозь заслон. Хрипло, почти истерически крикнул в микрофон:
– Айн фольк, айн рейх, айн фюрер!
Впрочем, этого уже никто не слышал из его полка – танк был один. Остался в полном одиночестве среди бескрайних украинских полей и перелесков, плавающих в знойном мареве. Один гремел гусеницами по шоссе, один свернул на пыльный проселок.
– На Александровку!
Бренар хотел увидеть это село. А уж тогда одно из двух: или победа обласкает и полюбит его, или он встретит сильного рокового врага. Пусть в любом случае окажется прав бригаденфюрер Макс Симон, пусть придется ему заполнять реляцию насчет дубовых листьев.
И тут Бренар вдруг увидел русские тылы, те самые тылы, о которых вчера столь благодушно-пренебрежительно говорил бригаденфюрер: беспорядочное скопление грузовых машин, конных повозок, множество людей, безоружных и разношерстно одетых. Здесь, очевидно, располагались какая-то база снабжения и, пожалуй, полевой госпиталь: у самого леса виднелась большая брезентовая палатка с красным крестом.
Спустя три минуты на безмятежном пригорке началась настоящая вакханалия: «тигр» Бренара метался, гремел пулеметом, давил и крушил все, что попадало под его тяжелые гусеницы, напоминая лису, попавшую в курятник.








