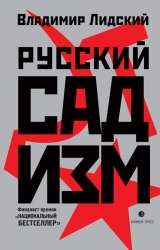
Текст книги "Русский садизм"
Автор книги: Владимир Лидский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Тут подполз ко мне старикашка с бородою – и давай делиться своими бедами. Наивный человек! Повествует мне свою историю; тоже пятьдесят восьмая, лепят ему столько пунктов – и за что? Бедный дядя бородатый! Проживал в деревне со своей семьей, со старухой и замужними дочками, а как пошел голод по глубинке, начали его внучата помирать, – распухают и засыпают потихоньку, словно мухи осенью, и так все вымерли, а потом еще и дочки перемерли. Сговорился старый с зятем, побрели они в город, восемь ден в пути, а пришли в город, видят: лучше ненамного. Хотя кое-где можно еще и шавку углядеть, а в деревне и кошек не осталось. Ну, голодному, известно, разум затмевает; вот рылись они как-то у помойки, глядь, собачка вшивая, недолго думая, изловили, шею поломали, меховое пальтецо с нее раздели и на дальнем пустыре сунули ее запросто в ржавый котелок. И что же? Бульон-то получился духовитый, да, не успевши его употребить, были они арестованы случившимся тут милиционером. Отвезли их куда надо, и следователь им сказал, что, дескать, совершили вы чудовищное злодеяние, ритуально убив сторожевую овчарку лучших кровей, дрессированную медалистку и участницу заграничных выставок, а главное, поимщицу опасных политических преступников, которые имеют еще наглость сбегать каким-то образом из тюремных учреждений. Эта, мол, собака – достояние республики, и вы сделали немыслимое преступление, направленное на ослабление государства, потому как она своею трудною работою защищала наши достижения. Вот вам первый пункт пятьдесят восьмой статьи – деяние, направленное на ослабление родимой власти. Также вполне вероятно и даже очевидно, что вы готовили вооруженное восстание, поскольку убийство столь именитой медалистки могло послужить сигналом к хватанию всех недовольных за оружие, и только бдительность милиции пресекла эту страшную диверсию. Нам спасение от вашей злобы, а вам за то – второй пункт означенной статьи. Далее – подрыв промышленности, транспорта, торговли, связи и тому подобного, поскольку героическая овчарка охраняла своею доблестью все поименованное. Бедная собачка – пала от руки бандитов, ей за то вечная память и гвардейская слава, а вам, отребью рода человеческого, пункт седьмой – вредительство. А заодно и пункт восьмой, под названием «террор», ведь вы применили оружие террора – направили против беззащитной, безоружной собачки лезвие ножа и с изощренной и циничной злобой совершили жуткий акт – содрали с животинки ее теплой шкуры. Далее следует пункт десятый – пропаганда вместе с агитацией, потому как следствием доказано, что старик высказался зятю по поводу достоинств загубленной собаки, – дескать, ледаща и худа, а советская собака не может быть худой, и тот, кто настаивает на подобной лжи, сеет сомнение в массах посредством контрреволюционной пропаганды. Есть и пункт одиннадцатый – вступление в сговор и тайную организацию, вас ведь двое, а это организация. И наконец, двенадцатый – недонесение – поскольку ни один из вас не проявил сознательность и не сообщил соответствующим органам обо всех этих страшных преступлениях. Вот и получайте по совокупности – расстрел, хотя вообще-то положено семь расстрелов, по одному за каждый пункт известной вам статьи… «Молись, дедуля, – сказал я старику, – твоя планида – быть убитым; другим разом не чини диверсий касательно собачек…» Уполз бородатый весь в соплях, а что я ему еще скажу?
Потом другие подползали и знакомились, так и день прошел, следом – новый, и я уж счет им потерял, дням то есть, и вдруг конвоируют меня до следователя, того лейтенанта, что ради смеха моего меня стращал. Но он какой-то не такой, не тот, что давеча – спокойный, рассудительный и даже вежливый. Сидим. Тут в дверь стучат и входит… ба! Дружок мой Витя – в парадной гимнастерке, в сапогах надраенных, в стрижке полубокс, сам румяный и подтянутый, любо-дорого смотреть. А я, наверное, в ужасном виде, потому как он глянул на меня, и его аж передернуло. Лейтенант встает и – что же? – выходит в коридор и запирает нашу дверь снаружи. Витя кидается ко мне, обнимает и что-то бубнит себе под нос. Я сажусь, гляжу, будто баран, пытаюсь связать разные лопнувшие нити. Зачем он здесь? Как он вообще сюда попал? Почему следователь вышел? Что Витя будет делать? Очная ставка? Будет на меня клепать? А может… «Я тебя отсюда вытащу, – говорит Витя, – ничего не бойся. Отец все сделает, как надо… Я его просил… Ты скоро выйдешь…» – «Друг мой дорогой!» – вскричал я и почувствовал, как слезы выступили на глазах.
Прошел день и, действительно, я вышел и наутро отправился в училище, а ночевал у Вити, и папа его, полковник, мне сказал: «Ты мой должник, сынок, отплатишь мне когда-нибудь добром…».
А в училище я вошел в полной тишине, и все боялись эту тишину вспугнуть и обходили меня, а я им, сукам, сказал: «Ну что, поняли, чмыри, что такое воля?».
Через пару дней вызывают меня туда, откуда я пришел, и попадаю я снова к тому лейтенанту, что хотел с меня наград. Захожу в кабинет, чую черемуховый запах, и, приподняв непослушные веки, вижу свою кралю, над которой в подъезде потрудился, а она аж вспыхнула, как бензиновый плевок в сторону пожара. Следователь спрашивает, узнаю ли я эту дамочку, а я, не зная, как себя вести, с заминкой отвечаю, что нет, мол, не имел такой чести. Тогда он вопрошает то же самое опять, только с повышеньем в голосе – узнаешь, мол, эту дамочку? Вижу, он чего-то хочет, и отвечаю: «А! Узнал!» – «Ага, – говорит хитрый лейтенант. – А имел ли ты, товарищ, с нею, по ее доброму согласию и расположению, половую связь?» И снова повышает голос. Я, уже понимая, к чему идет это повышенье, отвечаю: «Да, имел». – «А вот она, – лейтенант делает глубокомысленную паузу, – изволит утверждать, что ты, товарищ, владел ею лишь посредством силы без должного увещевания и надлежащего соизволения от ее желания». – «О-о, это клевета! Я возмущен и требую ответа за такие выпады и провокации в отношении моего морального потенциала. Я не позволю каким-то буржуазным выскочкам пятнать чистый мундир советского курсанта. Закон не дает вам права очернять систему воспитания в спецучилищах нашей необъятной родины, – тут я прищурился и погрозил пальцем в сторону своей обидчицы, – значит, наша педагогика много хуже западной? Не по-зво-лю! Советская юстиция по достоинству оценит ваше преклонение перед враждебными нам странами. Оно и видно по вашему лицу, что вы не рабоче-крестьянского происхождения, что в ваших жилах какая-то особенная голубая кровь, так вам и на роду написано любить все западное и ненавидеть наше. Но любить-то вы можете. Конституция вам это позволяет, а вот высказывать свою любовь, пожалуй, лишним будет, этого вам уголовный кодекс не позволит, потому как для сего деяния имеется параграф – контрреволюционная агитация и пропаганда, верно я сказал, товарищ лейтенант? Много на себя берете, милая гражданка, да где вам тягаться с могучей властью нашего народа?»
Смотрю – лейтенант доволен, как свинья, сожравшая помои, а краля вдруг – бух со стула на четыре точки и давай слезами умываться: «Не губите, гражданин начальник, у меня дочка маленькая, муж, родители… умоляю… ну, пожалуйста… что хотите…». Лейтенант глядит на нее сверху вниз и улыбается – так ему это все по нраву. «Муж, говоришь… да вы, наверно, в сговоре…» Замолчала моя краля, осеклась, а деваться-то некуда…
В общем, вернулся я в училище, все честь честью, живу себе, как прежде, в ус не дую, и лишь потом, околицей узнал, что ту кралю закатали в лагеря, впаяли ей десятку по самые по жабры, спустя месячишко и мужа подтянули, и бродят теперь по какой-ни-будь заснеженной зоне два лишних «каэра», справедливо поплатившиеся за свое враждебное отношение к отчизне…
И все с тех пор пошло по-старому. В друге Вите я души не чаю, он ведь меня вызволил из лап несправедливого закона, не посчитался с высоким положением своей семьи, не побрезговал и похлопотал. Друг познается в беде! А Кулик, сука, напротив, показал себя с тыльной стороны, с такой черной и неблагодарной изнанки, что стыдно и говорить. Но я с ним как-будто ничего, по-прежнему тихонечко стучу, время от времени сдаю особо вредных диверсантов и отношение к нему выказываю самое благое. А что мне с ним делить? Все, что ему принадлежит, ему же и достанется, но пока еще не время, еще не срок – пусть послужит малость на охранении страны.
День за днем, неделя за неделей подходит тем часом завершение моей учебы. И на выпускной вечер начальство обещалось дорогих гостей нам доставить – выпускниц из соседнего педагогического, чтобы, значит, совместный вечерок сорганизовать.
Ох, и девки в том педагогическом! Словно на подбор – красивые да молодые, только лицом что-то синеватые – то ли от недоедания, то ли от недосыпания. Вот влетели они стайкой в наш курсантский клуб, легкие, как мотыльки, воздушные, как ветерок, и наполнили зал благоуханием. Встали возле стеночек, глазками посверкивают, платьица одергивают, кудряшки поправляют. Музыка ударила, пары закружились, разговор загудел, тут и там послышались смешки и звонкий хохоток. Хорошо! Ну, а мне это веселье только с одного боку хорошо, а с другого – очень даже плохо. Потому как мой внешний вид никого из бабенок не пленяет, и стою я сиротинушкой средь этого шумного бала, но, тем не менее, не унываю, поскольку теперь мне доступен механизм добывания добычи. Подумаешь, никто танцевать не хочет! Я и сам не больно прыток до танцулек. Нужны мне эти топтания да нежные прикосновения! А потом ходи за ней два года, цветочки подноси. Слишком долго для моей свистульки, – будет она вам стоять навытяжку, пока вы соизволите. Стойкой «смирно» я пользуюсь лишь при моментальных действиях. Выберу себе сейчас самую здоровую, самую красивую, заманю куда-нибудь в темный уголок, затолкаю ей портянку в пасть, чтобы не орала, и оборочки маленько помну, пусть только пикнет. Эти буржуазные ухаживания нам, революционерам, ни к чему; времени у нас немного, надо преобразовывать страну, так что оставим небеса кадетским недобиткам, себе же возьмем грубый, грешный, но плодородный чернозем…
Стою я в этих мыслях, как в дерьме, и тут подходит ко мне Витюня, да с девкой под рукой, успел уже где-то хапануть! Знакомимся мы с этой Аёкой, и приглашает она меня на вальс, а вальс, надобно сказать, мне все равно что инструкция по методам дознания, горше горькой редьки. Видно, Витя надоумил ее со мной потанцевать, удружил, значит, несчастному дружку. Ладно, думаю, вы мне мою ущербность втыкаете в глаза, а я вам вашу покажу, только, разве что, не сейчас, а попозже, – посмотрим, что вы скажете, когда из вас блевотина наружу побежит. Обнял я ее за талию, положил голову на грудь, прикрыл глаза. Нравится тебе такой вальсок? Будешь под мою дудку танцевать, я тебя так вышколю, что тебе захочется мне ноги целовать, да еще и плакать при этом от умиления.
В общем, влюбился я, и не как-нибудь, не просто возжелал, а именно что влюбился, и пальцем не мог ее задеть, не говоря уже о том, чтобы куда-нибудь в подъезд с собой волочь. Однако же, и Витюня влюбился тем же часом, и она ему отдавала предпочтение. Да и то сказать, парень он из себя очень даже видный и заметный своею моральною осанкой среди всех прочих, безнравственных пигмеев. Но эта Лёка, бабенка резвая и шаловливая, подогревала и меня – то ли Витюня ей советовал дружка не забывать, то ли, пробуя свои обольстительные чары, она выступала в роли кошки, которая играет с мышкой, короче говоря, я назначал ей свидания, и она не брезговала ни моей сомнительной красою, ни моими грязными намеками. Правда, до дела у нас пока не доходило, но и Витя, по его признанию, в том не преуспел. «А куда спешить? – говаривал он мне. – Никуда она не денется, чай, у нее в трусах резинки не железные».
У Вити, конечно, было много преимуществ: помимо мужской статности имел он чудную квартирку и очень важного отца, который по окончании мальчиком училища, пристроил его на хлебное местечко. А я кто такой? Жалкий выпускник с комнатухой в общежитии и без особых перспектив, правда, человеки нужные ко мне тянулись, чуяли вокруг меня ауру всесилия…
И вот пришла она как-то ко мне в слезах и малость порыдала на моей сухой груди. «Ну, что ты, – спрашиваю, – плачешь? Никого, полагаю не хоронила? Вожди-то наши здравствуют и процветают, страна идет вперед семимильными шагами. Посмотри, какое счастье лучится из ясных глаз наших современников, как радостно живет подрастающее племя, какую надежду на чудное будущее дарит нам пионерия!» – «Да, – говорит она, – а почему же я боюсь? Почему люди пропадают?» – «Это – неразрешимые противоречия, – говорю я ей, – классовая борьба, пропадают не люди, а враги, и вовсе они не пропадают, а идут на перековку ради социальной пользы. Собирала ли ты в школе с пионерскою дружиною металлический мусор, докучный своею бесполезностью? А ведь этот мусор переплавляется в металл, необходимый нашему хозяйству, он сверкает новизной, и достоинства его не сравнить с унылой ржавчиной, с плесенью души уставших механизмов. Так и люди, они своими фибрами глядели в сторону врагов, им любы буржуазный строй и самодержец всероссийский, а мы их – в переплавку, и вот уже они полезные члены нашего сообщества и истово славят разумное устройство государства!» – «Нет, – говорит она, – ты плохо объясняешь, я знаю, что страдают люди, далекие от политической вражды. Вот я расскажу тебе историю: была у нас на курсе Галя, красавица и умница, моя подружка, училась на отлично, хоть недавно родила и, казалось бы, дочурка должна была мешать, однако ж не мешала. И еще считалась Галя заводилой в общественных делах, правда, происхождения она была сомнительного и за то ее в комсомол не принимали. Но замуж она вышла за самого что ни на есть рабочего парнишку, он в типографии работал, наши пролетарские газеты набирал. Счастливая была семья, и любила же Галя свою кровиночку! Она хотела еще мальчика, ведь должен быть у сестрички братик. И вот однажды некий гад, полагаю, что из тех врагов, о ком ты говорил, насильно взял ее в подъезде, он был ей вовсе незнакомым, и говорят, что офицер. Но это еще пол-беды, беда в другом – она нашла его по документам, он обронил свои бумажки. Зачем она искала, лучше было бы стерпеть! Как все повернулось! Не его, гада, наказали, а наоборот – ее! Обвинили Галю в том, что прикрывшись лицемерною личиною, она нарочно вступила в связь с этим офицером и специально заразила его венерической болезнью. И за это дано ей наказание, так как в Кодексе подобные деяния называются диверсиями против нашей армии…» Внутренне я вздрогнул, а внешне крепко призадумался, давая Лёке осознать уровень моей тревоги. Я молчал и думал, устремив взгляд в мыски своих надраенных сапог и показывая тем свою грустную удрученность и кручину…
Прошли дни, постепенно собираясь в месяцы. Прихожу я как-то к Вите, а он уже – большой-большой начальник. Люди перед ним ломаются как столярный метр, папочки несут на подпись, в приемной секретарша шестерит. Да, думаю, вот оно – происхождение, ему с самого начала все было приготовлено, он жил в отобранной у захребетников квартирке, и кислорода на тех квадратных метрах ему хватало вдоволь, жрал шоколад в любое время, то есть постоянно, и папа с мамой тряслись над своим дитятей, как наседки над единственным яйцом. А я что видел? Тятю в сапогах, залитых кровью, да с носом в пудре кокаина, и половые акты в подвале, где бетонный пол намазан, словно бутерброд, густою человеческою слизью? Видел мать с такими синяками на лице, которые светились в темноте, и нашу комнатушку, наполненную мусором и вонью, а не антикварными безделицами. У него почему-то и фамилия победоносная, и машина под окном, и готовая к услугам секретарша. А у меня что? Да ничего. Ничего и никого, кроме Кулика. Он стоит за моей спиною и дышит мне в затылок. Нет, Витюня, ты, брат, стартовал-то прежде моего, а считается, что вместе. И все же друг, он друг и есть. Замкнулись мы с ним в кабинете, он достал коньячную бутылку и помянули мы с ним годы, что прошли в училище. А потом он предложил работать у него. Ты, говорит, на своей работе многого не дополучаешь, я же, говорит, тебе не только кремлевский спецпаек устрою, но и кое-что другое, о чем ты раньше и мечтать не смел. А работа – тьфу, и к тому же хорошо знакомая. Есть у нас один подвал свободный, тот, кто там работал, допился, до того, что его свезли в дурдом. Ты там будешь очень к месту. Премного благодарны, возражаю я ему, только я не смогу работать, у меня круженье головы от густого воздуха подвала. Сразу видно – настоящий друг, покровительствует и радеет. «Ладно, – говорит Витюня следом, – а не хочешь ли познакомиться с некой интересной дамочкой? Как, мол, у тебя на личном фронте?» – «Да я все больше, – отвечаю я, – по пьяни подзаборной, а нет, так и в кулачок сойдет». – «Зря ты так, – сокрушается Витюня, – портишь драгоценное здоровье. Бери пример с меня, у нас, между прочим, с Лёкой все уже сговорено, и через это дело двадцатого числа образуется новая ячейка социалистического общежития…»
С тем я и ушел, а вечером приходит Лёка, словно бы прочуяла о нашем разговоре. И я ей прямо в лоб, пока не передумал: «Помнишь, Лёка, про свою подружку Галю?» – «Как же, – отвечает, – долго буду помнить». – «Будешь помнить еще дольше, как послушаешь мои несусветные слова. Ведь фамилия такая-то была у Гали? И случилось это все такого-то числа? А на следствии ее допрашивал такой-то лейтенант?» У нее рот открылся и глаза заполонило страхом. А я рад стараться, добиваю: «Как ты полагаешь, где добыл я все эти секретные вопросы и откуда доподлинно знаю подноготные и горькие своею правдою на них ответы? Да от женишка же твоего, Витюни, потому как то была его работа, ручаюсь честью офицерской, что все это есть истина… Вытаскивал же да спасал его батяня, большого весу человек, – кому надо позвонил, кому надо приказал – и вот уже твоя подружка виновата… Любила ты ее?». А она вцепилась вдруг руками в свои золотые волосы и давай раскачиваться из стороны в сторону и завывать, будто пурга зимою. Ну, девка, думаю, помутился твой рассудок, того и гляди с ума свихнешься, а на что мне полоумная-то? Бухнулся тогда ей в ноженьки, стиснул в горячечной любви ее коленки и жарко-жарко так залепетал: «Как же ты могла его любить, ведь он хамелеон, он словно высохший репейник цеплялся за твою небесную красу, он и тебя бы погубил, он на виду и занимает положение, а ведь с болыной-то высоты и падать много хуже… Как хорошо, что вы еще не поженились, вообрази, как он потянул бы тебя в омут!». Бедная Лёка! Смотрит на меня, а слезы так и льются, и головой качает, а в глазах такая укоризна! «Лёкочка моя родимая, полюби лучше меня, я, может, и не так статен, как Витюня, однако же чист и не замутнен преступлениями противу нашего народа, буду тебя холить, и любить, и нежить, ты не гляди, что я несколько уродлив, зато предан тебе и нашему отечеству, со мной не пропадешь, у меня есть нужные люди в подмастерьях… Лёкочка, дай расстегну пуговки тебе на блузке, а то что-то ты больно тяжело дышишь… я тебя утешу… пожалею… со мной ты позабудешь свою горькую беду… тебе будет очень хорошо… много лучше, чем с Витюней… пожалуйста, моя роднуля, ведь ты сама этого желаешь…»
И она будто в забытьи сняла-таки блузочку и прочее, что надобно снимать, а трусы я ей просто изорвал, дабы самому удостовериться, что резинки в них точно не железные, да и заодно надобно же было показать ей, суке, кто теперь ее хозяин.
Вот и все; а на следующий день сбегал к Кулику и принес ему бумажку с победоносной Витиной фамилией – так, мол, и так, не пора ли принимать меры?..
ЧАСТЬ II
САТАНА ЕСТЬ
Глава 1
Что написал литератор Клим Борзых в беллетризированной биографии известного деятеля российского революционного движения Льва Марковича Маузера
Восемнадцатый год начинался гибелью, мором. Приходили разные люди, мучали баб, убивали, грабили. Вырезали скот, перебили птицу, пожрали все – хоть и не густо, но имелось в деревеньке кой-что на черные деньки. Весной заявилась сотня батьки Хвыля, одичавшие, злые с голодухи черные мужики, подожгли для устрашения крайнюю хату с безногим стариком, огонь перекинулся на ближние сарайчики да пошел гулять под вольный ветерок. К вечеру полдеревни стояло в пепле, только печи обугленными перстами наугад протыкали небо, словно указуя причину бедствия и призывая к возмездию.
Мстителен был Господь, но церковь, Божие пристанище, устояла, и отец Серафим всю ночь провопил перед алтарем, вымаливая пощаду у немилосердного Бога. А утром, вышедши из церкви, узнал, что поймали черные мужики двух нетронутых девок – одну из подпола достали, другую с чиста поля привели, – к лесу, дура, бежала, нагайками ее и завернули. Поймали и на сеновале до зорьки изгалялись, – всею сотней тешились. Сам батько в том изрядно преуспел, а утром едва живых девок собственноручно зарубил…
Следом за батьком явились в деревню белые, стали подбирать, что хвылева сотня на разор оставила. Довольствия не сыскали и бабами не утрудились – разбежались бабоньки от стыда и срама. Только дуреха деревенская на завалинке осталась, ей-то невдомек, что мужик озверелый об уме женском и не помышляет, а на лицо глянуть ему и вовсе недосуг, он все норовит сзади поприжаться. Приступили к дурочке бравы ребятушки, говорят:
– Рэволюционэрка?
Та мычит радостно да головой кивает – чего с нее возьмешь, дурочка и есть. А солдатики знают, чего взять, и на приступ заступают. Тут выходит ихний голова, офицер, значит, погоны золотые, а мундирчик мятенький – кажет себя гордо и давай кричать тонким голоском:
– Не сметь, не сметь, кому говорю!
Тут другой выходит, тоже золотопогонник.
– Ты, говорит, Духович, чистоплюй, ибо, дескать, великую идею порочишь, а блаженную ограждаешь потому, что тебе красные гвардейцы в бою промежность повредили. Не лезь, говорит, ежели слаб в паху, и товарищам своим не засти свету.
Тот, который Духович, – хвать револьвер, а этот – шашку, так крикуну ключицу и разрубил. А дурочку блаженную только от кровавой лужи подале отвели – дабы не запачкаться, проводили в пустой огород и там аккурат меж пустыми грядками устроили.
Отец Серафим с крестным знамением ходил к бусурманам, да не послушали его, нагайками побили.
И опять молил он Бога о милости, просил замирения среди людей. Только не восхотел Господь кроткого голубя ниспослать в толпу озверелых человеков, накормил деток своих кашею кровавою по крайние пределы. С этой каши у малолетних животы вспухали, а взрослые перестали холодные печи покидать. Кто еще ходил, жрали лист березовый и кору осинную, а в ком сохранился бойкий дух, – те мышей ловили и навозного червя огородом промышляли.
Словно градом повышибало деревеньку, зашлась она, сердешная, кровавым поносом, и полегли по полатям да печам старики и дети, обнимавшие в предсмертных судорогах паучьими ручонками шароподобные животы. Только церковь еще утробно гудела мольбами отца Серафима, да стонал по округе колокол, бесполезно взывая к миру.
И когда уж совсем подошел предел, появились за околицей, на дальнем косогоре черные скособоченные фигурки, и позади них – подвода с одной лошадью. Спустились они вниз; любопытствовать в деревеньке насчет пришлых никто не захотел, да попрятались от греха, а иные не могли – лежали в избах, вздувшиеся от зловонных газов, страшным укором оставшимся в живых.
Встали новые люди табором возле церкви, лошадь выпрягли, кургузую доходягу. На подводе раненые были, числом – семеро, обреченно сидели и тихо, а один борзый, как налетчик, орал по-матерному и культяпые руки без пальцев с болтающимися кровавыми лоскутами к небу воздымал.
Смотрел из церкви на страстотерпца отец Серафим, плакал и крестился.
Тут от кучки бойцов отделился небольшого роста человек, странно-рыжий, обутый в сапоги, при галифе, новом черном кожане с портупеей-одноколейкой и жесткой, необтертой еще кобуре. Бойцы побрели по проулкам деревенским, стали в избы заходить и, не смущаясь мертвецов, принялись шарить по пустым сусекам.
Обшарили деревеньку – хоть шаром покати. Вернулись к церкви и один, издалеча еще, вдруг шумит:
– Товарищ комиссар! А товарищ комиссар! Попа надо тряхануть! Во чего говорю, – попа! У ихнего брата завсегда заначка заначена. Давай попа искать, товарищ Маузер. Прижжем ему задницу – мигом харчей приволокет.
– Дело, – говорит рыжий в кожане, – дело. Искать попа!
И пошли бойцы искать попа. Наперво, конечно, в Божий храм. Отец Серафим прятаться не стал, сам вышел. Взяли его за ризы и поставили перед комиссаром.
– Что же ты, – сказал Маузер, – опиум народу задешево продаешь? А ну как душу погубишь?
– Слухайте, граждане, – сказал отец Серафим и заплакал. – Мы власть завсегда уважали, особливо Советску. Тока жизни от ее нету, потому как она – по образу и подобию геенны огненной – на крови человецех. А людей нельзя же убивать, бо человече – сосуд Божий…
– Да ты, поп, философ, – сказал Маузер и похлопал отца Серафима по плечу. – А вот мы сейчас вызнаем, что ты за сосуд…
Тут подошел к ним боец Степан Глызин – с выбитым глазом, шрам через все лицо багровой колеей.
– Ты, – говорит, – товарищ Маузер, много времени на контрреволюцию транжиришь. Убери с дороги, словно ненужный хлам, этот чуждый нашей идее предмет. Пусть пролетарская секира посечет ядовитую траву, но допрежь я попу скажу: вишь, товарищ мой боевой, красный командир Гнатюк геройски погибает? Щас культяпки ему будем коротить. Ты давай самогону – раны заливать.
– Отрок мой любезный, – сказал отец Серафим, – бывают у пастырей поводыри?
– Вона что… – протянул боец. – Дозволь, товарищ комиссар, враждебному попу ум исправить, а то у него вид расстроенный.
– Дозволяю, – сказал Маузер.
Глызин отошел в сторонку, деловито винтовку к дереву приставил, вернулся, к Маузеру приступил:
– Пожалуй пятачок, товарищ комиссар.
– Изволь, – отвечал Маузер. – Царев пятак вовсе и не деньги.
Боец взял пятак, поудобнее вложил его в грубую ладонь и, охнув, ударил отца Серафима в живот – коротко, будто ножом пырнул. Отец Серафим крепко обнял себя за талию, затанцевал меленько, ножками перебирая. Глызин ладонь поразмял, снова пятачок пристроил и – в ухо его сбоку – р-раз! Упал отец Серафим на землю, а земля уж заскользила, потому как снежок пошел мокрый, слякотный. Тьма египетская разверзлась и поглотила отца Серафима, но ненадолго. Лицом он сей же миг прохладу почуял – глину мокрую, почуял и очнулся. Дернул веками – перед ним кирза в глиняных комках. Потоптались сапоги у его лица, одна нога отодвинулась чуть в сторону и с размаху врезалась ему в щеку, а потом еще – смачно, с хрустом сокрушая череп, а в мозгу разноцветные огни ночную черноту бессознания и беспамятства так вызвездили, что, казалось ему, и при солнце светлее быть не может.
Тут в церкви завопили, и наружу вылетела тетка Пелагея, подбежала к бойцу, звереющему от немоты жертвы, вцепилась ему в ноги:
– Сынку, сынку, не надо, деточка! Христом Богом молю, не убивайте!
И шли быстрым шагом к тетке Пелагее два иных бойца, хотели оттащить, а она пуще держится, не пускает черную кирзу на волю. Обняла сапоги, как детей перед вечным прощанием, к голенищам щекою поприжалась, а на голенищах кровь – пачкает ей щеку. Кричит тетка Пелагея, убивается, Господа Бога нашего в заступники зовет, глядит снизу вверх на бойца собачьими глазами.
Глызин остывать стал, вперил взор кровавый в теткины зрачки-черничины – сил нету оторваться.
Подошел к нему Маузер.
– Товарищ, кой черт сдался тебе этот паршивый поп? Ничего от него не выбьешь. К тетке лучше приглядись… Да ребят возьми, баба ядреная, враз не урезонишь.
И боец вцепился тетке Пелагее в волосы, потащил по раскисшей земле на паперть. А другие, те, что подмогнуть бежали, бросили винтовки, и им тоже по вихру досталось, благо волосы у бабы были знатные. Тетка Пелагея по глинистой жиже за ними на коленях ползла, путаясь в мокрых и холодных юбках. Бойцы уработались – знамо дело, голодный быстро устает – дышали часто, резко, холодный парок дрожал над ними, рваными клочками улетая в небо.
Затащили ее в церковь, отпустили невзначай, она вырвалась и – под образа. Там ее, под образами, и поставили на четвереньки головою в угол, а чтоб не трепыхалась, один сапогом ей шею придавил.
Задрали тяжелую, набухшую слизистою грязью юбку, вывернули ноги – острые каменные плитки пола больно врезались в мягкие колени. Расстегнули ремни, торопясь, даже вшей с исподнего не отряхнули…
Гулко было в церкви, холодно. Замаячил в проеме Маузер, постоял, поглядывая. Один боец молча отошел, – ярко мелькнули в полутьме храма белые жирные ляжки попадьи. Маузер злобно ухмыльнулся, вышел наружу под мокрый снег…
– Эй, ребята!
Бойцы подошли к подводе.
– Что ж, товарищ Гнатюк, друг ты мой единственный… Попы, видишь, скаредные, нету пролетарского сознания в их отсталых головенках. Посему самогон и поприпрятали. Без наркозу пользовать тебя будем, ты уж извиняй.
И махнул рукой.
Взяли бойцы своего командира, товарища Гнатюка, под руки, подтащили к пенечку рядом с церковью, усадили, поудобнее пристроили.
– Ну, ребята, – сказал Маузер, – кто-нибудь выдюжит из вас?
Но ребята дружно глядели в землю, все ответы на все вопросы – там, в земле-мати.
– Трудно делать с такими бойцами мировую революцию, – покачал головою Маузер. – Ай, вояки! Под Кутелихой юнкеришкам штыками глотки затыкали, а тут сопли распустили – командира от гниения не в силах спасти.
Подошел к подводе и принес топор. Тронул лезвие ногтем:
– Туповат…
А Гнатюк увидел топор и заорал, забился:
– Братцы, не пущайте его до меня, это черт, как есть черт, у него и рога под волосами. Баба у меня в деревне осталась, чем я с нею обходиться буду?
– Во дурак, – сказал Маузер, – нужны ей больно загребалы твои. Скажи спасибо держимордам революции, что все другое у тебя на месте. А нет – так заживо сгниешь – культяпки-то уже смердят…
– Мальчик, пощади, – сказал командир и заплакал.
– Держи, ребята, крепче своего атамана, а то он больно дерганый. Могу ведь случаем и лишнее отчекрыжить. Гляньте все, каков товарищ Гнатюк, красный командир и герой – мы его к ордену представим и отрезом доброго иноземного сукна наградим…
Сказал и ахнул два раза топором. Хрустнули кости командира, и звериный вопль взорвал мокрую осеннюю тишину.
Маузер поднял голову. Глянул невидящими пьяными глазами, только сверкнули, заведенные под веки белки. Губы серые отворены, и на грязном небритом подбородке – алые брызги, словно родинки.
Церковь, голые деревья вокруг.







