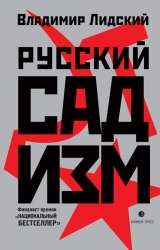
Текст книги "Русский садизм"
Автор книги: Владимир Лидский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Глава 5
Что сказала Нике Михайловой Ганна Онопко в камере Бутырки после девятого допроса
Пострадала я из-за любви, но товарищ Сталин узнает обо мне и спасет душу мою грешную…
Я любила деток. Даже когда сама была малышкой, нянчила пупсиков и кукол. Люблю смотреть на эти небесные создания, на их незамутненную страстями неземную красоту, люблю перебирать их шелковые волоски, не покрытые еще пылью пройденных дорог и коростою житейской грязи. Я просто замираю от любви, когда гляжу в их блистающие любопытством глазки – карие, синие, серые, когда вижу их дрожащие реснички и бархатные бровки, удивленно взлетающие кверху. А их нежные, не знающие сладкого греха губки, не обремененные памятью ругательства или грозного проклятия – как я люблю на них смотреть и слушать шепелявый шепоток. О, этот детский голосок! Он то звенит, подпрыгивая к небу, подобно резиновому мячику, то сходит на полутона, доверяя мне свои детские секреты, то тянется сладкой густой полосой, как будто мед медленно перетекает из банки в блюдце, и это бормотание и сонные медлительные речи напоминают мне о том, что вот сейчас, сию минуту, через мгновенье родится чудный сон с цветами и полянами, и волшебными зверями, и ласковая фея станет порхать над луговыми травами, и маленькие эльфы закружатся над миром, запутываясь в мягких шерстяных нитях солнечных лучей. Как же я люблю деток! Выхожу я утром из дому, вижу во дворе неуклюжие фигурки, слышу радостные визги, и теплеет на душе, и хочется их тискать, обнимать и целовать, и вдыхать их молочное благоухание.
И скоро у меня такая возможность появилась. Вот как-то стала я слышать по вечерам, а коммуналка наша была на последнем этаже, что кто-то возится над моей головой и не дает спать. Долго я это терпела, да и помыслить не могла, что наш чердак населяет кто-то помимо голубей и кошек. К тому же я боялась затаившихся врагов, которые, согласно нашей прессе, прячутся в укромных лазах и наносят оттуда советскому сообществу свои коварные и злобные удары. А возня наверху все длилась и с каждым днем все явственнее ощущала я ее наличие. Наконец, не вытерпев, позвала я управдома, и мы открыли двери на чердак, а там – гляжу и глазам своим не верю – лежит на слое голубиного помета закутанный в гнилые тряпки перепачканный с ног до головы белобрысенький ребенок, мальчик трех или четырех годиков от роду, лежит и потихонечку посапывает. Разбудили мы его, а он с перепугу управдома за палец укусил, и тот отвесил ему такую оплеуху, что разбил мальчонке нос. Тут же управдом пообещал отправить его в Айнскую тюрьму для малолетних, есть у нас такая на восемьдесят третьем километре, но я вступилась и сказала, что возьму его к себе. И что же – действительно взяла и пригрела сироту, а он даже фамилию свою знал – Ванятка Удальцов, и тот Ванятка поведал мне, что мамка его померла от тифа, а папку победили злые вороги, и он пал на боевом посту от их кровавых сабель, шашек и наганов. Ну, отмыла я его от засохшего дерьма, накормила, напоила и в свою коечку поклала. И могла с тех пор обнимать, и целовать, и вдыхать, как мечтала, его молочное благоухание.
Но после того случая захотела я сама родить ребенка и пророчила себе множество детей – пятеро, а то и семеро, и давно уже появился в моей жизни тот великий человек, коего черты хотелось бы мне видеть в моих детках. Господи, если бы он снизошел, как бы я его любила и с каким наслаждением растворялась в его объятиях! Но вот тут-то и была препона, ибо он был не из простых людей, а из тех, кто чтится наравне с богами. Я о нем мечтала день и ночь, видела его во снах и просыпалась по утрам со сладкою истомою под животом, с желанием быть с ним, и растворяться в его жизни без остатка, и погибать в его объятиях и поцелуях. Как я хотела от него детей! Но как сказать ему об этом, как к нему пробиться, ведь он не на земле живет – на небе, и кто такая я перед его солнцеподобной славою и перед именем его святым – товарищ Сталин? Как я люблю Вас, божественный всемирный светоч, Вас, который возводит фабрики, заводы, шахты, строит корабли и самолеты, и кормит всю страну, Вас, безмерной красоты мужчина, своею статью затмевающий всех, великий, величайший, благодетель всей вселенной, родной отец мирового пролетариата, водитель большевистских масс, вождь революционеров всей планеты. Взгляни, любовь моя, вон, на горизонте горит Полярная звезда, и далекие ее жильцы приветствуют Тебя и обустраивают жизнь по Твоим великим чертежам. О, этот зодчий знает толк в социалистических постройках! Встают гигантские дворцы, произрастают благоухающие сады и цветники, изумрудная трава поднимается над напоенной влагою землей, и в ней видны головки разноцветных одуванчиков-детишек. То мои детишки, и пошли они лицом в отца; как они похожи на Него, на моего любимого, бесценного, обожаемого Иосифа Виссарионовича. Живу я как во сне, судьба накрыла меня пологом влюбленности, и мне бы развернуться, скинуть покрывало, очнуться от моей горячечной любви, ан нет, не хочу, – все глубже, глубже погружаюсь в сладкую пучину и замираю от крамольных мыслей: властные и сильные руки моего кумира гладят и ласкают меня, срывают прочь мою одежду, и я вся отдаюсь во власть любви.
И вот в таких мечтах и мыслях устроилась я на работу в детский сад и прихватила туда своего сыночка Ванятку Удальцова. Хорошая работа – доброжелательные сослуживцы, опять же день в тепле и рядом с кухней, то есть голодать не будешь, а главное – детишки-одуванчики кругом, то, чего мне в жизни не хватает, прихожу я к ним почти как в церковь, такая благодать нисходит на меня! Я ведь стародавнего происхождения, родители мои Бога почитали, и я, стало быть, имею к нему духовное влечение. Но деткам моим я про Бога говорить боялась – долго ли беду накликать, – а вот сказки про нашу жизнь счастливую слушали они с вниманием.
И вот как-то сказываю я им сказку: «Жил да был в нашей милой Родине замечательный и мудрый царь по имени товарищ Сталин. Он хотел, чтобы люди всей земли жили счастливо, чтобы не было голодных и бездомных, чтобы каждый человек приносил пользу другим. Раньше в нашей Родине жили толстые и злые богатеи, они брали жилистые плетки и сильно-сильно били пролетарский люд. Но вот пришел старенький дедушка товарищ Ленин, учитель будущего нашего царя и благодетеля, и сверг своей рукой проклятых богатеев. И зажили все в счастьи и согласии, не стало обиженных, сирых и голодных. А когда дедушка Ленин помирал, и по всей стране стоял вой прощания и скорби, он призвал своего ученика и друга и сказал ему: «Товарищ Сталин! Вот даю тебе бразды правления, царствуй!». И преставился, да будет ему память на века. А товарищ Сталин, видя как дрогнули ряды осиротевшего пролетариата, кликнул клич во всю землю русскую: «Эй, народ! Удалые бойцы, буйны молодцы! Стройся под знамена нашего социализма, закрывай своими героическими грудями прорехи в стройных рядах большевиков! Призываю пролетариат и крестьянство! Закатилося наше солнышко! И поскольку надобно сломить это горе числом новых партийцев, объявляю последний ленинский призыв: придите в скорбный час и вступите в свою родную партию! Призываю и весь животный мир: насекомых, пресмыкающихся, птиц, зверей – придите и вступите! Это ваша партия, она спасет и защитит вас от невзгод, она добудет вам прокорм и укроет в непогоду. Зову коммунистическим призывом трудящихся ос и муравьев – у вас коллективная мораль и правильное понимание справедливого сообщества, но зову и кузнечиков, бабочек, стрекоз, жуков, зову домашних насекомых – клопов, тараканов, сверчков, этих люмпенов человеческого дома, мы определим вас всех на пользу нашего строительства! Призываю и земноводных – пресмыкающихся, для всех мы найдем общественнополезную работу».
Тут товарищ Сталин вышел на красное крыльцо, поворотился к небу и воззвал: «Птицы небесные! И вас тоже я зову в нашу партию. Но только не всех, а трудовую косточку, способную понимать задачи победившего народа. Гей, вы серые воробушки, гей, вы черные воронушки! И прошу поостеречься всяку-разну сволочь буржуазную – певчих соловьев, дроздов и канареек. Вас мы, господа, определим по нужникам трели выводить. Но да здравствуют вороны, галки и мужественные орлы! Только с вами, безжалостными охотниками и санитарами, победим мы сопливую и хлипкую нерешительность последышей гнилой интеллигенции. Ой вы, соколы мои ясноглазые и сапсаны мои светлоокие! Поскорее слетайтесь в нашу партию родную!».
Тут обвел он взором своим пламенным землю русскую и прокричал в степи и леса могучим голосом: «Звери, звери! Собирайтесь под мое начало и вас не оставлю я своею милостью. Предпочтение мы отдадим здоровым, сильным и тем, кто не гнушался в оны времена отведать падаль за неимением лучшего куска! Сходитесь все, и мы сплотимся под руководством нашей партии, сомкнем ряды теснее и победим, победим, победим!».
Вот так сказывала я сказки милой детворе, и детвора слушала, ушки навострив. Да недолго я была счастлива, оказались одуванчики мои умнее, чем я предполагала, более меня понимали в жизни и менее – в моей любви к вождю, за что я и поплатилась. Прихожу однажды на работу, а меня поджидают двое в штатском, и Ванятка Удальцов, мой любимчик белобрысый свидетельствует против любящей моей души. Я остолбенела на пороге: в нашей Богом брошенной стране невинные младенцы с ангельскими взорами целуют тебя непорочным поцелуем, будто в Гефсимане, а те, кто не целует, может быть, в силу неразумия, спешат отречься, едва заслышав петушиный крик… И показывал Ванятка Удальцов своим тоненьким пальчиком на меня, охальницу: вот-де, тетя поносила справедливый строй и разумное устройство государства и надобно ее за это окоротить. Ничего я не сказала, лишь попеняла Ванятке взором, и повели меня под белы рученьки и привели сюда, а здесь уже немало девушек и женщин, так же, как и я, любящих бескорыстною любовью нашего бесценного вождя…
Глава б
Что написал инженер Михайлов в своих восполлинаниях ради назидания потолгкалл
Задумываюсь я порою, что происхождение мое заслуживает памяти правнуков и внуков, посему хотелось бы написать о нем два слова хотя бы для того, чтобы беспечные потомки знали о своих корнях и в преддверии дурных поступков поминали эти корни, дабы охранить себя от неправильных шагов.
Происхожу я из семьи незначительной и бедной, но традиции и история ее очень глубоки. Мой отец, человек порядочный и строгий, занимал небольшую должность в Департаменте образования. Службою своей он гордился и исполнял ее с усердием и честно, не уставая повторять мне: ежели каждый хорошо будет делать свою работу, то и государство станет процветать и подчиненные его. Принимая во внимание качество отцовой работы, благоденствие должно было наступить во веки веков, а поскольку оно не наступало, приходилось думать, что все остальные в этом государстве не исполняют как должно своих обязанностей.Матушка моя служила сестрой милосердия в городской больнице и с началом войны, повинуясь патриотическому чувству, вместе с иным медперсоналом погрузилась в военный эшелон и поехала в полевой госпиталь, где и погибла через два месяца от залетевшего во двор госпиталя неприятельского снаряда. Воспоминаний о матушке у меня почти не осталось, я ее любил неосознанной любовью ребенка, а когда она исчезла, стал любить воспоминания – расплывчатое облачко, которое когда-то было моей матушкой. К отцу я не испытывал особых чувств, тот вечно нудил о благе государства, дворянской чести, благородстве мужчины и о том, что не хлебом единым жив человек. Оно, конечно, так, думал я, но лишь тогда, когда хлеба вдоволь. Духовные ценности хороши на сытый желудок. В гимназии, где я состоял на казенном содержании, я старался быть подальше от упитанных сыновей богатеньких родителей. И вот почему несколько лет спустя оказался в отряде Гнатюка. Революция, как я понял, делалась для меня, для моей семьи, для тех, кто работал, но не зарабатывал, кого давили обстоятельства, нищий быт и захребетники, не исполняющие как должно своих обязанностей. Ясчитал, и это простительно для молодого негибкого ума, напичканного при назойливом содействии уличных горлопанов всякой всячиной, что все богатства, праведно или неправедно нажитые толстосумами, следует безоговорочно поделить в равных долях – каждому по его законному куску. И с этой наивной и, безусловно, вредной коммунистической идеей я, покинув дом, прибрел через некоторое время к людям, у которых во лбу горели металлические звезды, а в руках бряцало оружие. И я вначале с упоением, а потом со все возрастающим ужасом начал погружаться в кровавую бездну, которая поглотила меня без остатка, стерла мое лицо, мысли, мечты и почти лишила разума, оставив в моем изношенном, но еще не окрепшем теле лишь звериную жажду жить во что бы то ни стало. Она не раз спасала меня – и в отряде Гнатюка, и при отступлении с Украины, она спасла меня под Чудовкой, где я горел в тифозном бреду, и в ставропольском походе, а главное – я выжил в прикаспийских песках, куда армию загнала на погибель кавалерия Шкуро…
В двадцать первом году живой и почти здоровый в полуразбитом эшелоне приехал я в Одессу. Первое, что бросилось в глаза на вокзале – большая красночерная афиша, извещающая о мемориальном вечере Блока в клубе имени товарища Лассаля. От нечего делать я пошел, опасаясь, однако, что не пустят – уж больно густо пахла потом и окопным дымом моя прожженная шинель, уж больно дико горели мои воспаленные глаза и чересчур корявы были пальцы, судорожно сжимающие солдатскую котомку. Но – пустили и, более того, подобострастно заглянули на входе в мое отрешенное лицо.
В зале сидела и стояла разномастная публика, был народ получше, был поплоше, чистенькие жались друг к другу, народ-сермяга заполнял проходы, неодобрительно поглядывая на интеллигентов. На сцене, освещаемые двумя керосиновыми лампами, читали стихи Блока, и я, как бы осязая, как бы пробуя наощупь давно забытые, но все же памятные строки, видел себя то в застывающей на морозе осенней грязи, то в мокром снегу на дне заледенелого окопа; видел поле, дымящееся порохом и трупным смрадом, убитую лошадь и бойцов, натужно пробирающихся к ней, и опять себя, как я полз вместе с ними к ее большому брюху, взрезал его штыком и погружал в кровавое пузырящееся месиво свои черные скрюченные пальцы… И это блаженное ощущение – пальцы согреваются, а я пью теплую лошадиную кровь, словно живую воду, и оживаю, оживаю, оживаю… Я многое приобрел на войне – научился зарываться в землю и определять по звуку направление движения снаряда, научился ненавидеть врага и себя самого – до помутнения рассудка, научился терпеть голод и боль, но вся эта наука казалась мне теперь бесполезной и ненужной, потому что стихи звали к милосердью и прощению, и сквозь предсмертные хрипы, злобные командные выкрики, харкающие междометья рукопашных схваток, сквозь яростное многоголосое «ура» звучала нежная мелодия любви и схватывала мое горло мягкой рукою…
На сцене стояла девушка в синем бархатном платье с кружевным воротничком и манжетами, таинственная, большеглазая, прозрачная, и свет керосиновых ламп падал на ее бледный лоб. Она читала стихи так нежно и так тихо, что мне казалось, будто бы ее голос и есть та самая мелодия любви, которая вопреки гибельному дыханию жизни спасает меня во враждебном мире…
Мы познакомились, и я безудержно влюбился. Ника была из тех актрис, что не отличают сцену от реальности, ибо реальность тоже является для них сценой. Она была слишком возвышенна, слишком поэтична, и оттого в ней прорывалось что-то кукольное. Она обитала в эмпириях, ее невозможно было представить на кухне рядом с примусом. А я после ужасов войны только и жаждал возвышенно-небесного, мне нужна была иная крайность, которая только и могла вытеснить тягостное и опасное представление о жизни как о смерти. Я ходил на ее концерты, рвал пыльные цветы с городских клумб и как-то раз в маленьком окраинном клубе, в комнатке для артистов, увидев белые концертные туфельки, оставленные ею перед выходом на сцену, вдруг принялся целовать их неистово и с горячечным вожделением человека, близкого к умопомешательству.
Мне стало казаться, что я кружусь на карусели – до того стремительно мелькали вокруг ободранные эстрады и смрадные вокзалы, какие-то деревеньки и городишки, лица, улыбки и ухмылки, в ушах немолчным звоном звенели обрывки песен и блатных мотивчиков, имен и названий, комплиментов и матерщины, все смешалось в какую-то чудовищную кашу, и я с чувством сладостного освобождения полетел в бездну. Очнувшись, я обнаружил себя совершенно истерзанным в незнакомом городке с прощальной запиской Ники в руках. Ничего не поняв, я кинулся ее искать, разумеется, безуспешно. Вне себя от горя и страха я пытался повеситься, но во исполнение известных законов фарса веревка оборвалась, и я прекомично рухнул, разбив себе колени. Месяца два проплутал я в сумерках депрессии, не помня ни себя, ни жизни и, в конце концов, оказался в первопрестольной, где начал потихоньку приходить в себя. Со временем жизнь вошла в положенное русло. Я устроился в дорожный трест, в рабочую бригаду – укладывал асфальт на московских мостовых, и так весело было от этой шумной грохочущей и лязгающей работы, от горячего асфальта, от белозубых улыбок чумазых работяг, от яркого солнца над высокими домами, что постепенно прошлое стало если не забываться, то прятаться в самые дальние уголки памяти. Потом перешел работать на каток – утюжил клубящийся асфальт огромным сияющим стальным цилиндром, целый день медленно плавал на своем катке по мостовой: назад-вперед, назад-вперед, и снова назад, и снова вперед. По вечерам, после работы много читал, возвращаясь в свою юность, перечитывал давно читанное, искал в журналах свежее, глотал дореволюционные подшивки «Нивы», с нетерпением ждал новые номера «Лефа» и «Красной нови»… Скоро мне захотелось учиться и я как-то с лёта, легко сдал вступительные экзамены и поступил в Автодорожный институт. Учился с удовольствием; не пренебрегал и маленькими радостями студенческой жизни – веселыми попойками, сговорчивыми подружками, воскресными загородными пикниками. Однако был у меня и разумный досуг – вместе с друзьями ходил на политические диспуты, на литературные вечера, на агитспектакли, с удовольствием посещал научные лекции.
Как-то друзья зазвали меня на рапповский вечер памяти Есенина. Атмосфера в зале была скорбная, слишком хорошо еще помнили все уход поэта. На сцену выходили поочередно Кирсанов, Уткин, Жаров, читали стихи. Тон стихов был сочувственный, поэта жалели и оправдывали. Молчанов пропел речитативом: «Тот, кто устал, у тихой речки имеет право отдохнуть…». Долго читал Безыменский – тоненьким писклявым голоском; закончив, вдруг вытянул шею, словно собирался прыгнуть в зал, крикнул: «Володя!». Я почему-то подумал, что это мне, но Безыменский смотрел чуть в бок, все глянули в ту сторону; поднялся Маяковский, публика зааплодировала. Маяковский сказал: «Вечер рапповский, я – зритель». Безыменский возразил: «Вечер – мемориальный. Неужели ЛЕФ против?». «ЛЕФ» был не против, Маяковский поднялся на сцену и прочитал «На смерть Есенина». Все замерли, а когда поэт произнес последние слова, зал загрохотал резко, яро, восторженно. Крики «Браво!», «Правильно!», «Молодец!» пытались продраться сквозь аплодисменты. Я со смятенной душой вскочил с места. Вот это по-нашему, по-большевистски! Сейчас не время для соплей! «Тот, кто устал у тихой речки имеет право отдохнуть» – это не для нас, не для тех, кто бежал в атаку по скрюченным трупам с вывороченными ртами и вместо «ура» орал матерные проклятия. Помереть-то действительно в этой жизни не трудно, столько врагов кругом, столько опасностей, столько скрытой, тщательно маскируемой злобы, а вот «сделать жизнь» и впрямь значительно трудней!
Я стоял и вне себя колотил ладонью о ладонь, вокруг тоже вскакивали, кричали, кто-то выбежал на сцену… Маяковский тем временем спустился в зал; вот он прошел вдоль первого ряда и я, следя за ним глазами, вдруг зацепился взглядом за худенькую прозрачную фигурку где-то впереди – в знакомом синем платье с кружевным воротничком… Сердце мое ухнуло в самую глубину души – это была Ника! – безумная, обманная любовь, актриса театра, в котором я исполнил роль статиста! Ты снова появилась, ты опять пришла, я тебя нашел, я тебя встретил, я тебя обрел, я тебя обрету, где ты была столько времени, любовь моя вечная, почему ты меня бросила, ведь я обожал тебя всем своим существом и делал для тебя все, чего бы ты не попросила! Куда ты уехала, с кем ты была, где тебя носило, ты изменяла мне, тебя надо убить, звездочка моя, любимая моя, самая нежная, самая красивая, чтоб ты провалилась, зачем я тебя снова встретил?! Тут я увидел, что к ее плечу склонился тучный пожилой мужчина в хорошем костюме и с ужасом узнал Гроссмана-Рощина, знаменитого литературоведа и преподавателя Брюсовского института, моего давнего знакомца. Именно он приобщил меня когда-то к публичным лекциям и литературным вечерам, именно он доставал пригласительные билеты, у него дома я, бывало, гонял чаи, в яростных спорах отстаивая свои наивные коммунистические взгляды. Гроссман был анархистом, и политические диспуты за чайным столом, особенно если спорщиков было несколько, превращались в настоящие баталии с воплями и шипящим шепотом ругательств. Я почти всегда оставался побитым – мои доводы легко опровергались, мои факты оспаривались. Наряду с Гроссманом самым агрессивным был некто Перышкин, чудом сохранившийся левый эсер, который, собственно, и ввел меня в тот интеллигентский круг, где можно было поговорить о поэзии, политике, женщинах, распить бутылочку винца, шумной компанией выйти в люди…
Вокруг продолжали бесноваться зрители, я, наступая им на ноги, стал пробираться в первые ряды. Среди шума, смеха, выкриков, дойдя до ряда Гроссмана и Ники, я негромко позвал: «Иуда Соломонович! Иуда Соломонович!». Гроссман, как ни странно, отозвался: «А, Володя! Иди сюда!.. Нет, лучше мы к тебе… сейчас… сейчас». Они выбрались в проход; мы с Никой самым идиотским образом вперились друг в друга; Гроссман захохотал: «Что, понравилась девчонка?! Ну, познакомься, познакомься… Моя студентка… Ника…». Ника протянула руку и в моем отуманенном мозгу мелькнуло: «Сейчас закачу пощечину…», но вместо этого я протянул руку и назвал свое имя. «Что с вами молодые люди? – снова хохотнул Гроссман, – зачем же так гипнотизировать друг друга?» Тут его кто-то окликнул, он отвлекся, отошел в сторону, его обступила восторженная молодежь. Мы с Никой, не говоря ни слова, схватились за руки и побежали к выходу.
В комнатке студенческого общежития, куда я ее привел, мы с порога кинулись целоваться и так неистово, что у Ники вспухли губы, но я вдруг принялся осыпать ее упреками, обвинять в предательстве. Почему ты ушла, ты бросила меня, как ты могла совершить такой поступок, – нервничая, волнуясь, теряя слова, я говорил какими-то книжными словами, – ты обрекла меня на страдания, маленькая подлая актриска, я тебя любил, боготворил, посвящал тебе стихи, неделями не спал, потому что моя любовь не давала мне уснуть, сходил с ума, а тебе было наплевать, ведь если бы тебе не было наплевать, разве бросила бы ты меня, разве променяла бы мою неземную любовь неизвестно на что или на кого, – на кого ты меня променяла, ну, скажи, я должен знать, кто был лучше меня и каким мне стать, чтобы снова завоевать твою любовь… я хотел тебя убить, честное слово, я и себя хотел убить, – видишь полосу на шее, как видно, судьба меня хранила, чтобы снова подарить встречу с тобой… ну говори, с кем ты мне изменяла… я представлю твои стоны, я знаю, как ты умеешь… ты ведь актриса, ну-ка покажи мне любовную сцену… неужели ты спала с Гроссманом, с этим жирным картавым мудаком… а ты знаешь, что он жену Луначарского… и хватанул от нее триппер, он же пудрится как баба, как ты могла с ним спать, про него и студенты говорят «и на губах ТэЖэ, и на щеках ТэЖэ, а целовать где же?», кто у тебя еще был – главный режиссер Большого театра, командующий Южным фронтом, а может, ты жила в обозе у какого-нибудь батька, может, у самого батька Махно, я был у него – знатный рубака и большой охотник до баб, особенно до таких институточек, как ты, а может тебя любил сам товарищ… Тут Ника обеими ладонями закрыла мне рот, и пока я хватал ее запястья, приблизила свои губы к моему лицу… Я нежно сжал пальцами кружевной воротничок старенького синего платья, и хрупкие пуговицы с треском полетели на пол…
Зимой мы поженились. Расписались в ЗАГСе за Новинским бульваром, вечером собрали друзей на молодежную пирушку. Пришли Кирсанов, Шкловский, Инбер – сокурсница Ники, журналист Бонгард, эстрадная артистка Соня Мей, пришли Перышкин и Гроссман. Собрались на Поварской, где Ника жила в большой коммунальной квартире, в угловой комнатке вместе со своей дальней родственницей, известной революционной комиссаршей Конкордией Ивановой. Стол был скудноват, зато под столом стояли бутылки с самогоном. Молодежь вначале стеснялась Гроссмана и Перышкина, которые сидели хмурые и насупленные, но потом, когда стали наливать и кричать «горько», все развязались и даже распоясались, начали рассказывать смешные истории, разгадывали шарады, пели частушки, Кирсанов читал стихи, потом играли в фанты и уже совсем пьяные – в бутылочку. Мне досталось целоваться с Гроссманом, но тот категорически отказался, сославшись на возможную ревность невесты, после чего я получил записочку от Инбер. Раскрыв сложенную бумажку, я прочел:
Не просто Гроссман, а Гроссман-Рощин,
Вот и в марксизме пробил он брешь.
Не ловелас он, но ловит нас он,
Но кто ж польстится на эту плешь?
Я дико захохотал, и все стали требовать, чтобы я прочитал записку, но я быстро спрятал ее в карман и в виде компенсации рассказал публике забавную историю о том, как будучи в плену у григорьевцев, играл в дурачка с самим батько и тот в награду за выигрыш подарил мне живую свинью и дамские панталоны с оборочками.
Когда стали расходиться, вдруг обнаружилось, что исчезли Перышкин и Инбер. Организовали поиски, разбрелись по коммуналке, распугали соседей, аукались, кричали, смеялись; в конце концов кто-то вытащил пропавших из ванной, растрепанных, красных. Вера пыталась прикрыть воротничком фиолетовый засос на шее. У дверей снова хохотали, пели песни, путали шапки и не попадали в рукава пальто; наконец выползли всей гурьбой на лестницу, и долго еще слышна была на улице веселая ватага…







