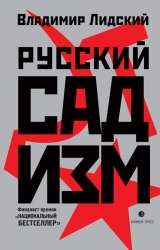
Текст книги "Русский садизм"
Автор книги: Владимир Лидский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Накануне свадьбы я не спал всю ночь. Шаббат в этот день был особенно торжествен. Сразу после захода солнца к дому дядюшки Менахема стали собираться гости – коммерсанты, коммивояжеры, контрабандисты, раввины, флотские офицеры, судовладельцы, торговцы с Привоза, банковские служащие, полицейские чины, метрдотели ресторанов, доктора, писатели, инженеры, бандиты, мои безалаберные друзья, подружки невесты, многочисленные родственники с обеих сторон. Весь немаленький и, я бы даже сказал, огромный двор дядюшки Менахема заполнили празднично одетые люди. Красивые, пышно убранные женщины с высокими прическами или в замысловатых шляпках, горделивые осанистые мужчины в ермолках, девочки в разноцветных платьицах и мальчики, словно лилипутики, в строгих костюмчиках с галстуками и с кипами на стриженых затылках заполнили пространство двора, и вся эта толпа оживленно гудела, производя мелкие движения, кругом слышались возгласы, вскрики, смешки, и над двором сгущалось ощущение нетерпеливого ожидания, бесконечного любопытства и жажды необычайного зрелища.
Посреди двора четверо моих друзей торжественно держали хупу, раззолоченную, расшитую в звезды и райские птицы и богато убранную в цветы. Я чувствовал себя растерянным, и даже присутствие моих родителей не утешало меня. Тут сквозь свое мечтательное состояние я услышал громкие голоса, и свадебная процессия начала движение. Впереди шли шаферы и калэс цат – подружки новобрачной, далее раввин, потом рыжий Шломо, выбранный свидетелем, за ним – я в сопровождении родителей, затем свидетельница и, наконец, сама невеста под руки с дядей Менахемом и заплаканной тетей Гитл. Гости встали на свои, заранее оговоренные места, и я видел их словно в тумане. Все колыхалось у меня перед глазами, находясь в постоянное движение. Мне сделалось жутковато. Но тут громом начала звучать «Цу дер хупэ», и дядюшка Менахем с тетей Гитл семь раз обвели невесту вокруг моей застывшей в оцепенении фигуры. Потом мы встали под хупу, и к нам приблизился раввин. Я смотрел на своя любимая счастливыми глазами, и она тоже лучилась от радости и счастья, но, подойдя к ней ближе, я почему-то не ощутил привычного аромата цветущих яблонь, но услышал резкий, хотя и приятный запах изобильных духов. Это настолько сбило меня с толку, что я не сразу разобрал предложение раввина подписать кетубу. Очнувшись, я торжественно поставил свою подпись под брачными обязательствами, после чего мамочка поднесла мне тонкое покрывало, что я накинул на голову моей возлюбленной. Успев на мгновение заглянуть в ее радостные глазки, я увидел вдруг какую-то мимолетную тень, скользнувшую, словно грозовая тучка, под ее красивыми куньими бровями, и совсем растерялся, а она стояла передо мною как Ребекка, покрытая покрывалом перед Исааком, и трепетала на ветру. Раввин, между тем, благословил вино, стоявшее перед нами, и, взявшись за руки, мы сделали шаг к столику, где нас ожидал бокал. Моя мамочка сняла покрывало с головы невесты, а я принял из рук раввина предназначенное дня нее кольцо. Глядя в ее милое личико и умирая от счастья, я завороженно прошептал: «Вот ты посвящена мне этим кольцом по закону Моисея…» и надел колечко на указательный палец ее правой руки. Раввин семь раз благословил нас и подал вино. Мы пригубили терпкую пахучую жидкость, и я с размахом разбил бокал о землю. Музыканты ударили в литавры, взвизгнули скрипки, а гости стали громко выкрикивать поздравления.
«Лехаим!» – слышалось вокруг. «Мазаль молодым!» – «Гиб а кук, гиб а кук!» – «Балабусте!» – «Мазлтов!» Мой папочка стоял рядом, и я хорошо расслышал, как он произнес довольным голосом: «Ан эмэсдыке идише хасэнэ» – настоящая еврейская свадьба. Тут поднялся невообразимый шум, замелькали охапки цветов, замысловатые дамские шляпки, всплескивающие ладони принялись порхать, как потревоженные бабочки, из стороны в сторону поплыли красиво упакованные подарки, – и все устремились к богато убранным столам. Бадхен нес что-то скороговоркой, и вдруг неожиданно запел «Лейкэх мит бромн», а гости радостно и возбужденно загалдели, всматриваясь горящими глазами в приготовленные закуски…
Не стану утомлять тебя, майн кинд, описанием той грандиозной вечеринки, перечислением несметного количества блюд, рассказом о безудержных и разудалых танцах и витиеватых тостах, скажу только, что когда с невесты сняли, наконец, фату и гости стали расходиться, я почувствовал необычайное облегчение. Когда мы остались своим кругом, за столом встал дядюшка Менахем и тихим голосом сказал: «Дорогие молодожены и близкие родственники! Я имею еврейскую привычку, чтоб всем было хорошо. Если я говору своим родным за сладкую жизнь, так Бог слышит и не скупится. Когда Бердичев рвал мою душу на куски, я молился и звал в помощь праотцов. Я работал, как вол, ради моя семья. Совсем молодым человеком познал я горечь сухого сухаря. Сначала я учился в портняжной мастерской у Менделя Аугенблика, пусть у него будет столько денег на леченье его макес, сколько он мне платил за работу. Это был редкий хойзекмахер. Я таки часто получал от него затрещины. Он делал меня наравне с помойкой. Но я не хотел, чтобы мне было плохо. Разве человек хочет себе плохо? Поэтому я быстро выучился на изумительного мастера. Все знают, что может достичь клигер ид. Он не станет кричать на Мясоедовской: «Ой, вей з мир, я не живу…». Он станет работать. Вы будете с меня смеяться, но я сказал себе: моя планида – знатность и богатство. Мой отец, пусть на здоровье спит в могиле, был шмуклером, да и меня в отрочестве приобщил к этому отчаянному ремеслу. Но я сказал себе: «Менахем, если тебе скучная судьба, займись сколачиваньем капитальца, потому это лучше, чем полиция будет копаться в твоей заднице». И я пошел по жизни, и пока я бродил тудой-сюдой по жизни, я многого увидел, потому много смотрел и за многое догадывался. И что вы думаете? Я таки разбогател. Почему нет? Но это все мое богачество за ради дочек, чтоб мне было за их локоточки и коленки… Вот сидит дружочек Гитл, женушка моя любимая. «Мы живем ради свои дети», – твердила она всю жизнь. А я что говору? Всякий денек и всякую ноченьку мне за их душа болит. Мы не можем, чтобы доча была олте мойд, – ее нужно замуж выдать. Вот поэтому сейчас перед гости такой замечательный жених, – чтоб он был здоров! Мы не можем отдать кровиночку свою за какого-нибудь урла или выкреста, потому чтим Бога всех евреев, а он завещал нам сохранять семя Авраама. Лучший хусн, сын лучшего друга и, можно сказать, мой приемный сын сегодня здесь, чтобы сроднить наши семьи и наперед дать потомство ради нашей общей радости. Благословляю вас, дети мои! Идите здоровые, зайд гезунд!»
И мы пошли. Мы пошли в хадар, где провели остаток ночи, день и следующую ночь. Я был окрылен мечтой и околдован счастьем обладания, потому и не сразу понял весь ужас происшедшего…
Утром я вошел в гостиную, где мои родители с дядей Менахемом и тетей Гитл пили кофе и, плача, упал перед ними на колени. «Что же ты наделал, дядя Менахем!» – прошептал я в отчаянии. «Азохн вэй! – отвечал дядя Менахем. – А нафка мина! Какая тебе разница, они же близнецы! Разве ты не знал – по нашим законам младшую нельзя выдавать впереди старшей!» Я заплакал еще горше и уронил лицо в мокрые ладони…
Через некоторое время дядя Менахем, этот а ид ви а бойм – бессердечный человек – решил сплавить меня подальше от греха, выделил мне долю и отправил нас с Хави в Харьков с поручением открыть там новую колониальную лавку. «Такую работу ты знаешь, ингеле, – сказал он на прощание, – и справишься с нею не хуже меня. Помни, что еврейское счастье всегда рядом с еврейским несчастьем, а иногда одно из них прямо вытекает из другого, причем, что из чего вытекает в наша жизнь предугадать решительно невозможно. Поэтому работай не покладая рук, а главное – думай в голове и всегда помни старую хасидскую песню “Ой, ви гит ци зайн а ид!”. Не забывай татэ и мамэ, а пуще не забывай о своем старшем друге, дяде Менахеме, что тоже всегда помнит за тебя…» Потом он раздумчиво оглядел меня, видно, сомневаясь, сказать или не сказать мне последнего напутствия, наклонился к моему уху и тихо прошептал: «Шванц – не главное в наша судьба…».
С тем и расстались. В Харькове я быстро освоился, нанял квартирку, арендовал помещение под лавку и начал потихоньку работать. Все шло на свой черед, но жену я возненавидел. Мне казалось, что передо мной а клавте, то есть просто-напросто ведьма, и когда она шла, отклячив свой вихляющий тухес, мне так хотелось дать ей хорошего пинка. Я глядел на нее и видел своя любимая Яэль, но она пахла не яблоками, а дорогими духами, и это была Хави. Я не мог разговаривать с ней, не мог найти темы для беседы, а если находил, она быстро иссякала. Хави раздражала меня в каждая мелочь. Она смотрела глазами Яэль, но не так, как Яэль, она двигалась почти как Яэль, но не так, как Яэль, ее тело было таким же, как тело Яэль, но это была не Яэль. В постели я не любил Хави, а только мучил напрасно. Я понимал, что она страдает, но не стремился перебороть себя и прекратить мучения, а, напротив, с палаческим сладострастием усугублял ее муки, делая все для того, чтобы ей стало еще больнее. В конце концов, она тоже возненавидела меня и в эта взаимная ненависть мы зачали Илюшу. Хави вся ушла в материнские заботы, и это несколько утишило нашу горестную вражду. Я в ребенке не участвовал вовсе, все время и усердие отдавая сколачиванию капитальца. Удачно вложив деньги дядюшки Менахема, я довольно быстро набрал обороты и вскоре стал очень небедный человек. Нужно было бы мне при этом хорошенько припоминать наставления моего благодетеля, – пусть бы он жил вечно и так же вечно страдал от поноса, – относительно счастья и несчастья, потому что, разбогатев, я стал тратить немалые деньги на вино. Я таскался по рестораны, а порой и обыденные кабаки, пил без продыху сутки напролет, жрал трефное и спал с девками, пытаясь на этот грязный путь отыскать хотя бы малейший отсвет моя любимая Яэль. Больше того, приходя домой, я начинал буянить и яростно избивать ненавистную мне Хави, что очень не принято в еврейских фамилиях. И остановиться не было никакой возможности. Хави сначала просто кричала, пытаясь укрыться от мои кулаки, молила о пощаде, плакала и шептала: «Марик, остановись, ведь я же люблю тебя…». Но я-то видел, что она меня ненавидит, и старался еще искалечить ее. Я бил кулаками любимое лицо Яэль и мне это было странно, – как я могу делать такая дикость? Однако когда в прекрасном, но искаженном болью лице моей потерянной любимой просверкивала ненависть, я разъярялся еще сильнее и бил уже слепо и безоглядно, стараясь не видеть страдальческих черных глаз, похожих на блестящие сливы, и не вдыхать отвратительный запах дорогих духов, перемешанный с терпким запахом женского пота, с запахом страха, боли и бездонного отчаяния. О, вей з мир! Как я мог!
В конце концов, я понял, что погибаю. В лавке меня заменял мой управляющий Тимофей Остапович, работали другие преданные люди, и дело крутилось само собою, но я знал, что это до поры до времени, а уж за семью лучше было вообще промолчать. Было ясно, что впереди – катастрофа. Осознав это, через небольшое время я скрепился, бросил дикие выходки, оставил в покое Хави, упорядочил дела и поехал до Одессы. По приезде я не показался ни дядюшке Менахему, ни тете Гитл и не зашел в тот дом, что считал родным. Опасаясь повстречать знакомых, я с вокзала поехал до Приморского бульвара в «Лондонскую» и поселился там в небольшой уютный номерок. В тот же день я увиделся с Яэль.
Какой неповторимый вкус имеет запретная любовь! Вот счастье встречи, радость узнавания, любимое лицо и привычная на ощупь кожа, вот запах – исключительный, необъяснимый, он манит, увлекает, и его очарованью нет пределов; нет в свете такого алкоголя, какой мог бы так заворожить; этот яблоневый аромат кружит голову и опьяняет пуще доброго вина…
Когда Яэль вошла в шикарный вестибюль гостиницы, ее огромные черные глаза расширились от удивления. Вглядевшись в беломраморную лестницу, в вычурную красоту кованых перил, в светящиеся весельем цветные витражи, увидев тончайшей работы наборный паркет и поражающую воображение венецианскую люстру, свисающую с потолка в центре вестибюля, Яэль изумилась всем своим существом, и наше первое после долгой разлуки свидание прошло под знаком этого изумления. Мы были поражены восхитительным, полным роскоши и одновременно уютным, почти домашним мирком, мы были поражены друг другом, и ночью она была настолько откровенна и так искренна в своих порывах, что если б я ее не знал, то мог бы заподозрить в ней опыт и невоздержанность желаний.
Мы пили друг друга, подобно путникам пустыни, после долгого пути приникших к роднику оазиса, и не могли утишить жажду. Ее не было дома два дня, а дядя Менахем уже к концу первого поднял на ноги городскую полицию.
Пора было убираться… Расставание было горьким. Яэль плакала, я сам едва удерживал рвущиеся наружу слезы, но судьба диктовала свои распоряжения, и на третий день я отбыл восвояси.
Если б возможно было померить моя горестная жизнь мерою жизни библейских патриархов, – да не будут эти слова страшным кощунством, – я бы отработал на своего нового Лавана еще трижды по семь лет, и все эти годы показались бы мне как несколько дней. Если б возможно было выкупить мне мою несчастную любовь ценою своего земного бытия, я бы не задумался, я бы выкупил, я бы сделал все, что угодно, даже если бы преисподняя была заинтересована во мне… «Господи, – порою в отчаянии выл я своему еврейскому Богу, – у меня здесь жизнь?!»
И вот я вернулся до Харькова и до своей ненавистной Хави и снова погрузился ин дрек повседневности. В моем случае лучше бы сказать – ин дрерт, потому что при все мои порносы и при все гешефты я жил будто бы в могиле и, словно вурдалак, питался кровью своей обманной, но законной благоверной. Впрочем, после поездки до Яэль, жена стала для меня вообще пустое место. Слава Богу, у меня пропала охота ее мучить. Пусть живет до ста пятидесяти лет и да будет блаженство в ее чреслах. Лишь бы я в том блаженстве не участвовал…
Но вот захожу я раз в гостиную, тихонько зашел, но не оттого, что в душе я соглядатай, а просто мягкая обувь была на ноги обута, – и слышу, как моя Хави говорит Доре Самуиловне, кормилице нашего Илюши: «Почему он не сдох до того проклятого дня, когда я на Божий свет явилась?.. Ой вэй! Я таки имею горе. Это не муж, это наказание. Лучше любить камень, чем такого мужа. То ли дело Павел Афанасьевич… Были от него цеталех?..». И тут она меня увидела. У нее стало такое выражение в лице, будто бы она – детоубийца, киндер койлер, и ее застали над удушение младенца…. Видел я того Павла Афанасьича и кое-что слышал за него. Это был крупный человек с наглой рыжей харей, в прошлом член какой-то шайки-лейки, бывший ссыльный, но якобы давно прощенный. С другой стороны, слышал я и то, что темных дел сей Павел Афанасьевич не бросил, и полиция негласно надзирала за его поступки, почитая сего человека неблагонадежным. Словом, темная история. Длинная история…
Бекицер, ингеле, эта майса затянулась…
Прошло совсем немного время, и моя Хави родила рыжего ребенка. Это был ты, майн кинд, и ты был вылитый Павел Афанасьевич. Я не удержался и избил Хави сапогами. У нее тут же пропало молоко, и потому за материнскую грудь ты ни капли не узнал. Тебя выкормила Дора Самуиловна. А Хави, когда оправилась и следы побоев сошли с ее лицо, поехала в дурдом, где самое ей место. У меня был очень дальний родственник, седьмая вода на киселе – Исаак Гурфинкель, что работал санитаром в городской психиатрической больнице. Так он договорился с главврачом, дал ему немного деньги, и тот поместил Хави в свои апартаменты. Правда, он положил ее в отдельная палата, и там было скучно и покойно, но я дал еще немного деньги, и ее перевели в палату к буйным, где было уже намного веселее. Там Хави один раз пыталась вешаться на простыня, а другой раз вскрывала себе вены, пропустив их через зубы. Но ее всякий раз спасали. Иногда я давал дальнему родственнику небольшие деньги, он уводил Хави в процедурная и закрывался с ней на ключ…
Вусы, ингеле, ты плачешь?..
Так прожила она годочка три, а может, четыре, периодически отказываясь кушать, потому что хотела умереть. Ее связывали, держали и кормили через силу, заталкивая кашу деревянною ложкою на рот. Но она плевала кашу и пачкала грубые руки санитаров. Так она протянула еще некоторое время, а потом отдала Богу душу. Я поленился забирать ее, выделил очень много деньги, и Гурфинкель все обделал наилучшим образом.
Да, забыл сказать! Яэль тем годом, что я ездил до Одессы, родила замечательный ребенок, девочку, очень похожий на нее, и назвали ее Никой. Дядя Менахем, по слухам, был сильно недоволен, переживал за тот позор и хотел даже наслать проклятия на дочь, но ребенок так смягчил его, что он скоро примирился со своею участью…
Глава 4
Что сказал Лев Александрович Тихоллиров Павлу Афанасьевичу Полуэктову в преддверии отъезда последнего за границу
Дегаевский катаклизм, милостивый государь, начался для меня, если вам угодно, в начале 1883 года. Сергей Петрович явился ко мне в Морнэ, и я был поначалу приятно удивлен его осведомленностью о революционных делах в России. Несколько дней мы провели с ним в приятнейших беседах, но потом его рассказы сделались путаными и отчасти нелогичными. Я стал замечать, что, забыв о своих словах, сказанных третьего дня или накануне, он сегодня своими новыми рассказами противоречил прежним. Когда я ему невзначай заметил это, он смешался и замолчал. Его молчание было каким-то тупым и странным. Позже все это, конечно, разъяснилось самым непосредственным образом.
Дегаев вообще, и при первом знакомстве, и впоследствии, представлялся мне человеком умным, что, кстати, противоречило мнению о нем Веры Николаевны Фигнер. Притом я не думаю, что Фигнер принижала значение его личности только потому, что он, несмотря на глубокую дружбу с нею, самым подлым образом выдал ее Судейкину. Вере Николаевне импонировала мягкость характера Дегаева, которая позволяла ему поддерживать ровные отношения со всеми товарищами в организации, но она же отмечала в нем отсутствие индивидуальности и нравственного стержня. Он был рыхлый, неуловимый, ускользающий, безликий, в нем не было яркости лидера, хотя в организационных вопросах ему не было равных. Сам я видел, что Дегаев обладает сильной волей, и однако же чувствовал его моральную ущербность. Более всего меня коробило в нем отсутствие каких бы то ни было нравственных границ. Он до фанатизма был убежден в том, что цель оправдывает любые средства, что, кстати, его в конце концов и погубило. Кроме того, он был непомерно честолюбив и обуян гордыней самомнения. Считая себя великим человеком, Дегаев готовился к великим же делам, впрочем, довольно абстрактно представляя себе их суть. Он стремился к какому-то идеалу, к какому-то грандиозному акту, способному вознести его к вершинам славы и чуть ли не поклонения. Во что это все вылилось, сегодня нам, к великому сожалению, слишком хорошо известно.
Дегаев был склонен к компромиссам и часто покорялся воле обстоятельств, причем в таких ситуациях, которые можно было бы разрешить одним решительным ударом.
Его мягкость, уклончивость, терпимость, готовность соглашаться с любым мнением проявились и закрепились, скорее всего, уже в семье, где превалировало женское начало. Мать Дегаева, спокойная, рассудительная, благодушная женщина воспитывала детей в своем духе, то есть в духе позитивного восприятия действительности. Что бы в жизни ни происходило, какие бы ужасы ни описывались в газетах, для нее существовал свой мир, спокойный круг собственной семьи, где все было чинно-благородно, где все любили друг друга и искренне друг другом восторгались.
У Дегаева было две сестры и брат. Старшая, Наталья, с юности подавала большие надежды – писала стихи, пела, декламировала и всей душою стремилась на большую сцену. Она была недурна собою, однако ее манерность и экзальтированность порою портили впечатление новых знакомых. Вдобавок она постоянно донимала гостей чтением тягостных драматических фрагментов и рассказами о якобы сенсационных случаях из своей жизни вроде того, что они с сестрой однажды произвели фурор в свете, явившись на театральную премьеру в вызывающих экстравагантных нарядах, причем одна была вся в белом, а другая – в черном…
Позже Наталья вышла замуж за некоего Маклецова, и на этом ее несостоявшаяся актерская карьера закончилась.
Младшая сестра Лиза тоже была художественной натурой, боготворила музыку и даже занималась в консерватории. Дома ее всячески оберегали от ручной работы – ее драгоценные пальцы нужны были концертному фортепьяно и восторженной публике. Зимою она даже надевала дома перчатки, так как в квартире было прохладно и руки могли потерять от холода гибкость. Лиза, как и все в дегаевской семье, бредила революцией и, хотя никакой практической работы не вела, хорошо знала многих «нелегальных». Покушение Первого марта вызвало шок в обществе, и Лиза первые дни после акта ходила загадочная и бледная, но когда стало известно о времени и месте казни хорошо ей знакомых людей, совершенно потерялась и места себе не находила до тех пор, пока не приняла решение лично присутствовать в день возмездия на Семеновском плацу. Решение было выстраданным и обдуманным, однако зрелище казни оказалось не под силу даже кое-кому из мужчин, а уж Лизе и подавно – она просто упала в обморок, и домой ее доставили посторонние доброхоты…
Был еще у Дегаева младший брат Володя, исключенный из морского училища за неблагонадежность. Взрослые студенческие выходки не смогли повлиять на его абсолютно младенческую сущность. Он был до того наивен, что совершенно серьезно спрашивал Веру Николаевну Фигнер, когда же, наконец, совершится революция, как будто она могла начаться по чьему-то повелению в строго определенный день. Володя, кстати, явил собою репетицию дегаевской авантюры: по решению организации он стал агентом Судейкина. Но так как человек он был мягкий, нерешительный и, повторюсь, инфантильный, подобная работа была не по его характеру, и вскоре он от дел отошел.
Думаю, вся эта история с Дегаевым началась в его семье, где все считали Сергея Петровича выдающейся личностью и каждым словом внушали ему осознание собственной экстраординарности.
Что касается Судейкина, то, мне кажется, они с Дегаевым были одного поля ягоды. Судейкин, несмотря на то что его методы сыска следует признать гениальными, был, в сущности, самым обыкновенным иезуитом, и именно это делало его работу чрезвычайно изощренной. Я всегда считал Судейкина язвой политической безнравственности, которая своим ядовитым гноем заражала русскую окрестность по обе стороны баррикад. Для того, чтобы потомки могли оценить истинную суть этого человека, следует сказать, что политический сыск был для него лишь вспомогательным инструментом в деле карьерного продвижения. Он считал, что на этом поприще будет заметен государю и общественности, а будучи замеченным, сумеет занять один из ключевых постов Империи со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ежели вы, милостивый государь, имеете об этом деятеле смутное представление и осведомлены о его подвигах лишь понаслышке – из газет и посредством полуправды сплетен, – я возьму на себя тягостную обязанность подробно ознакомить вас с его противоречивой и, не стану скрывать, неординарной фигурой.
Георгий Порфирьевич Судейкин впервые ярко проявил себя в 1878 году, будучи назначенным на должность адъютанта начальника Киевского жандармского управления. Первое его, так сказать, появление на публике связано с разгромом группы террористов, активно работавших над подготовкой серии покушений на лиц, приближенных к императору.
Занявшись новым для себя делом, этот бывший армейский офицер, человек скрупулезный и систематический, засел за изучение опыта предшественников. Всю работу отечественной охранки он поставил под сомнение, так как решил для себя, что обычные розыскные мероприятия в условиях нарастающего террора неэффективны. Следует не поиском заниматься, а разить точно в цель, предварительно просчитав ее и выверив. Для этого знающему человеку необходимо лишь указать на нее – только и всего. А знающим человеком мог быть единственно тайный агент, внедренный в организацию.
Судейкин внимательно изучил методы работы тайной полиции в Европе и вынес для себя немало ценного. Именно он продумал и в конечном итоге создал стройную систему политической провокации в России, благодаря которой впоследствии были разоблачены и обезврежены самые одиозные личности из террористической среды.
Первым его значительным успехом стал разгром киевской группы народовольцев, захваченных полицией с помощью провокатора Бабичевой. Имя Судейкина прозвучало на всю страну. Он был замечен в верхах и стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. Чтобы интерес к его персоне не угасал, Судейкин умело организовал несколько покушений на самого себя, показав тем самым общественности, какую важную работу он проводит и каким опасностям подвергается.
Тем временем народовольцы успешно осуществили цареубийство. Бомба Гриневицкого разнесла в клочья не только императора, но и все иллюзии, касающиеся борьбы государства с кровавым террором. Полетели головы, Лорис-Меликов потерял кресло. Зато Судейкин был приглашен в Петербург на должность инспектора секретной полиции и начальника Петербургского охранного отделения. На новом месте он немедленно принялся внедрять изобретенные и усовершенствованные им методы политических диверсий, создав колоссальную по охвату сеть агентов-провокаторов. В его руках сосредоточились огромные деньги; он практически бесконтрольно распоряжался щедро выделяемыми напуганным императором суммами. Судейкин был тонкий психолог и умело покупал агентов, находя в разношерстной революционной среде морально неустойчивых и материально зависимых людей, цинично играя на человеческих недостатках и житейских проблемах.
Именно так он завербовал Дегаева, о чем ходило множество легенд, хотя основных версий было две.
Согласно первой Дегаев сам пошел на контакт с Судейкиным. В декабре 1882 года в Одессе была разгромлена народовольческая типография, которой под именем гражданина Суворова заправлял Дегаев. Арестованный 19 декабря, он был абсолютно деморализован. Довелось мне впоследствии видеть его тюремные фотографии, так доложу я вам, милостивый государь, что ни до, ни после в моей жизни не имел я несчастия наблюдать ничего более удручающего. То было лицо человека, держащего за пазухой окровавленный топор, коим он только что зарубил с десяток православных, и весь ужас безумного убийства, все разверстые рубленые раны, фонтанирующая кровь и агония жертв были на его лице. Мрачный зловещий взгляд, отчаянный и вместе с тем исполненный звериной решительностью, обличал в нем затравленного хищника, готового ради спасения своей шкуры на что угодно. Однако сражаться Сергею Петровичу не довелось. Хитрый, льстивый и соболезнующий Судейкин поставил дело так, что Дегаев добровольно пошел ему в лапы. Долгими вкрадчивыми беседами Георгий Порфирьевич заморочил потерянному арестанту голову, да так, что Дегаев поверил, будто бы Судейкин – не охранная крыса, а убежденный народник и сам желал бы перемен в социальном устройстве общества. В министерских кабинетах и в чиновничьей среде его не понимают, провозглашаемых им идей не одобряют, а тайная мысль его, основополагающая, фундаментальная, сокровенная и до поры хранимая под спудом, поскольку чересчур крамольна, – есть отрицанье Конституции. И вообще, он – социалист, сторонник преобразований, и в деятельности нелегальных осуждает лишь стремление к террору, ибо террор – преступление против личности, против нравственной природы человека. И потом смысл! В чем смысл убийства человека, состоящего на той или иной должности? Ведь террорист устраняет не должность, а человека, упраздняет не дело, а только функцию, поскольку должность убить нельзя, убитый будет замещен другим, изменение окажется внешним, а суть останется неизменной. Место убитого чиновника займет другой чиновник, место убитого самодержца займет его наследник. Выходит, террор бессмыслен! А перемены, перемены необходимы! Нужно вместе, общими усилиями приближать их. Мы сможем влиять на политику правительства, сможем способствовать принятию правильных законов, мы сможем направлять революционеров в их борьбе! И именно в этом будет состоять наша великая миссия!
Для экзальтированного Дегаева, всей душою верившего в свое высокое предназначение, слова коварного Судейкина были словно бальзам на душу. Он поверил искусителю и как наивное дитя отдался в его хищные лапы…
Эти роковые обстоятельства излагаю я вам, милостивый государь, со слов самого Дегаева, и посему спешу оговориться, вооруженный по прошествии многих лет открывшимися деталями: на самом деле все было не так или не совсем так. Вербовка, описанная выше и, вероятно, с помощью именно тех мотивов и посулов, о которых известил Дегаев, думаю, была, но не в декабре 1882 года, а значительно раньше. Скорее всего, разоблачавшийся передо мною провокатор просто хотел сдвинуть сроки своего предательства, уменьшая их и умаляя свои заслуги перед охранкою. Вероятнее всего, он был завербован на полгода раньше – весной 1882 года, именно тогда по стране начала греметь необычайная слава Судейкина, теснейшим образом связанная, очевидно, с началом провокаторской деятельности нового агента. В начале июня в Петербурге Судейкин провел колоссальную акцию, нанесшую организации чудовищный по своей силе удар: за одну ночь было арестовано более ста двадцати человек. В их числе оказались и организаторы динамитной мастерской в квартире Прибылевых, где, между прочим, народовольцем Грачевским приготовлялась бомба для самого Судейкина. Думаю, эти погромные акции были первыми результатами провокаторской работы Дегаева, доказательством его лояльности новому хозяину.
Существует и другая версия падения Дегаева, достоверность которой кажется мне сомнительной, но, учитывая особенности его личности, эту версию также можно считать вероятной.
В агентах у Судейкина с недавних пор числилась малолетняя проститутка Нателла Зальцер, в миру Наташа Пискунова. Она заманила Дегаева в меблированные нумера, специально для подобных случаев оборудованные охранкой. Дегаев вытворял там с Наташей, что хотел, а спустя сутки полиция имела в своем распоряжении более чем откровенные дагерротипы. Именно ими Судейкин шантажировал и запугивал Дегаева. Во-первых, Дегаев был женат, во-вторых, в среде народовольцев подобные вещи глубоко и брезгливо осуждались. Вдобавок Судейкину удалось надавить на денежную «мозоль», и нищий, но жаждущий богатой жизни Дегаев пал.







