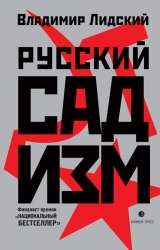
Текст книги "Русский садизм"
Автор книги: Владимир Лидский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Глава 3
Что сказал Марк Соломонович Маузер на смертном одре своему сыну Льву
Поди ко мне, майн кинд, дай мне прощение перед кончиной, ибо я много виноват перед тобою. Знай: каждому еврею нужно передать детям перед смертью своя тягостная жизнь. Слушай майсу, как твой отец грешил и не успел отмолить свои грехи…
Наш Бердичев был лучшим местом на земля, раем, созданным Богом на Волыни, нигде в мире не было штетла краше нашего.
Маузеры, да продлит Господь их род, издавна жили в Качановке, на берегу речки Гнилопяти, а потом перебрались в Старый город, поближе к клеру нашего знаменитого цадика Леви-Ицхака, пусть память о нем живет в веках! У нас в Бердичеве было несколько район – Старый город, Новый город, Пески, Та сторона реки, Качановка. Мой татэ, пусть на здоровье спит в могиле, всегда мечтал перебраться в Новый город, потому что там была хоральная синагога, театр, коммерческое училище, множество гимназий. Вдобавок здесь старались говорить по-русски, а русский язык у нас означал дорога к процветанию. Отец был портной и рядом с бедняками Качановки сам всю жизнь оставался бедняком. Таки еще счастье, что мы жили не в Песках, где, как туман, клубился какой-то выморочный мир. Покосившаяся хибарки, непролазная грязь на искривленных улочках, вонь от болотной Гнилопяти, беспросветная вечерняя мгла – вот черты Песков, куда я всегда боялся быть заброшенным неприветливой судьбою. Все евреи на Песках, просыпаясь по утрам, в отчаянии думали о своя судьба. Да и жили они тут, забытые Богом и мирскою властью – болезные, полуголодные, стойко переносящие свои бесчисленные цорес.
Другое дело – Новый город! Он всегда считался зажиточный район, здесь стояли кирпичные особняки в два этажа, обнесенные поверху крытая галерея или балконы, – такие веселые домишки под тонкими черепичными крышами, крашеные розовым, голубым и светло-зеленым. Я приходил иногда в этот район и с завистью смотрел, как богатые евреи сидят на просторные балконы и пьют чай из самовара, разнеженно беседуя о своих делах. Аф алэ йидн гезукт! Чтоб всем евреям было так!
Но попасть в Новый город было очень трудно, так как мой отец, пусть мягко ему будет на кладбище Бердичева, не был ни купцом, ни доктором. Поэтому, когда старый друг отца – дядя Менахем Айзенберг из Старого города позвал его в освобождающийся в связи с выездом соседний дом, отец немедля согласился. Это, конечно, не Новый город, но и не Качановка, пусть ее богатства затмят когда-нибудь богатства мира!
Дядя Менахем крепко дружил с наша семья и был очень радый, что его дочки-близнецы Хави и Яэль любят проводить время в моя компания. Я помню, тогда мне нравилась Хави, старшая из сестер; впрочем, разница в возрасте у девчонок была условной, родились они почти одновременно. Обе предпочитали мое общество любому другому, и если дядя Менахем с дочурками и своею женою тетушкой Гитл приезжали до нас погостить, Хави и Яэль не отходили от меня ни на шаг. Наши игры были так увлекательны, что когда приходила пора расставаться, сестренки вопили одна пуще другой, не желая покинуть наш дом…
После предложения дядюшки Менахема отец пребывал в эйфория целый день (так бывает с каждым евреем, живущим в облаках), а потом заглянул в свои каструля и впал в другая крайность – в беспросветное уныние и апатию, из которых его вывел дядя Менахем Айзенберг, да не оставит его Бог до конца дней без пропитания. Дядя Менахем был, что называется, а книпеле мит гельд, то бишь узелок с деньгами, и заработал он их, я думаю, не только ремеслом. Наш городок издавна считался крупным штетлом, и в те времена в нем пышным цветом расцвела контрабанда. Предприимчивые обыватели строили подвалы и погреба, соединяли их многометровыми ходами, и кое-кому из ловких шмуклеров-контрабандистов удавалось неплохо зарабатывать. По слухам, отец дяди Менахема – старый Мотл – держал не последнюю в нашем городке перевалочную базу, на которую поступали товары из Европа, Россия, Крым, Киевщина и Подолыцина. Вообще, зейделе Мотл был очень хитрым человеком. Происходил он из Галиции и уже в юности был а файнер сойхер, то есть торгаш, первый на деревне. От своего отца слышал я рассказанные ему дядей Менахемом байки о баснословных гешефтах, которые проворачивал в молодости Мотл. Видно, потому удалось ему в свое время купить такая красивая фамилия, как Айзенберг. Это, конечно, не Гольдштейн, не Апфельбум и не Блюменкранц, но тоже вполне достойное прозвание. Когда зейделе Мотл, в те годы совсем еще юный человек, предстал перед комиссией по дарованию фамилий, настроение у ее членов было, видимо, игривое, и ему предложили на выбор Хазенфус, что означает «заячья лапа» или «трус», Шмуциг, то есть «грязный», а на крайний случай Аангназ – «длинный нос». Нос у него был, конечно, не последний, но подобные фамилии носить он отказался. Поэтому попросил себе прозвание из прейскуранта и сказал, что может заплатить, к примеру, за «железную гору», имея в виду свою внушительную внешность: высокий рост, огромную голову на мощной шее и чудовищные железные кулаки. Так и стал Айзенбергом…
Ну вот, майн кинд, вернемся же снова к дядюшке Менахему, да пошлет ему Всевышний нахес и все, что он от жизни хочет! Он приехал к нам в коляске с шикарным вороным, стал в дверях и, трогая рукой мезузу, молвил: «Мазаль сему дому, да будет благоденствие живущим в нем евреям». Потом они с отцом долго сидели за столом, кушая сначала креплэх, сготовленные моею мамочкой по случаю прихода дорогого гостя, а потом попивая сладкий чай из блюдечек. О чем они судачили, мне и по сей день неведомо, только когда дядя Менахем уходил, мой отец сказал мамочке тонким шепотком: «А идише харц, пусть всегда будет бейлек на его столе…» и загадочно мигнул.
Вскоре мы переехали в Старый город и стали жить в изумительном доме по соседству с нашим благодетелем. Дядя Менахем не был, как и следовало ожидать, шмуклером, он был, как и мой отец, портным, только клиентура у него была, в отличие от отцовской, побогаче. Зная, какой он замечательный закройщик, люди шли к нему из Нового города, и потому в знакомцах у него были купцы, промышленники, богатые ремесленники, адвокаты и даже чиновники.
В новом доме мне удалось пожить совсем немного. Дядя Менахем забрал меня к себе учеником и подмастерьем, причем без права возвращения домой. Нет, погостить к родителям мне, конечно, разрешалось, и каждую пятницу вечером в канун Шаббата я приходил до них. Отпускали меня и на праздники, но в остальное время я был с утра до вечера занят портняжным ремеслом и трудился за пропитание. Мне было всего одиннадцать, я страшно уставал от жизни, и жалела меня только мумэ Гитл, жена дядюшки Менахема. Когда он отлучался в город, тетя Гитл умудрялась дать мне лишний раз покушать, сунув на десерт в мою потную ладошку маленький кусочек струдла или кихелах. Она жалела меня оттого, что другие дети в это время обучались в хедере, а я в поте лица работал в мастерская. Правда, в раннем детстве я немного поучился, но прошел только две ступени обучения, а с восьми лет уже помогал отцу в работе. К слову, когда меня трехлеткой отдавали меламеду, мамочка сказала, что платить ему семья не сможет, и предлагала обучить меня в школе талмуд-тора, но отец возразил: «Лучше я сам буду недоедать и сойду раньше времени ин дрерт, нежели майн кинд не попробует меду и сладости от Торы…».
Когда я увидел Яэль в первый раз после переезда, я сразу же в нее влюбился. Она была младше меня на один год, но уже в десятилетнем возрасте ее красота изумляла окружающих. Конечно, и Хави была красива и отличить ее от сестры было затруднительно, но при этом пахла она обыкновенно, а Яэль пахла, как яблоневый сад. Я хорошо помню этот первый миг: она стояла у сервант и грызла земелах; был предвечерний час и сумрак, керосиновая лампа из угла чуть сбоку освещала ее личико в обрамлении вьющихся волос, а черные глаза, как сливы, поблескивали в полутемноте… и этот запах, исходивший от нее, – я вдыхал его и мне казалось, будто я в цветочном омуте, которому нет ни дна, ни края… О майн мейделе, майн кляйне… Я влюбился и не спал всю ночь, а поутру уже собирал затрещины от дядюшки Менахема за нерасторопность и неточный шов…
Бекицер, ингеле, потом случилось горе, ты знаешь, что такое горе? Наш зейде Мотл – мы думали, ему небудет сносу – он возвращался вечером домой из синагоги и черт занес его на Ту сторону реки, он хотел навестить там знакомого еврея. Из переулка вышли шикер гойим, что захотели грабить зейде Мотла и ударили его ин коп. Он упал лицо на грязь, а шикер гойим, чтоб им сдохнуть, не дожив до старости, сорвали с него дедовский брегет на золотая цепь и вывернули все карманы. Дядя Менахем и мой папа всю ночь искали зейделе и нашли его лишь утром в следующий день. Бесчувственное тело принесли домой и позвали старый доктор Герш, давний знакомый дядюшки Менахема. У зейде Мотла была огромная а лох ин коп, а седые волосы перемешались с кровью и песком. Сознание не возвращалось к нему, и доктор Герш посоветовал позвать раввина. Сам он умыл рану зейде Мотла, выстриг волосы вокруг нее и обмазал изуродованный череп в пахучие снадобья. «Не оставляйте его, ради Господа», – сказал после того доктор и удалился в кухню, где ему налили чаю и предложили свежие баранки. Через некоторое время из ближней синагоги пожаловал рабби Шмуэль бен Моше и осмотрел раненого. Дядя Менахем сообщил раввину, что отец, не забывая Мишну, ежедневно каялся, как и следует правоверному еврею, ибо неизвестен нам день нашего ухода. «А ведь собирался пожить до ста пятидесяти лет!» – горестно добавил дядя Менахем. На что рабби Шмуэль, как и подобает истинному мудрецу, ответил: «А менч трахт, ун а гот лахт», что означало «человек предполагает, а Бог располагает». – «Сдается мне, – добавил рабби, – что вскорости наш зейде Мотл удостоится счастья увидеть праотцов». Я сидел на полу возле умирающий и сильно плакал, потому что любил огромного и страшного зейде Мотла. Он был добрый: гладил меня по голове и угощал конфеты. Мне было так жаль его и страшно оттого, что он лежит недвижим с огромной раною в затылке и пахнет странный неприятный запах. Этот запах поднимал во мне отчаянье и ужас.
Рабби Шмуэль тем временем подошел к ложу умирающего и объявил, что следует прочесть Видуй. Я тебе скажу, майн кинд, а ты запомни: предсмертная исповедь еврея – это личная беседа между ним и Богом. А поскольку зейде Мотл не имел сознания и не мог лично обратиться к Господу, то посредником пришлось стать рабби Шмуэлю, да будет благоденствие на века всем его потомкам. И вот рабби произнес Видуй, а дядя Менахем, сидевший на полу, вдруг громко разрыдался, но рабби мягко укорил ему, я правильно сказал?., сделал ему горестное замечание, и дядя Менахем стал плакать несколько потише. Потом рабби с выражением и с чувством прочитал «Возвожу очи к горам», «Из глубин» и в конце – «Живущий под кровом Всевышнего». Тут зейделе Мотл вдруг захрипел и открыл глаза. Мне стало очень страшно, потому что показалось, будто бы он в напряжении прислушивается к псалмам. Рабби Шмуэль тоже, видимо, был поражен новым состоянием умирающего и стал торопливо читать первую строфу Шма. Потом без передышки перешел к следующей строфе «Благословенно Имя славы…» и скороговоркою прочитал ее трижды. Далее он семь раз прокричал «Господь – это Бог», открыл рот, чтобы произнести последнее, но зейде Мотл опередил его; ясно и четко, хотя и тихо он затянул: «Адонай Мелех, Адонай Малах, Адонай Иимлох Леолам Ваэд», что означало: «Господь правит, Господь правил, Господь будет править вечно» – но тут в горле его заклокотало, он напрягся, багрово покраснел и, наконец, почил. Слушай теперь, майн кинд, важные слова: скоро и я уйду в тот мир, откуда нет возврата, и потому запомни: все, что ты сделаешь для мертвеца, – это Хесед Шель Эмет, «подлинная любящая доброта», которая бескорыстна и воистину лишена эгоистического вожделенья, ибо если живой, в отношении которого проявлено участие, может отплатить тебе добром, то мертвец уже никогда и ничем не отплатит. Так что помни, что Хесед Шель Эмет – есть высшая степень бескорыстия и уважения к усопшему…
Итак, зейде Мотл праведно скончался, успев переговорить с Богом, и все в доме дядюшки Менахема пришло в движение, исключая только его самого. Он оставался сидеть на полу возле постели почившего отца, время от времени горестно всхлипывая и причитая: «Ой-вей!», а окна во всех комнатах уже раскрылись и вода, во что бы то ни было налитая, поспешно выливалась. Вернувшийся из кухни доктор Герш держал холодеющее запястье зейде Мотла, а стакан с недопитым чаем уже опрокинула расторопная тетушка Гитл и спешила к самовару, чтобы опорожнить и его. Рабби Шмуэль равнодушно стоял перед умершим, помня о законе, согласно которому нельзя утешать человека, чей умерший родственник лежит перед ним. Однако он лично напомнил дядюшке Менахему о его насущных обязанностях. Дядюшка Менахем с большим трудом поднялся с пола, подошел к постели умершего отца и разорвал на себе рубашка с левой стороны от сердца. После этого он стал судорожно шептать что-то в открытые глаза покойного, роняя слезы прямо ему на лицо, и я понял, что дядюшка Менахем молит отца позднего прощения. Потом он закрыл его глаза и тихо попросил доктора Герша пригласить помощников, чтобы опустить тело на пол. Тетя Гитл закутывала по всему дому зеркала, и черный креп бережно укрыл все выходы в потусторонний мир. Тут к дому Мотла стали подходить пожилые евреи, они топтались в передней и, шепча что-то друг другу, тихо переходили в комнату покойного. Явились молодые помощники; под руководством рабби Шмуэля, они приготовили ложе на полу возле отрытого окна и бережно перенесли тело зейделе с его постели.
Тут меня отправили на кухню, где я провел несколько времени с Хави и Яэль. Должно быть, времени прошло довольно много, потому что потом я помню себя уже возле гроба, в который лежит умытый и одетый старый Мотл – в шапке, перчатках и перепоясанном саване. При мне гроб закрыли крышкой, оставив в изголовье небольшую щель, укутали черным полотном и поставили у выходной двери. День смерти зейделе я помню незавершенными отрывками; вот он в постели, а вот – уже на полу, вот кухня и в ней перепуганные девочки: Яэль плачет, а Хави отколупывает краску с кухонного стола, при этом Яэль держит на руках кошку Басю и, прижимая ее к груди, порывисто гладит коротенькую шерстку. Я невольно заглядываюсь на девочку: ой, вей з мир, майн клейне, майн кецеле!.. Вот рабби Шмуэль дает наставления дядюшке Менахему, вот тетя Гитл несет простыни и полотенца, вот старый Мотл в гробу, а на его глазах и губах – глиняные черепки, вот кладбище, и гроб на веревках опускается ин дрерт, вот дядюшка Менахем, покачиваясь от горя, бросает первую лопату земли, потом подходят другие родственники, по очереди поднимая лопату с земляного гребня, потом рабби Шмуэль и все остальные, кто пришел проводить старого контрабандиста. Помню долгий нескончаемый траур, неудобное сидение на полу, многодневное горение тусклых свечей и ощущение невыразимой тоски, что привела и поселила в этом доме безжалостная смерть…
Но все в жизни имеет окончание. Прошел год, и траурные одежды были сняты. Дядюшка Менахем позвал мой отец и показал ему три слитка чистейшего золота, найденных в укромном уголке после кончины зейделе Мотла.
«Я имею хороший гешефт», – сказал дядя Менахем на следующий день, положил слитки в кожаный саквояж, попрощался с семьей и отбыл в неизвестность.
Через некоторое время знакомые евреи видели его в Одессе, он разговаривал на пристани с каким-то капитаном, и итогом разговора стало перемещение одного из золотых слитков в карман белоснежного капитанского кителя.
Через восемь месяцев дядя Менахем вернулся в Одессу загорелый до черноты, похудевший и с багровым шрамом на левой щеке. Грузчики переместили его багаж в портовые пакгаузы, и уже через неделю дядя Менахем открыл в центре Одессы колониальную лавку. Здесь продавался настоящий яванский кофе из Амстердама, десятки сортов изумительного китайского чая, аравийские финики, марокканские апельсины, туркестанский кишмиш, индийские пряности. Здесь же можно было купить гавайский ром, коллекционные французские вина и экзотические китайские сервизы для чайных церемоний. Дядя Менахем, применив еврейскую смекалку, ум и расчет, начал работать так, что скоро вся Одесса знала о новом заведении, где всегда вежливо обслужат, посоветуют лучшее, спросят о делах и здоровье. Словом, коммерсантом дядя Менахем стал таким же уникальным, каким был до того портным, и потому народ тянулся к нему отовсюду, а дело его процветало и набирало обороты.
Прошло еще около года, и дядя Менахем приехал в Бердичев навестить семья. Я хорошо помню его приезд. Он подъехал в сильно груженом экипаже, и я вместе с извозчиком долго таскал в дом коробки, ящики, саквояжи и баулы. В доме царил радостный бедлам. Тетя Гитл бегала по комнатам, как потревоженная клуша, время от времени истерически взвизгивая: «Ой, вей з мир! Здесь таки сумасшедший дом!». Прибежал мой отец и, тряся бородою, бросился обнимать дядюшку Менахема. Хави и Яэль стояли рядом в стороне, с некоторой робостью поглядывая на отца. Заметив их среди суматоха, он подошел к ним и открыл объятия. Девочки разом подбежали и просунулись в его ласковые руки. Он нежно поцеловал дочурок и со слезою в голосе прошептал: «Чтоб мне было за ваши кости…».
Вечером состоялось праздничное застолье. Моя мамочка пришла помогать тете Гитл, и совместными усилиями они сотворили изумительный ужин. Не стану описывать тебе, майн кинд, ни форшмак, ни геханте лебер, ни куриный бульон с кнедликами, ни гусиную шейку, ни поданный на десерт цимес с черносливом и изюмом и любимый мой леках в меду, обильно сдобренный корицею и имбирем, – все это я не стану описывать тебе, потому что ты и без меня прекрасно знаешь, что есть умелые еврейские ручки на изобильная еврейская кухня, а уж моя мамочка и тетя Гитл имели к еде не только умение, но и огромная любовь, что позволяло им всегда готовить фантастические блюда, о которых знатоки благоговейно говорили: «Цимес мит компот!», и эта благодарная похвала относилась, конечно же, не к конкретному, еще совсем недавно украшавшему стол цимесу, а к замечательному столу вообще и к удавшейся, зажиточной, сладкой жизни, что состоялась благодаря умной голове, расчетливой сноровке и упорному, хотя и не всегда обременительному, труду. В тот день, правда, не случилось на нашем праздничном столе традиционной гефилте фиш, но это только оттого, что она требует довольно времени, а наши мамочки и без того были стеснены.
После чая с леках все сидели довольные и сонные; дядя Менахем, отодвинувшись от стола и покачиваясь на задних ножках стула, любовно гладил свой живот, щурил масляные глазки на любимую супругу и ласково бурчал: «Амэхайя… амэхайя… Алэ вай едер туг… пусть так будет каждый день…».
Мой папочка тоже блаженствовал, с обожанием глядя на старого друга; наверное, он думал о том, каким все-таки значительным человеком стал дядюшка Менахем и как крепко следует держаться его в этой жизни, ведь вот он, достаток, вот материальные свидетельства успеха и процветания: какой дом, какая семья, какая толстая золотая цепь за обшлагом сюртука, а какой стол… В нашем доме стол был намного проще, даже и праздничный. Верхом нашего достатка была вареная курочка и свежая хала на Шаббат, а так всю неделю мы кушали картофельный суп, заедая его серым хлебом… Словом, видно было, что отец восхищается другом, правда, он и немножко завидовал ему, но главное, он испытывал по отношению к дяде Менахему великое чувство благодарности за меня, что взяли в работу и дали кусок хорошего хлеба. Поэтому, когда дядя Менахем сказал «Биркат Ха-Мазон» и сразу же после этого предложил мои родители увезти меня в Одессу, лица их засветились от радости, и я заметил, что первым порывом моего отца было подбежать к другу и обнять его. Но дядя Менахем сонным и блаженным взглядом остановил моего папочку и предложил, если мои родители не против, детально обсудить эту идею…
Так я попал в Одессу и стал мальчиком в колониальной лавке дядюшки Менахема. Город поразил меня – и люди, в нем живущие, и корабли на рейде, и бульвары, все, все отличалось от Бердичева, где только синагоги выскакивали из-за каждый угол да монастырь босых кармелитов возвышался над прочие улицы и переулки…
Три года пролетели как один день; словно бы уснувши вечером и погрузившись в беспорядочное движение между хозяйским домом, прилавком, подсобными помещениями и портовыми пакгаузами, Привозом и судовыми трюмами, городской набережной, улицами и бульварами, я беспокойно спал и видел в постыдных юношеских снах моя любимая Яэль, а утром просыпался и шел к прилавку на те же улицы, набережные и бульвары, где торговал с лотка апельсины, и все было то же, что и три года назад, только сам я был другой – высокий, сильный, мускулистый, покрытый густым южным загаром, с голосом и взглядом полным грубого вожделения к миру. Женщины уже поглядывали на меня с тайным смыслом, что обжигал мое сознание, и завеса плотских запахов опускалась на Одессу, смешиваясь с запахом рыбы, водорослей и апельсинов с моего лотка.
А потом дядя Менахем поехал в Бердичев и привез оттуда своя семья, только мои мамочка и папочка остались в этот пропахший весенней сиренью и вечным чесноком город. Я очень за ними переживал и думал, вдруг они приедут вслед за дядюшка Менахем, но, видно, штетл так крепко обнимал своих евреев, что вырваться из его объятий было нелегко.
Но приехала Яэль, да благословит Господь ее потомков, и пасмурный мир моей юношеской скорби несколько развеялся. Я глядел на нее и не верил, что она опять рядом, так близко, что можно прикоснуться; а шейне мейделе, девочка моя, милый ангелочек, спустившийся с небес! Я помню тебя совсем малышкой, – вот ты, стоя на четвереньки, нюхаешь в палисаднике цветы, или на дворе гладишь робкою ручонкою пушистую мордочку белой цигеле, а вот, опустив штанишки, присела у редкого штакетника и писаешь веселой струйкой на пыльную жухлую траву… А теперь ты стоишь передо мной, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, в розовом капоре и с легким кожаным саквояжем в руке, а другой рукою делаешь такое движение, словно хочешь удержать меня в моем стремлении к тебе, в моем порыве, в моей нетерпеливой нежности. А цацке! Шейн ви голд! Шеннер фун ди зибн штерн… С чем тебя сравнить, любимая моя…
Тут подбежала тетя Гитл и, бросив шляпные коробки, схватила меня целовать, и я с трудом увертывался от ее горячих поцелуев. «Ай, цукер зис! – причитала тетя Гитл. – Иди ко мне, паршивец…» И позже, придирчиво оглядывая моя крепкая фигура, удивленно поднимала брови: «Как вырос, ингеле, чтоб ты был здоров… как же ты здесь жил-то?». А я степенно, как взрослый, отвечал ей: «Тугой-тугай, мумэ Гитл, – день ой, день ай, – так и живем, если это жизнь…». Все хохотали, как сумасшедшие, – и тетя Гитл, и дядя Менахем, и Яэль, и Хави, и даже дворник Ибрагим, помогавший перетаскивать баулы.
И все пошло на свой черед. Дядя Менахем уже никуда не ездил, как раньше, а только ходил до порта и договаривался с капитаны, они привозили из своих странствий все, что он заказывал, а потом ящики, коробки и тюки с товаром доставлялись на ломовых в лавку и на склады дядюшки Менахема.
Домом и кухней завладела тетя Гитл, дочери были у нее в поварятах, и целыми днями весь квартал благоухал вкуснейшие запахи хозяйской стряпни.
Я был фактически членом семьи, у меня была своя маленькая комнатка в доме, кушал я за общим столом и мне ни в чем не было отказа. Правда, и работу с меня спрашивали строго, но она не тяготила, напротив, все было чрезвычайно интересно. За насколько лет я постиг все тонкости работы и в случае необходимости мог заменить за прилавок дядюшка Менахем.
Повзрослевшая Яэль частенько поглядывала на меня с нескрываемым интересом, и взгляды эти с течением времени становились все настойчивее. В свободное время мы гуляли на бульвары, бродили по закоулкам порта, наблюдали погрузку судов и суету матросов, ели на набережной мороженое и пили зельтерскую, заходили в синематограф, где пугались «Прибытия поезда» и хохотали над «Политым поливальщиком»… На этих прогулках я показывал Яэль те улицы, где сам любил бывать. То мы гуляли по Ришельевской и брели вдоль трамвайных линий до Оперного театра, потом выходили на Дерибасовскую под цветущие акации и медленно шли по ней, разглядывая витрины шикарных магазинов. То ехали на Французский бульвар и часами брели этим нескончаемым путем, разглядывая роскошные дворцы, почему-то именуемые дачами, что прятались за кованые ограды и живые изгороди. Еще мы очень любили Пушкинскую, обсаженную платанами, – взявшись за руки, мы шли по ее розовым плиткам и, устав, останавливались под какой-нибудь старый платан, Яэль прислонялась спиною к зеленому гладкому стволу, а я становился напротив и упирался рукою в дерево над ее плечом. Она была так близко, и в ее красивые черные глаза металось смятение, и дыхание мое сбивалось… майн мейделе, ведь я тебя люблю, я это знаю оттого, что у меня кружится голова, когда я вдыхаю дурманный аромат цветущих яблоневых веток… а шейне мейделе, гиб а кук, я умираю за тобой…
Так мы гуляли и любовались друг другом, и обмирали от взаимные прикосновения, а потом прошло еще немного времени и случился первый поцелуй, который без слов объяснил нам все, потому что когда я приблизил свои губы к ее губам, между нашими телами явственно затрещало электричество… Словом, вскоре мы умоляли дядюшку Менахема соединить нас брачными узами, а дядюшка Менахем сначала был сильно недоволен, хмурил свое загорелое лицо и отвечал что-то очень неопределенного, но через некоторое время как будто бы смирился с подобным поворотом и однажды даже позволил себе пошутить за обеденным столом: «А готов ли ты, ингеле, – лукаво спросил он, обращаясь ко мне, – послужить семь лет за Яэль, как служил Иаков брату матери своей?..». Я до того смутился от неожиданности этого вопроса, что покраснел и не смог ответить чего-то вразумительного. Долгая пауза висела за столом с минуту, пока я нашелся и, поборов смущение, тихо прошептал: «Но ведь я уже отслужил тебе семь лет, дядя Менахем…», – и твердо посмотрел в его глаза… По ответному взгляду дяди Менахема я понял, что он уже все решил и потому через пару дней, вечером, когда труды праведные были кончены, робко постучался в дверь его кабинета. Дядя Менахем сидел в удобное кресло и читал Агаду, – я сразу узнал книгу по старинному кожаному переплету. Он поднял голову и блуждающая полуулыбка, что вспорхнула на его лицо со священных вековых страниц, подбодрила меня и помогла преодолеть смущение, простительное юноше, приходящему к своему патрону за решением щекотливого вопроса. Дядя Менахем без долгие предисловия сказал, что он не против отдать за меня дочь и назначает время тенаим, то есть помолвки. Далее дядя Менахем предложил оговорить время самой свадьбы и настоятельно рекомендовал нам не торопиться с нею, а главное – постараться избежать праздника в грустный период между Песахом и Шавуотом. Мне хотелось сыграть свадьбу в субботу, сразу же после захода солнца, чтобы одно счастье плавно перетекло в другое, чтобы радости и веселья случилось вдвое. Дядя Менахем и здесь был не против, только советовал в этом случае выбирать день ближе к зиме, потому что осенью Шаббат завершается раньше и начать празднество можно уже вечером.
Я вышел из кабинета дядюшки Менахема счастливый и окрыленный, мысленно посылая всяческие благословения дому его и роду его. Да минуют моего благодетеля всяческие цорес, а мазаль и нахес, напротив, пусть пребудут с ним во веки веков! Аф мир гезукт! Все самое лучшее – ему, все самое светлое – ему, все благородные помыслы – тоже ему, живи вечно, дядя Менахем, и пусть мои дети, рожденные от Яэль, украшают твою старость!
На следующий день в лавку вошла тетя Гитл, дождалась, пока удалились все посетители, приблизилась ко мне, погладила по голове, как маленького, и заглянула мне в лицо счастливыми глазами. «Я так ее люблю, мумэ Гитл, – прошептал я, и густо покраснел в смущении – я хочу умереть за нее…» И тут тетя Гитл неожиданно расплакалась. «Мишуге, – сказала она ласково, – мишуге, пусть будет мне за твои кости…»
Итак, был назначен день свадьбы, и задолго до нее начались радостные приуготовления. Сначала, чтобы соблюсти формальности, в доме появился шадхен, и сватовство прошло в шутливой форме, потому как все уже было заранее оговорено. Потом состоялась помолвка, на которой главными гостями были мои папочка и мамочка, специально ради того прибывшие из Бердичева. Тетя Гитл вместе со свои маленькие поварята приготовили изумительное угощение, дядя Менахем пригласил клезмеров, и во время застолья они воодушевленно исполняли песни и танцевальные мелодии. Когда все хорошенько выпили виноградного игристого, дядя Менахем взял со стола чистую тарелку и с чувством расколотил ее о пол. Потом пришел бадхен, распорядитель и законник, подробно расписавший всю церемонию и ритуалы, что необходимо соблюсти. Был оговорен порядок свадебного ужина и составлено подробное меню. Дядя Менахем ходил гордый и довольный: вся Молдаванка, весь Привоз, все городские синагоги знали, что он выдает дочь замуж, и не за кого-нибудь, а за сына своего лучшего старинного друга. Слушай хорошо, майн кинд, – меня знала вся Одесса, почти так же, как и самого дядюшку Менахема, я мог заменить его в коммерции практически везде, и он не раз убеждался в этом, поручая мне зачастую очень хитрые гешефты. Встречая меня в городе, партнеры и клиенты дядюшки Менахема жали мне руку и вкрадчиво шептали: «Мазлтов, молодой человек, лучший хусн этой осени в Одессе».
За неделю до свадьбы мне устроили Уфруф в Бродской синагоге и во время службы члены моей конгрегации торжественно забросали меня конфетами. Последние семь дней согласно обычаю я не виделся с Яэль и очень тосковал, жалея себя и утраченное время, когда ее не было со мною.
В назначенный день в дом дядюшки Менахема пришли с музыкою бадхен и скрипач-клезмер. В комнате невесты щебетали ее подружки под строгим присмотром тети Гитл. Бадхен и скрипач проследовали в девичью, и я слышал из своей комнатушки, как скрипка выводила грустную мелодию «А гасн нигн». Сердце мое замерло. Я знал, как под эта музыка невесту покрывают свадебной фатою, что означает ее готовность к венчанию. Никто из моих друзей, находившихся рядом со мною в этот чарующий момент, не поддерживал меня в моем волнении, напротив, все они, и в особенности рыжий Шломо, добрый друг, но пошляк и глумливый балагур, отпускали в мой адрес сомнительные шутки, что были издевательство и могли в иная ситуация послужить поводом для драки. Но я все терпел ради торжественного мига и, чтобы отвлечься, вспоминал прекрасные моменты нашей с Яэль дружбы. Я вспоминал, как увидел ее в первый раз – как она стояла в полутемноте, и керосиновая лампа освещала сбоку ее миленькое личико, я вспоминал пухлый кулачок, крепко сжимавший земелах, и ангельские глазки, блестевшие сливами в сумраке волшебного угла… я вспоминал, как закружилась моя голова, когда я полной грудью вдохнул пыльный воздух одной из уютных комнатушек в доме дядюшки Менахема и мне почудилось, что вокруг – яблоневый сад и его благоуханию нет пределов. Я вспомнил первое прикосновение Яэль, что обожгло мне кожу, и первый поцелуй, оставивший на моих губах яблоневый вкус. Так вот почему написано «накормите меня яблоками, напоите меня вином, ибо я изнемогаю от любви…». Она такая веселая, беззаботная, сияет улыбкою, светится, словно свежее солнечное утро, а как она прыгает и хлопает в ладошки, когда отец привозит ей ойрингелех фун гельд, то есть золотые серьги; и вот она уже вдевает их в заранее приготовленные дырочки в ушах и бросается на шею дядюшке Менахему, целуя его и обнимая, а потом кокетливо посматривает в мою сторону, приглашая оценить подарок. Майн мейделе, майн малке, как же я тебя люблю!







