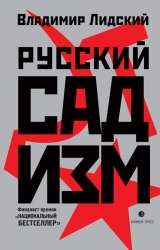
Текст книги "Русский садизм"
Автор книги: Владимир Лидский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Глава 6
Что написал в докладной вышестоящельу начальству секретный сотрудник Павел Афанасьевич Полуэктов
Вышестоящему начальству и лично Начальнику Центрального Спецучреждения тов. N. N. от секретного сотрудника тов. Полуэктова П. А.
Докладная
Довожу до Вашего сведения, что секретные обязательства, принятые мною на себя согласно приказа № 546 по Центральному Спецучреждению безоговорочно исполнены, о чем и уведомляю всех заинтересованных лиц.
Означенный субъект, Сергей Петрович Дегаев, проживавший последние годы под именем Алегзендэра Пэлла в городе Вермингтоне (штат Южная Дакота, США), благодаря своим выдающимся математическим способностям сделал блестящую карьеру, став профессором математики местного университета. Он был автором нескольких научных трудов, учебника по математике, огромного количества методических пособий и сборника классических шахматных задач. Студенты любили его, коллеги глубоко уважали, несмотря на некоторую замкнутость и своеобразие характера. Никто ничего не знал о прошлом этого человека. Да и сам он о нем, как это ни странно, имел довольно смутное представление.
С годами в его мозгу составилась искаженная история, согласно которой он, будучи активным членом «Народной Воли» и одним из ее руководителей, спланировал и совершил ряд террористических акций и других радикальных мероприятий, направленных против заметных фигур самодержавия. На самом же деле означенный Дегаев был платным агентом-провокатором охранки, погубившим лучших людей «Народной Воли». Руководство организации, узнав о провокаторской деятельности Дегаева, проявило к нему непростительную жалость и снисхождение, обязав максимально устранить последствия его подрывной работы, после чего навсегда исчезнуть с горизонта российской действительности. Более того, Исполнительный комитет взял жизнь гнусного провокатора под свою защиту и объявил революционерам всех партий и направлений, что никому не позволит безнаказанно его убить. Вдобавок Исполнительный комитет обязался помочь Дегаеву удалиться с Европейского материка и всесторонне устроиться в новом месте.
Вот какова гуманистическая сущность террористов! Объясните мне этот парадокс – одной рукою взрывать, резать и расстреливать ни в чем в сущности неповинных людей, волею судеб поставленных исполнять прихоти истории, а другой – миловать подонка, предавшего и заклавшего на смерть множество товарищей!
Несмотря на преступную снисходительность, проявленную членами Исполнительного комитета «Народной Воли» к провокатору, Дегаев не обольщался относительно своей возможной незавидной участи. Многажды его могли уничтожить за предательство после свершения казни над подполковником Судейкиным, о чем он хорошо знал – и сразу после акта казни в квартире на Невском, и по дороге в Аибаву в сопровождении Куницкого, считавшего Дегаева своим смертельным врагом, и далее – на пароходе, и при встрече в Англии с Тихомировым. Однако народовольцы исполнили свои обещания, и за много лет скитаний Дегаева по городам и весям его никто не побеспокоил. Впоследствии он вместе с женой проживал в Южной Америке, затем они переехали в США, где долгое время влачили нищенское существование. Со временем благодаря упорному труду и недюжинным способностям Дегаев вышел в люди, стал профессором и деканом в местном университете, купил неплохой дом и жил припеваючи вполне в американском духе. Однако, думается мне, он хорошо знал судьбы своих собратьев по «профессии»: народовольцами были казнены разоблаченные агенты охранки Прайма, Жарков и Шкряба, а в 1906 году в Ташкенте удалось выследить и убить провокатора Курицына, несмотря на то что его преступлениям было более тридцати лет. С другой стороны, с каждым прожитым годом Дегаев успокаивался, тем более, что небезызвестный брат Володя пару раз публиковал в европейских и американских газетах сообщения о его смерти.
Мой приезд не вызвал у Дегаева ни малейших подозрений, он выложил мне как историку, собирающему материал для книги о народовольческом движении, немало информации, обычно сильно искаженной, о своей выдающейся роли в деле освобождения народов России от самодержавного гнета.
Я поддакивал и подыскивал удобный случай.
Подытоживая, скажу, что согласно всем нравственным установлениям и закону возмездия за преступления, не имеющие срока давности, понятие справедливости в новое революционное время, в эпоху победившего пролетариата еще не утратило своего смысла, и потому приговор, вынесенный трудовым народом провокатору Сергею Петровичу Дегаеву, приведен мною в исполнение. Пусть с опозданием, пусть на закате его ничтожной жизни, но воздаяние революционной Фемиды все-таки настигло гнусного предателя! И так будет с каждым, кто посягнет на интересы народа, кто свою личную выгоду поставит выше выгоды трудящихся, кто продаст свою подлую и ничтожную душонку буржуазному дьяволу!
Секретный сотрудник Полуэктов П. А.число, месяц, год.
Глава 7
Что сказал товарищу Мерину на допросе Иван Сидоренко по кличке Шибер
Мне не нужно таить от своих коллег секретные тайны, потому как я, Иван Пафнутьич Сидоренко, есть чистый приверженец коммунистических идеев и, значит, патриот социализма, за щё, промежду прочим, ангажирован с родного Курска у Центральное Спецучреждение через посредство известного вам Льва Марковича Маузера. А ще касательно до брата, меньшого Сидоренки, прозванием Степан, то мне его выгораживать резонов нет. Как ён мне сказывал, главным помыслом для его было завсегда богачество. Мы с им разлучились у нежном возрасте и потерялись на перепутьях пыльных да глухих дорог, потому и смыслы наших жизнев вышли разны…
Пятнадцати годов объявился ён у Москве, но мне то было неведомо и недоступно, потому как за подростков у нашем учреждении никому нищё не сказывают, коли только яны не узорвали какой-нибудь стратегический объект.
Брательник мой Степа Сидоренко, прибыв у Москву, прямиком с вокзала пошел до Моссовета, добился там приема у высоких кабинетах и представился уполномоченным детской колонии имени Парижской коммуны с нашего родного Курска. Предъявил каки-то липовы бумаги с размытыми печатьями и слезно попросил одежи и деньгов для нужд колонистов-сиро-тинок. И щё? Дали, не посмотрев толковым образом у сопливу рожу малолетки. Право слово, солидный человек не добется толку у нашем Моссовете, а чумаза и жалостлива харя так заворожит ответственного дядиньку, ще ен готов с себя исподнее отдать, лишь бы умаслить сироту. Повезли ёго на какой-то склад мануфактуры, подсобрали одежонки, помогли отправить и погрузить у камеру храненья на вокзале. Сорок пуд одёжки умыкнул премудрый мой брательник. А к завтрему предписали ему явиться у Наркомфин, пройти с бумагами по кабинетам и получить у кассе пачку червонцев полновесных. Щё ён и сделал, и очень даже запросто. Спасибо добрым дядинькам, не оставили детскую колонию имени Парижской коммуны своею милостью, пособили детворе…
А братишка мой, не будь дурак, получив таку кучу халявных и нетрудовых деньгов, не пошел с ими у ресторацию, а употребил до дела. Собрал у подворотнях толстозадых девок, снял для их скромну и маленьку хватэрку, да стал туда водить мужуков, озабоченных излишнем обилием семени. Накупил девкам мебелей, буржуйских перин, занавесков, бусов и сережков да приказал нанятому человеку носить им хлеба с кашей. Ета изобилия довела девок до изнеженья, и белая крупичатая тело их манила мужуков, как мух – клубничная варенье.
Но безоблачный горизонт недолго сопутствовал моему брательнику. Прознала про ёго потайну горницу наша соратница Конкордия Иванова и нанесла вежливый визит Степану и кобылам ёго. Как увидела Конкордия етих маслянистых девок, так забыла сон и пищу. Яны у горнице рядком сидють и гладью на пяльцах вышивають, одна краше другой, груди, как гаубицы, рвутся через шелк наружу, и зады, как чугунные тумбы, неколебимо покоятся на лавках. Вот и возжелала Конкордия етих плодородных пастбищ. Перестоялая ее лоно не ведала живого мужука и оттого противоестественная страсть сжигала сердце етой пагубной души. Страшная влечение к собственному полу измучила товарища Конкордию. Восхотела яна женской плоти, да деньгов за то решила не платить, а взять силою и властью то, щёей потребно. Но Степан воспротивился и сказал Конкордии: така неприлична безобразие не будет у етой маленькой хватэрке. Яна же с им стала пререкаться, говоря обидны речи: я есть сила оружейна, а ты, подросток недозрелый, супротив моих возможностев только пустая пустота. Не стерпел братуха наглой бабы и вытолкал вражину взашей. А яна прямо у месте нашей с вами службы – у нашем Учреждении, донесла начальству, щё есть мол на такой-то улице публичный дом, противный нашему социализму и ёго, дом то бишь, надобно известь до основания. И извели. Прислали взвод красноармейцев, яны хватэрку обложили, вошли без спросу, переимели там усех баб, а Степу моего заарестовали и отправили у колонию преступных малолеток.
Однако ж и там Степан сильно отличился.
Привыкши у своей хватэрке к половым излишествам, ён заскучал и затосковал по мягкой женской красоте. А у их у колонии был беспризорный мальчик, такая красивая дитя, похожая на девочку, и Степа усё домогался любовного интересу етого подростка. А ён, подросток, боялся даже поглядеть на Степу. Словом, братишка однова поставил ёго на коленки и нагнул головою до земли… Я прознал етот безобразный случай из газет и дошел по хвамилии до мысли: то же мой брательник! Тем же днем отправился я до начальства для доставленья показаниев по етим прошлым хвактам. Начальники оказались так понятливы, щё стребовали Степу с колонии преступных малолеток и поместили в Спецучилище на первый курс даже без испытания экзаменов. И ён проучился усе годы, вышедши с потребным делу знанием и получивши у нашем Учреждении должность ассистента младшего специсполнителя…
Глава 8
Что сказала Аллсиия Петровна Маузер в исповедальне Энской церкви, которую она тайно посетила после ареста своего супруга, Льва Марковича
… И вот он мне сказал:
– Сука ты, Амалька…
А я в карман за словом никогда не лезла и ответила:
– Ты сам сучок, и все твои дела – по слову – сучьи…
Он же знает, на что я намекаю… За что ему меня корить? Я женщина здоровая и молодая, мне мужчина необходим… А он чего? Святым духом живет, ничто ему не нужно… Эх ты, товарищ комиссар… Падалью, стервятник, питаешься, мертвечиною…. И слава Богу, что не лезет, – пожалуй, от него ехидну выродишь. Дыхание его смердит, а семя – ядовитое… Душ сколько загубил, антихрист…
Я мамочку часто вспоминаю, она мне говорила: «Доча, быть тебе счастливой».
Помню: на столе стояли чашки с недопитым чаем, около моей, замечательной объемом – блюдечко, а на нем – бисквит раскрошенный, и – ванили запах. Блюдо тонкое под абажуром, и в подобье ему пальцы тонкие и белые – сжали ложечку серебряную…
И спрашиваю я себя – а куда после обыска исчезло серебро? Как рылись в нем, я помню, звон стоял тяжелый, металлический. Папа ноги бинтовал портянками – и у него плохо получалось, а они, собаки, глумились; ты, говорят, такой сугубый товарищ, содержательный, партийный, а портянки наматывать не научился…
А я им тогда и говорю:
– Дяденьки, вы же революцию позорите… Наша страна-подросток ищет врагов в буржуазном окружении, а не в суматошном вихре стройки. Ведь без папы остановится полезный конвейер необходимых нам деталей, и железные пролетарские машины не оживут для созидания…
– Ишь ты, – говорит один из них, бледный, в длинном кожаном пальто, – какой здравый смысл имеет дитя скрытого двурушника. Это дитя должно существовать за ради пользы нашего отечества. Оно не виновато в организованном грехе родителей, сын за отца не отвечает. И пусть растет в отдалении от злого корня, чтобы не отравляться его чудовищными соками, а родителем и радетелем станет сироте страна…
Лязгнули оружьями и увели отца. Я, конечно, в слезы, потому что обидно стало от порочной несознательности этих механических людей. Стала меня мама успокаивать, слезки платочком промокает, а сама еще пуще заливается и лепечет:
– Не плачь, доча, не плачь… не надо плакать…
Стали мы ходить с ней по учреждениям, раз даже в краснокирпичный дом на площади попали, но ни там, ни в других местах правды не добились, и папу своего я с тех пор больше не видела.
Так ходили очередями сиротскими день и ночь, недели и месяцы и попали, наконец, к одному плюгавенькому дяденьке, который суровым криком приказал нам прекратить бесцельное бродяжничество по важным учреждениям, в коих государственные люди стойко бдят, охраняя суровую красоту трудовых будней нашего отечества. И мы, что поделаешь, прекратили, а гнилозубый зев важного начальника, широко раскрывшийся в крике, еще долго преследовал меня в ночных кошмарах.
В страхе за свою судьбу и за вероятную возможность вредительства для папы – посредством будущих хождений, – мы затаились в своей разоренной комнатушке и не казали носа на улицу без настоятельной к тому необходимости. Но однажды мама не сдержалась и все-таки сходила к какому-то начальнику, а на следующий день за ней приехала красивая черная машина и памятный нам по первой встрече дяденька в длинном кожаном пальто, тот, что папу давеча увел, и, провожая ее под сень винтовок, наставительно сказал мне:
– Такое здравое дитя, имеющее ясный смысл во всех проявленьях жизни, а не смогло удержать маменьку от крайних проявлений враждебной нетерпимости.
На самом пороге он обернулся и добавил:
– Ай, какая девочка пропадет, – и все из-за того, что родители умом были не богаты, не захотели пораздумать за судьбу дочурки…
И шагнул через порог следом за стрелками.
Так осталась я одна, ведь родных мне моя любимая страна в своих укромных уголках поприпрятала. То ли в школу ходить, где уже сгустилась вокруг меня враждебная тьма молчания и слепоты, то ли искать посильный женский труд? Нелегко в пятнадцать лет выходить на дорогу взрослой жизни, не разбирая ее смысла, и явную пользу этой жизни, ее радость и очарование принимать за вред… Мама, мамочка моя родная, научила ты меня белье штопать да кашу кашеварить, но забыла рассказать, доподлинно ли есть рога, копыта и неприятный запах у врагов народа, а ежели нет, то как их сатанинскую сущность отличить, а главное – как действовать, коли удастся их разоблачить…
Думала и решала я свои неотложные задачи, а тем временем шли дни, недели, и вот однажды вечером отворилась дверь, пропустив в нашу дважды оскверненную комнатушку живших по-соседству богомольных старушек Евлампию Сергеевну и Валерию Климовну. Те старушки, несмотря на свое влеченье к богомолию, имели героическое боевое прошлое и получали за то пенсию от революции.
Войдя, они сказали:
– Детка! Поскольку ты осталась без попечителей, без средств к существованию, без определенной мысли касательно грядущего, мы предлагаем тебе перебраться в наши скромные хоромы, чтобы жить маленькой коммунией, выделывая для бойцов нашей Красной Армии бязевое исподнее и теплые рукавицы с двумя пальцами – чтобы удобно было нажимать на курок защищающего нас грозного оружия.
Мне старушки приглянулись, я их и раньше уважала. Перебралась к ним, шитьем-глаженьем стала пробавляться. Старушки богомольные усердствуют, у них пенсионное обеспечение республики да за исподнее немалый капиталец, и я от них не отстаю, кусок хлеба сиротского для пропитанья добываю. Евлампия Сергеевна и Валерия Климовна – люди задушевные, старинные, за работу меня хвалят и на ласку не скупятся, «деткой» называют. Спать положили на перину, сказали: «На новом месте приснись жених невесте, с кем век вековать, того во сне увидать». Лучшее с тарелки мне дают, самое сладкое, самое свежее, одевают хотя и скромненько, однако же добротно. И то сказать – выделяться мне, как дочери врагов, очень даже неприлично. В общем, были люди в наше время.
А этот рыжий гад уже тогда стучал; я, говорит, по убеждению работаю и на мой век заскорузлых врагов хватит, а ежели не хватит, так я их сам наделаю. Покуда подлинного коммунизму в нашей бедняцкой и замордованной стране не завоюем, нам, революционным рыцарям, спокойно спать не доведется. Наш патриотический энтузиазм сродни энтузиазму великих строек коммунистического рая, в котором не должно быть места озлобленным контрреволюционным мордам. Я, говорит, за мечту о радуге социалистического изобилия рубал врагов и кровью ихней напивался досыта, а нынче враг пошел конспиративный, и за ту мечту приходится теперь питаться его протухшей сукровицей. Не пища для орла, но все равно с усердием буду изводить мешающую нашей твердой поступи вредную траву-повилику.
Это он мне байки сказывал, а в жизни все было очень просто – я потом узнала: приходит он в краснокирпичный дом на площади, докладывает потихоньку – так, мол, и так, а ему говорят: вот вам, товарищ Маузер, разнарядочка, извольте действовать во благо укрепления наших границ и престижу. И он как миленький бежит, выполняет разнорядочку. Пеший ты, конный али автомобилем сподобленный – он не поглядит, будь ты хоть семи пядей во лбу – попадешь, куда все попадают, не отвертишься. Уж потом он, гад, и меня научил своим приемчикам, я это искусство бодренько освоила. И народ меня боялся, я этот страх за версту чуяла. Пачками их сдавала, пикнуть не смели. Я таких врагов выискивала – истовых, матерых, злобно покушавшихся на наши светлые устои. Скажут, вражины, чего-то о вожде, да так неуважительно, что повторить невмочь, а ведь это диверсия, подрывание основ! На чью мельницу лили свою мутную воду эти саркастические люди? На мельницу последышей Антанты и империалистических акул, на мельницу убийц мирового пролетариата!
В нашем доме ничего такого не случалось, ни мнений, ни разговорцев, вот я и думала, что с папой ошибка получилась. А мама… Мамочка, мамочка, как же не послушала ты свою умненькую дочку? Не буди меня, мамочка, рано утром, мне ночные дела сна не предоставляют… И ванильный бисквит для меня теперь во веки веков невозможен и непотребен…
А старушки богомольные, гордые своим боевым прошлым и тесной причастностью к бытовым нуждам Красной Армии, ванилью злоупотребляли. И там она у них, и сям, только что в суп не сыплют. Говорю им:
– Не надо, бабушки, ваниль так широко использовать, она для механизмов памяти убийственна…
Не слушают – используют, мне это как нож в спину революции. Накушаются чаю после праведных трудов, ванильного печенья изгрызут сухарницу и давай мемуарные разговоры разговаривать – то у них Севастополь в дожде, то Кронштадт в огне, то Джанкой в неослабной осаде. А то вдруг: «Ах, Цюрих, ах, Цюрих!». И все какого-то Георгия Валентиновича поминают. Много переслушала я историй завлекательных, мне за ширмочкою под их россказни не спалось. Гляжу на обойные разводы, они в сумерках ночи заплетаются, как дороги людей, навсегда плененных мечтою о справедливом землеустройстве и построении на тучных нивах светлых дворцов, гляжу и думаю: «Всех, кто поперек дороги к мировому счастью станет, надобно искоренять, как злобных смердящих псов».
Евлампия Сергеевна тем временем Валерии Климовне рассказывает:
– Я была категорически против. Что это за новость несусветная – какой-то безродный, безфамильный предревкома своею неуполномоченною властью будет ставить к предсмертной стенке буржуазных заложников! Пусть они зажиточных слоев, необремененных пролетарскими достоинствами и умственным пониманием всего сущего в крутом социальном катаклизме, однако же, их жизни стоят ничуть не меньше жизней сознательного элемента. Я сказала, что надо телеграфить командованию Южфронта, а он кинулся на меня с револьвером, кричит, что сам наркомвоен одобряет действия по ускоренной ликвидации заложников, не желающих выдавать злостных идеологов саботажа. И тогда я тоже вынула револьвер…
А Валерия Климовна отвечает ей в укоризну:
– Говорила я тебе еще в двадцать третьем, что Лев Давидович своими же идеями поперхнется. Вспомни профсоюзную дискуссию – они друг на друга лаяли, а языка общего не находили, потому как спорили не о действительной материи, а об идейной абстракции.
И шепотом на ухо Евлампии Сергеевне:
– Кто власть хотел захапать, тот и преуспел в сем непотребном деле. А кто бороденку интеллигентно теребил, раздумывал, сомневался да шел на попятную, презрев интересы партии и слезные мольбы совести – того волки съели. Я ведь и Николая Иваныча в свое время упреждала – тут христианским смирением не обойдешься: добро должно быть с кулаками. Ты ему благородно дорожку уступил, посторонился сдуру на обочинку, а он тебя, обгоняя, в грязь пихнул, да еще сапогом голову прижал. Потому светлый коммунизм нам с тобой только в гробу и видать: от каждого по способностям, каждому по потребностям, потребности наши будут малые – четыре доски да аршин земли; там-то мы с тобой и со всем остальным работным людом точно будем равны и настанет для нас пора бесперебойного благоденствия…
Я лежу и мне это в диковинку – никак не могу понять странного смысла происшествия. Раньше, бывало, тоже мемуарные разговоры в сомнительный тупик заходили, но чтобы, развивая такую чудовищную самокритику, докатиться до охаивания беспорочных идеалов – это все-таки ошибка, серьезная и политическая. Вождь указывал и направлял нас неоднократно: всякое сомнение есть зло, а железная уверенность – благо, только воля и холодное презренье к жалости, неприятие сострадания к слабым и больным способны привести нас в царство счастья, где не будет сирых да убогих, а будет редкостная порода людей, не подверженных внешним аномалиям и пристрастию природы. Всех калек мы пустим на утиль – что за польза им плутать в ногах у скороходного народа; нам балласт не нужен – смело разгружайте его, товарищи, в водную пучину!
День за днем и вечер за вечером вникала я в беспокойную беседу моих сожительниц. Перед сном надевали они белые рубашки, становились на колени в красный угол и причитали до тоскливого беспамятства и сурового однообразия:
– Господи, охрани нас от златолюбия и телолюбия, от заносчивой непогрешимости в истине, злопамятства и злобной ненависти, дай нам силы сомневаться, жалеть, любить, подавать пятаки нищим и калекам, хлеб – страждущим, влагу – жаждущим и усмирять душевные волнения соседей по планете простым прикосновением ласковой ладони…
Ну, думаю, допричитались до абракадабры. Однако же, кого смущает искуситель? Себя они настроили на обратную стезю – это еще ладно и греха для окружающих тут, пожалуй, и не предвидится. Да и какой грех изойдет от тех, кто сироту приютил, обогрел, накормил? Были или не были мои родители врагами нашего отечества, про то лишь железному наркому ведомо, но в глазах повседневного сообщества я, конечно, являлась изгойным элементом, а те, кто оказал мне бытовое покровительство, кто предоставил плодородную почву вражескому семени, без любого сомнения по закону классового тождества могли считаться такими же врагами. Потому и жили они с оглядкою на дверь да с услышкою на стук. Но, мне, дурехе, было невдомек, что причина тех оглядок была совсем в другом, а именно в ощущении моими бабушками истинной вины и в ожидании законной кары во искупленье той вины…
Раз лежала я за ширмочкой и припомнилось мне, как Валерия Климовна сказала невзначай Евлампии Сергеевне:
– Держала бы ты, Евлаша, свои убежденья при себе. Зачем ты подписала идейно порочную платформу? Ее же «Правда» напечатала, это же не шутка. Более того: в славную десятую годовщину нашей победоносной революции ты ходила на демонстрацию противу генеральной линии и несла алый стяг труда и рабоче-крестьянской крови с такой же идейной непримиримостью, с какой крепила тот стяг в девятьсот пятом на баррикадах…
Как вспомнила я это, так словно глаза, прежде засыпанные песком, отверзлись и запахло серою, да так сильно, что ванильные ароматы отступили со своих прочных, завоеванных, казалось бы, раз и навсегда позиций. И тут я вздохнула с облегчением, потому что запах ванильного бисквита, терзавший мне душу тягостным воспоминанием с того вечера, когда я в последний раз видела отца, испарился…
И тогда неукротимая, упоительная ненависть поднялась во мне смертоносной волной, захлестнула лицо вязкой краской классового гнева, дала возможность осознать, наконец, остроту текущего политмомента, вероломство подлого врага, а заодно свои собственные заблуждения. Мне стало наконец понятно, что именно сострадательные позывы уводят непримиримых борцов идеи в сторону упадочных уклонов и мелкобуржуазного слюнтяйства, и что моих несчастных родителей, виноватых только в открытости их душ, сгубили именно такие люди, как богомольные старушки Валерия Климовна и Евлампия Сергеевна. Мягкой лестью и ласковыми голосами, привычкою к слезливому причитанию и жалости сбивали они с панталыку стойких, но подверженных интеллигентской червоточине людей. И погибали железные борцы, рядовые труженики социалистических построек. Не брала их ни казацкая шашка, ни пуля кулацкого обреза, ни тифозная вошь, ни голодуха, а вот поди ж ты – тихой сапой втерлись к ним в доверие проклятые выродки капитализма, переманили их в свой стан и погубили окончательно для светлого будущего без угнетателей и угнетенных…
И опять же – комнатушка старушонок останется за мной, ведь родительская комната была служебной и ее после ареста мамы отобрали.
Осознала я все это и утром раненько в путь-дорогу снарядилась – прямиком в краснокирпичный дом на площади, да в двери его дубовые-резные. Благослови меня, мамочка, на решительный шаг во имя истины и дисциплинарного самосознания, во имя беспокойной совести в пользу любимого вождя и бессмертного учения товарищей Маркса-Энгельса.
И невдомек мне было, что моя бедная мать в тот самый миг в своем гробу перевернулась, впрочем, у нее и гроба-то, наверно, не было. Только я сомнениями не терзалась: сомнения – привилегия людей жалостливых и податливых…
Зашла я в двери, глянула своим синим глазом на стрелка-привратника. Он сразу доложился кому следует, и провели меня в пустенькую комнатку, где сидел красивый молодой мужчина весьма обстоятельного виду. А сердчишко у меня – тук-тук, и в горле запершило, но виду не подала, плечи развернула, подбородком дернула и тонкими своими дробовичками-каблучками от порога до портрета несгибаемого Феликса на стенке хрустко выбила змеистую траекторию отрывистых точек и тире. Нагнулась к этому обстоятельному кабинетному хозяину – и пошептала ему на ушко разные словечки. Он встал из-за стола, меня в сторону подвинул, подошел к двери и в ключевой дыре ключом поерзал, а замкнув дверь, вернулся на прежнюю позицию, встал супротив меня столбом, в очи заглянул и молвил:
– Я гадаю, шо ты комсомолочка…
– Ни, дяденька, – говорю, – только пионерка.
– Чи пионэрка, чи комсомолка – ниякой ризныци немае…
И медленно положил свои голые руки мне на грудь. Полапал, как цыган, все приговаривая: «Ты сюська, сюсечка, ох солодэнька…», а потом на дверь глянул, юбчонку мне задрал и в трусы пальцы запустил. Стою я ни жива и ни мертва, ну, думаю, контра недобитая, что ж ты робишь тут в святая святых завоеваний революции?
А он все:
– Кишечка моя лагидна, кишечка…
И вдруг меня сладкой судорогой передернуло, сжало все внутри мускулистою пружиною, застучало молоточками крови по каждой малой жилке, а потом отпустило и разлилось горячими блаженными потоками по обмякшему и распустившемуся телу. Глянула я на него – рот полуоткрыт, и на подбородок слюна тонкой струечкой стекает. Вынул руку, обдернул на мне юбочку и говорит:
– Така разумна и гарненька дивчынка и така нетерпляча. Но це не так важно. Головне то, що ты настоящая пионэрка и патриотка своей Витчызны. Видрадно, що Батькивщина мае такых вирных дочок и сынив. Приходь сюды частище, дытятко, у твоий допомози потребуе Крайна. А мы тоби путивкою у Всесоюзну дитячу здравныцю забезпечымо…
Вышла я из кабинета с подписанной бумажкой и тут нос в нос влепилась в отвратительную харю, обросшую рыжей шевелюрой. Не знала я тогда, что этот хрен моржовый еще много лет будет нарезать спирали вкруг меня и уйти от него будет так же трудно, как Луне прекратить свой бег и покинуть, наконец, близость нашей неприветливой Земли.
– Простите, – говорит огненная харя, а сам глазами так и впился, только что не ест, однако, быстро укротил свой звериный интерес и посторонился.
Будь ты проклят во веки веков, могильный вурдалак! Как одиноко и страшно коротались с ним ночи напролет: лежит рядом не теплый человек, а заматерелое бревно, и хоть бы раз, ну хоть один лишь маленький разок рискнул бы посягнуть на мою формальную невинность, замутненную смолоду непристойными желаниями мужеского пола! Нет, и мысли такой не держал. Откуда, впрочем, взяться этой супружеской крамоле – ему ведь еще в глубоком детстве, когда эпоха эксплуатации рьяно раскручивала свой исторический маховик, незрелые яйца сапогом повышибали. Но я за ним была как за каменной стеной. Не боялась ничего – он научил меня жить так, чтоб я сама страх внушала несознательным к социализму индивидуумам общества. И точно – вкруг меня была зона молчания и страха, как бы вытекающих из противоречий классовой борьбы. А сама я боялась лишь его, ведь он посредством электричества, накопленного в высших сферах и пропущенного сквозь искрящие холодной искрой рыжие власы, сносился с преисподней и получал там свои дьявольские директивы по искоренению остатков вышедшей в расход буржуазии, принявшей хитрые хамелеоновские формы, а также сопутствующей группы двурушников и диверсантов, прикинувшихся обыкновенными совслужащи-ми. Крепко он меня держал, ты, говорит, вражеская дочка, сиди – не пикай, покуда на тебя директива не пришла и покуда несгибаемые бойцы невидимого фронта не опознали твою оппортунистическую душу. Делай, мол, как я делаю, тогда вполне возможна тебе полная государственная амнистия как полезному санитару советского сообщества.
Ну, а потом он впал в немилость, как и многие из тех, кого он сам в нее ввергал. И пришлось мне тогда торговать собственной…, чтобы его, гада, вызволить из хищных лап заплечных мастеров.
На жесткий стол для писем, бумаг и важных донесений, несущих тайные секреты государства, ложилась я с трепетом почтения и в то же время – ужаса для сохранения поганой жизни этого субъекта… Конечно, слава нашим день и ночь бессменно бдящим органам, но кто в родном отечестве не ошибался? Для меня уже тогда со всею очевидностью была ясна происходящая ошибка. Ведь тем старушкам, из вражеского интересу призревшим меня в своем осиновом гнезде потайного троцкизма, самое место было в пыточной, а моего супруга случайно смыла в гневный океан революционной кары волна зависти и тайного недоброжелательства. Всего лишь навсего последствие маленьких человеческих пороков. Вот почему он нынче при хорошем интересе, а Евлампия Сергеевна и Валерия Климовна давно сгнили на этапе, как и сотни других вражеских последышей, выявленных моим классовым чутьем…







