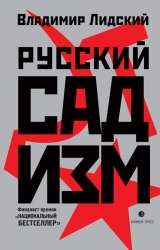
Текст книги "Русский садизм"
Автор книги: Владимир Лидский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Взамен – остановиться, видно уж не можно – затребовали до себя Трифона-причётника, по-первому, принудили его умывать пол от крови, посем же – учали допрашивать и наново пытать: «Предыдущий, мол, все признал и повинился, при сём свидетельствуя супротив тебя, так што не нужно запираться и покрывать враждебный умысел, лучше-от подноготную открыть». Трифон-причётник с таким изворотом, конечно, согласиться не схотел, он и в спокойной-то жизни был упрямлив, стал громко возражать, много ли с его возьмешь – он же на голову скаженный. Тако же и тут: давай спорить и криками защищать инженера, меня, грешнаго, и всю в целости веру христианскую. Слово за слово, пошло, яко водится, прикладство рук; нами знаемо, што начальник оперчасти известный рукосуй; долгонько терзали Трифона-причётника, выпытывая у него приметы бунта. Искровянили лице, били табуреткою по сердцу, обаче, сердца покуда не достали, токмо ребры изломали. Речено же: разрушенье и пагуба на путях их…
Трифона нашего замытарили до смерти, он и хрипит, и задыхается, уволокли его на снег, пускай, мол, прочухается по морозцу, лежит, бедненькой, от инженера внедалечке, лицом в снег, ох уж ему худо! А мучители, подошедши к Трифону, взяли за власы его, приподняли вверх главу и штыком по горлу полоснули. Он и отдал Богу душу; се бывалоча, псалмы повечерия поет, а и слышно, аки душенька взыскует Господа нашего Спасителя. И сподобился, наконец, праведный наш Трифон!
Обаче начальнику никак не достичь упокоения, все ему кровушка блазнится, он и спускается с крыльца, забирает у убийцев штык и, подошедши к Трифону, молча взирает на его… Посем, повернув труп, вглядывается в искаженное мукою лице его и резкими движениями быстро отсекает голову! О, адский мясник, проводник идей диавола! А приспешники его, каты и прокудники, радые убийству, хвать окровавленную голову и ну толкать ее по снегу грязными ножищами! Им забавка, улыскаются от щастья, криками кричат, гогочут! Их морозец раззадорил, здоровым румянцем изукрасил, довольны физкультурою, сей час устанут, нажрутся под стопарик борщика и на боковую – нужен же отдых замученным трудами работягам. Безмолвствует Господь, ни грому, ни молнии – тишина на небеси. И токмо стоят по зоне там и тут серые сгорбленные фигурки лагерных придурков, молча взирающих на сии чудовищные игрища. И приходят дальше ко мне, хватают и волоком влекут на место нового мучительства. Пора, дескать, и тебе, отченька, испить чашу до самого до дна! И се, приволокнув меня на облитый кровью эшафот, поставили очами лицезреть надругание над трупом Трифона-причётника, и аз, глядючи, аки ногами пинают его увечную главу и не могуще вынести сего пытания, вскипел. Аз помню посейчас, што сделалось со мною: дрожание в коленах и схватыванье места, иде расположена душа, сице больно стискивалась душенька – не иначе дьявольскими лапами, и слезы исторглись из очей; како я кричал криком, соболезнуя безвинно убиенному. Каковыя страсти, Господи! Поглотила меня бездна сатанинская, смертная тоска объяла разум, и весь аз соделался подобьем клокочущего пламени!
И упавши на колена, зачал вопить, и тако вопияще, долго не мог остановиться, охвативши руками бедную главу мою. Се вопил и вопил, дондеже не охрип, и точию тогда умолк, егда гортань иссякла и источник звука пересох. Палачи же, сгрудившись, довольно усмехались, радые забаве. Се – пропащие людишки, душеньки загубленные, ни святости, ни благонравия, впрочем, не людишки, а говорящие зверки. Тьма их погубила, тьма, тьма, тьма, мать страха, мать геенны, люлька сатаны. Несть, аз – не суд, не правосудие и не разбирательство вины; аз – оружье Господа! Ибо все немотствуют, затворили уста свои и захлопнули сердца, звук не слышат, несправедливости не зрят и милосердию их есть пределы! Аз же, не могуще молчать, вечно кликают тугу с бедою на главу свою и поне блаженной вечно получают на орехи. Знать, Господь сподобил истину уразуметь: восславлен тот, кто в сознании и воле муку претерпел не ропща, не жалуясь, а токмо вознося благодарение на небеси. Пусть же потерплю аз сию муку, пусть пытают меня посланцы Сатаны и убьют до смерти, лутче уж пострадаю за людей, да избавлю их от сего короба несчастий. И тако во мне отчаянье взыграло, и боль скрюченными пальцами вцепилась в сердце, и слезоньки, лиясь, щедро оросили грудь, и чувство мести – слепое, яростное, безоглядное – помрачило разум, и аз, себя не помня, схватил стоявший у крылечка лом, – коим с крылечка скалывали лед, схватил и, ожегши ледяным железом пальцы, паки более воспламенился и, криком буйнопомешанного закричав, подъял смертоносное оружие, пробежал несколько шагов, потрясая им в безумии, и вонзил его в рыжего начальника по прозванию Маузер, вложив в удар все свои горькие обиды – за себя, за родных, единоверцев, за поруганную, обесчещенную и ошельмованную Родину! Ступай же ты в геенну, к сатане в объятия, тамо для тебя самое место!.. Господи, што же аз соделал, ведь душу свою навеки погубил! Рухнул, обливаясь кровью, рыжий и заблекотал, дергая ножонками. Извернулся весь, отклячив гузно; знать не в радость ему, егда больно и кровушка уходит! Подошло времечко тебе в нашей шкурке побывать, каково же в ей?
Слушай, отрок, се и мой конец… Подбежала вохра, навалились на меня, молотили тело, гораздые до пытки, рассекли лице, порвали рот, только что очи не выбили, уж аз их рукама укрывал, а и персты через то переломали. Оле, оле! Аз прощения прошу у жизни, готовясь предстать перед Судом Господним. Волокут меня за шиворот на вахту, бия дубьём и понося словами. Дозде токмо увещали, нынче же хотят убить. Аз же и не убоюся, бо давно вымечтал таковую долю. Сем, били, били, вдруг и престали, знать силушка иссякла, бросили меня, раба, у вахты и оставили на холоду, блазнить свежей кровию обезумевших от человечьей свары псов. Посем точию узнал аз, што помилованье вышло ради выгоды служебной: оне как-то порешили сделать дельце: дескать, супротивники властей заговор составили и даже одного начальника смогли убить, мы же, доблестные рыцари, служаки долга, всё злокозненное пораскрыли и хотели бы за то наград. Ино сице вряд ли бы мне остаться живу! Сем, составили этап, подобрали кого надо, сунули в полуторки, далынее – в вагоны и доставили до высшего начальства – порешайте их судьбу!
А в этапе, ведаешь ли, сударь мой, што дорогой приключилось? Ехали двенадцать дён, и со мною на соломке пластался некий доходяга. Посем аз у его повыспросил, кто таков и аки кличут. Он был пиит, виршей чинитель и пострадал, залетевши на пятерку, – через то свое творческое сочинительство. Кликали его Ваня Изумрудов, уж не вем, што за фамилия такая, знать, не истинная, а нарошно измышленная. Нет бы ему воспеть луну и чайку, а паче лутче успехи пятилетки, нет же – он сочинил эпиграмму на вождей, большее того, взял и зачел кому-то из друзей. А друженьки его: стук-стук куда надо, сице и сгорел неумный человечек. Ты думал, гордоус, возвыситься глаголом, тебе же – хлоп лопатой по морде, знай, мол, сверчок, жердочку свою, не тявкай на вождей. Сем, всё одно – жалко его, горемыченьку… Он прижмется ночью ко мне, нам и тепленько сам-друг. Он хворал, уж больно доходной, аз ему то соломку подоткну, то водицы дам испить, се и прозябали рядышком.
А утром однова очнулся аз, стряхнув дремоту, и чувствую, што Ваня словно бы окостенел и хлад могильный источает. Повернул его, глянул на лице и прозреваю, што соузник мой – умерый, не токмо уж не дышит, но и остыл, верно, с давешнего дня. Жил – мучился и окончился, томной от жизни. Аз, конешно, спервоначалу испугался, хотел кликнуть вохру или побудить товарищев, посем же думаю: убо мне, верно, уготована таковая же стезя: разговоры, пря и дальшее един конец – ящик деревянный, а то и без ящика, кинут с биркою на нозе и поминай, отченька, как звали. Несть, думаю, братишки, паки поживем – помучимся. Взял, не брезгуя, Ванину одежку, да напялил на себя, а его в свою одел. Вши общие на нас и лагерная пыль одна, ино номерки-то на одежке разные. Се зарыл аз бедолагу поглубжее в соломку и пайку за его снедаю. Спаси Бог тебя, несчастный мой сомученик, пускай же сия солома станет пухом тлимой твоей плоти, покуда не сжалятся над нею нехристи и отступники креста и не опустят ея в объятия землички православной.
Сице мы и ехали, а посем Ваня дюженько запах и пришлось выдать его вохре, те же, думая недолго, взяли, туда-сюда качнули и полетел сиротка с насыпи в придорожный березняк. Аз же восприял его имянаречение и странную фамилию; по приезде к месту назначения был вызываем до начальства, у коего от щедрот его получил новую десятку, но, держась намертво юродивой стези и не могши никак отречься от ея, паки и паки творил нечто неключимое, за што в конце концов был водворен в желтый дом, в коем и по сей день, впрочем, обретаюсь, хоть и название у его изменилось, и времена давно уж иные наступили. А мне, знать, пожизненное искупление греха в сём доме скорби, бо несть прощения моей заблудшей душеньке, потерявшейся в бореньях с сатаною.
Аз вем, што сатана везде: се задремаю, рогожкою прикрывшись, а черт рогожку-то и сдёрнёт. Аз паки укрываюсь, а он паки сдернет и всю-то ноченьку шалит. Али стоит за трапезой сосуд с водою, аз запиваю корку хлеба, точию отвернусь на миг, глядь – бес уж насыпал мух в стакан. Он вездесущ, смущает православных криками, шипеньем, рыком, воем, лаем, и егда аз, забывшись, пытаюсь вознести молитву, слышу вдруг жуткие ругательства и похабные хулы, посылаемые на мое прозвание. Он портит воздух, швыряет предметы, шалит с огнем, а однова вырвал из моей брады клочок, ой больно! Аще аз хотяше поразмыслить над судьбою, али вникнуть в Божественное начертание, бес садится мне на плечи и всячески блазнит, смущая мой некрепкий разум. Шепчет в ухо непотребные глаголы и насылает образы блудниц, плюет ядовитою слюною, шлет кашель, хрип, удушает меня когтистыми перстами. А то возьмет, да изгваздает нечистотами одежду, али проще того – угостит палкой по телу, при сём норовя попасть в лице. Впрочем, сиё – мелочи, многажды страшнее, егда сатана толкает на убийство, подзуживая и науськивая, зане грех смертоубийства неизмерим и неискупим. Обаче, што же аз соделал? Благо али зло? Кого аз убил, убив рыжего? Возможно, то была епитимия, и теперь мне пожизненно страдать, отмаливая грех! Да полно, грех ли? Вразуми, Иисусе, Ты учил, што убивать не можно, аз же, преступя заповедь Твою, наложил руце на собрата своего.
Осуди меня, Господь, ниспошли на грешную главу мою мор, глад, язву и поношенье мира, аз готов мучиться до скончанья дней, токмо страшно, Иисусе, после земного бытия попасть в геенну и страдать в ней вечно… Но не пронеси, милосердный мой Господь, сию чашу мимо, дай испить ее рабу Твоему до самого до дна; горечью ее изнемогу, сладостью ее утешусь и достигну, наконец, вечного смирения и вечного покоя… Аминь.
Глава 2
Что сказал бывший секретный сотрудник Петр Дугиевский своим собутыльниксш в рюмочной на улице Живописной
Не, я лучше помолчу, мне западло с такими васями базарить. Чё – рассказывай! Вы же ржете, как лошади в конюшне. Да, и впрямь я агент, секретный представитель не менее секретного учреждения, не вам, хреновы анчоусы, чета! Что вы вообще видели в своей жизни? Завод, станок, грязную спецуху? Месилово на свадьбе? Свою лахудру в бигудях? Обоссанного спиногрыза? Чего хотели в своей судьбе? Бесплатных баб? Жратвы от пуза? Коммунизьму? Да ни хрена вы не хотели. Вам бы только вмазать… вломить, всосать… вкатить, а потом пугать окрестности, рыча на унитаз. И я тут с вами до шизы дошел, а мне еще совсем недавно блат корячился… Эх!.. Наливай!
Вот ты, пузырь, бакланишь почем зря и опровергаешь то, что я втираю, а ведь чтобы эти фишки догонять, надо малехо масла в шифере иметь. Я по молодухе фарцевал, тусовался возле Беговой и через ту байду раза три-четыре попадал в ментуру. Мусорки действуют с подходцем, они и посейчас такие, сперва клинья подбивают, ты, мол, Петюня, не пужайсь, мы только протокольчик нарисуем, а потом, если сходу не въезжаешь, что бабки надо отстегнуть, начинают прессовать. Возьмут демократизатор и ну тебя валтузить, так ряшник отрихтуют, что мама не узнает.
Ну, пока я тихо фарцевал, меня никто не беспокоил. Но позже оказалось, что бамбук завял, а не они. Стоим раз на пятачке, каждый при своих делах, вдруг кто-то кричит «шухер!», фарца сунулась в метро, а я не успел. Они меня хвать – и в воронок. Ну, думаю, попал, сейчас умывальник распишут. Они привезли меня в ментуру, позвали понятых и давай при них шмонать мои карманы. Я им базарю: «Что за произвол, где санкция на обыск?». А они мне шлют ответку: «Ты чего раздухарился, хочешь, мы тебе и санкцию дадим, и фикцию! Ты на кого трусами машешь? Забыл, как чинарики в глазах шипят?». Понятые клювы пораскрыли, опасаются подвоха. А менты страху нагнетают: «Во, позырьте на врага народа, потому что в семье не без урода. Петя парень неплохой, только грязный и бухой». Хлоп-хлоп меня по шкарам и достают два свёртыша, хлоп-хлоп дальше и достают из-за души аж домну, а потом гуторят: «Все, Петя, приехал, ставьте, понятые, под протокольчиком кресты…». Один понятой вздумал возразить: «Вы сами, мол, волки позорные, коржику по шкарам чеки повтыкали, я своими айсами видал». Ему базарят: «Ставь крест, фуфел, хуже будет!». Он в ответ: «А за пивом не сгонять?». Ну, сгребли его за шкварник, вывели, через минут пятнадцать возвратили, правда, уже с фиником под глазом, подвели к столу, он без базара подписал. Один из ментозавров бурчит себе под шнобель: «Прапорщик сказал, тушканчик птичка, значит, птичка!». Я стою, шестеренками мотаю: все, попал. А они звонят куда-то и вежливо в трубу базарят: «Канайте сюда, клиент созрел».
Через некоторое время заходят двое в штатском, берут меня за ухо и сажают в воронок. «Ну, че, пудель, – базарят по дороге, – будем признаваться или запираться?». Я молчу, как жмурик; они меня привозят в какой-то колоссальный дом, на улице темно, жуть, ночь, а здесь по коридорам ковровые дорожки и в кабинетах свет горит. Заводят в один свободный, запирают дверь на ключ. Я шнифтами лупаю, глядь в окно, а там железный Феликс на морозе дубаря дает, я его по шинелишке узнал. Пурга, снег, огни горят. Я отвлекся, думаю, уй, колотун, а эти два баклана снова пристали и давай мне опять умывальник ремонтировать, отдуплили всласть, так маслали, что мама не горюй. Я валяюсь на полу, как шкурка от банана, пускаю пузыри, а эти суки мне втирают: «Ничё, Петюня, вскрытие покажет, что больной отъехал именно от вскрытия. Мы потрошителям из морга с диагнозом поможем». Я им мычу, выплевывая зубы: «Да я на все согласен, вы озвучьте, чего хотели-то?» – «Мы хотели, – токают они, – чтобы ты признал распространение на пятачке травы, Ширяева, колес и стуканул бы нам о связях, поставщиках, клиентах…» Я им базарю: «Вы че, колуны зазубренные, я ж не при делах, фарца – мое призвание». Они мне: «Не надо Чебурашку ворошить, у тебя бабла немерено, фарцой столько не забьешь. Вот ты валяешься у нас в соплях и пачкаешь паркет, а ведь это отходняк, ты ж обдолбанный, дозу не всосал, вот тебя и крутит…».
И давай опять меня месить, а мне это месилово уже сильно в лом, я и завопил, как блядь на пожаре, мол, нарушаете права человека, я нацарапаю маляву в Гаагский суд, и тому подобное. Они притухли, а потом базарят: «Ладно, ладно, малый, че за хипеж, охолонись, мы к тебе с понятием, а ты сразу в несознанку. Эх ты, Петёк, обхаял и утек!». Я просекаю: есть контакт, что-то в наших отношениях изменилось. Спрашиваю их: «У вас вода-то есть?» – «Есть», – базарят. «Тогда помойте ноги и ложитесь спать». Они меня для порядка еще малехо шузами попинали и вроде успокоились. «Ишь ты, кенгуру, еще подначивает. Ты поскромнее будь, мы тебе хотим одно дельце поручить деликатное. Ежели поможешь родине как патриот, мы такому отпетому преступнику, как ты, дашь на дашь мигом амнистию оформим». А я им внагляк ответку шлю: «Мне бы сейчас пива с чипсами, да баню с биксами, вот тогда, может, и сговоримся». Но и у них не ржавеет: «Ты сначала сделай, чувачок, тебе касса только по зачету отслюнявит, а то, ишь, нахавался сурепки и хамит, как пьяный бурундук. Мы тебя определим в дурдом, там один ваучер от глюков лечится – очень вредный ваучер, ему напостоянку негатив мерещится в нашем оптимистическом социализме. Его скоро выпускать, а то вражеские голоса сильно воют, где, мол, в Совдепии свобода слова, да почему молчат демократические институты? Какие, на хрен, институты? У нас есть Институт марксизма-лениниз-ма, так он и не молчит. Словом, ляжешь в дурку и обесточишь ваучера, а то достал уже своею простотой».
Во, брателло, как меня скрутило. Не думал, не гадал, а только харю отъедал. И на тебе – в дурдом… впрочем, это лучше крытки. Ну, сам знаешь, против лома нет приема: оформили меня и отвезли, я мандражирую, трясусь, как холодец, прикинь, с шизоидами вместе жить. Ничё, потусовался среди них, секу – разные они, есть вроде бы нормальные, есть такие, у которых шифера конкретно посъезжали. Мой ваучер как будто в полном здравии, всё с каким-то пеньком замшелым углами отирается. Пригляделся – дедухе лет сто, а базарит наравне со взрослыми. Только феня у него мутная какая-то, он мне чего-то пытается втереть, а я не догоняю. Впрочем, мне это по барабану, у меня в шкарниках заточка, я свое дело туго знаю. Ловлю момент, ищу, где тонко. Ежели не сделаю, мне гебисты попенгаген на две булки разорвут, доказывай потом, что ты с горочки катался и на березку налетел. Чё интересно? Завтра доскажу, ночь на дворе, пора к сексокосилкам. Достали вы уже, рожи обуревшие, а по первяку слушать не хотели. Черт с вами. Дальше было так.
Все очень быстро завершилось. Нас перед жрачкой проветривали во дворе. За спальным корпусом был дворик, зашитый железной сеткой со всех сторон, высотою метра три. Ну, скамеечки там, снежочек на песочке… Вот мы по дворику и хиляем. Мне, конечно, проще, я почти здоровый и колесами никто не напрягает, а дурики обдолбанные слоняются, чуть ли не наощупь, их штормит, и они, чтобы равновесие держать, стараются на лавочке припухнуть. Мой ваучер от дедухи не отходит: «Батюшка, батюшка, благословите…». Поп, что ли? Сколько раз мы на прогулке, а они все вместе, не могу нигде прилипнуть. Где еще? Не в столовой же его гасить. По мне пусть бы вышел, я б его где-нибудь в темной подворотне завалил. Ясен пень, мне западло, а кому приятно? Я кровь не люблю, только как соскочишь? Суки ментовские, умеют разводить. Я секу – меньше надо было светофорить, а уж попал под раздачу, сиди и не мяукай.
Ну, думал, думал, чайник напрягал, ничё на ум не едет, нету мазы, хоть убей. В общем, пока хлебалом щелкал, ваучера моего списали из шизухи, выпустили в мир. То ли сроки вышли, то ли надоел, мне не доложили. Короче, шандец подкрался незаметно. Я мозгами пораскинул, может, и к лучшему, на свободе сподручнее ему рога поотшибать. И потом: в желтом доме нет воды – куда концы сунешь, светилово ж конкретное… Бодренько все можно вычислить и просечь, с какой хаты ветер дует. Так что я бегом на коммутатор, вызываю шефов, мол, выписывайте, а то в вашей дурке и сам неровён час с катушек съеду. Ну, вот, на другой день вломили мне на прощание поджопник и пугнули вслед: «Больше не фарцуй…». Поехал я домой, нахавался с горя в дымину, два дня продрых, как суслик в спячке, на третий очухался и вспомнил: ёперный театр!., меня же шефы напрягли! Мухой надо это дело исполнять, пока табло снова не попортили. А ведь они мне еще и крытку обещали, и место у параши. О-ёй, попадалово! Ну, думаю, хорош балду гонять, пора делом заняться. В общем, решил больше не испытывать судьбу, кому надо звякнул, взял берложкин адресок и потихоньку приступил к оперативной разработке. День слежу, другой слежу… две недели за ним бродил. Как он мне остофигел! Думаю, шандец, пора его гасить, достал уже на нет.
Ну, раз ночером, в тишайший снегопад хиляет он по переулку, я выхожу из-за угла и жду, когда он поравняется со мной. Прикидываюсь шлангом и вежливо базарю: «Слышь, фраерок, давай смольнём на пару, у тебя бацилки не найдется?». Он мне, как водится в ответ: не, не курю, мол, извиняйте, дядя. «Ах, ты не куришь», – нагнетаю я и, не говоря худого слова, резко и грубо втыкаю заточку в его податливый живот.
Чё дальше, чё дальше? Дальше яйца не пускают. Достали уже, дуремары опрокинутые…
Он обхватил меня руками и медленно опустился на колени. Снежинки падали ему на лицо и таяли, как сахар в кипятке. Он смотрел на меня снизу вверх, потом ткнулся головой в полы моего пальто. Я отступил на шаг, и он, потеряв опору, ничком рухнул в снег…







