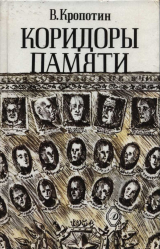
Текст книги "Коридоры памяти"
Автор книги: Владимир Кропотин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Глава десятая
Отец и мама готовились к приему гостей. Дима любил такие приготовления. Отец был в белой нательной рубахе. Необычно деятельный, он то и дело поглядывал на уже накрытый в большой комнате стол, проверял, не забыто ли что. Наконец все было готово. Мама ушла в свою комнату переодеваться. Надел верхнюю выглаженную мамой рубашку отец.
И вот гости входили. Мужья знали друг друга, а жены только знакомились. В первые минуты внимание мужчин было обращено на жен. Кто-то, заметил Дима, относился к чужим женам особенно почтительно, будто те значили больше их собственных. Кто-то был смущен, будто, представляя жену, невыгодно показывал себя. Другие входили с одинаково приветливыми улыбками и с одинаковой уверенностью друг в друге. Жены были оживлены. Они, казалось Диме, радовались встрече и были готовы немедленно подружиться.
Удивило Диму, что жены, оставаясь одни, представляли друг перед другом не себя, а своих мужей, говорили о них уважительно, в третьем лице, называя их кто но фамилии, кто по имени, кто по имени и отчеству. И Николаем Николаевичем, и Покориным, и моим Николаем Николаевичем, и моим Покориным называла отца мама. Обычно недовольная им, она сейчас даже недостатки отца выдавала за достоинства или простительные слабости. Все мужья оказывались хорошими. Никто не должен был знать, что кто-то был недоволен своей жизнью и, значит, как бы завидовал жизни других. Если бы Дима не знал маму, слушая женщин, он мог бы подумать (какое-то время он так и думал), что они жили какой-то очень правильной и достойной жизнью.
Но нет, не так это было. Что-то хотела возразить или рассказать о себе, но сдержалась одна из женщин. Ее лицо вдруг сделалось простым и домашним. Это была та женщина, муж которой, представляя ее, смутился. Что-то вспомнила и задумалась та, что едва замечала мужа, тоже едва замечавшего ее. Лишь небольшая, с темными, дружески блестевшими глазами аккуратная и мягкая третья гостья, жена мужчины с тугими щеками и улыбчиво цепким взглядом, одна была действительно довольна своим положением при муже, его заботами о семье. «Как ей может нравиться такой маленький и пузатый?» – недоумевал Дима. Она представлялась ему слишком хорошей для такого самонадеянного человека, но сама женщина, видел он, так не считала, все в ней было явно отдано мужу и принадлежало ему. Это были те муж и жена, что вошли с одинаково приветливыми улыбками и уверенностью друг в друге.
«Как они беспокоятся о детях!» – снова удивило Диму.
Даже приятная ему третья гостья сейчас принадлежала не только мужу, но и детям мужа. В дружески блестевших глазах ее появилась заинтересованность, но беспокойства не было.
Мужчины играли в карты. За ними тоже было интересно наблюдать. Все они были какими-то начальниками, и каждый как начальник что-то значил и мог. Никто из них, может быть, кроме отца, ни на минуту не забывал об этом. Они и сидели за столом как бы не одни, а кого-то представляли. Помимо желания быть довольными, их глаза не покидала бдительность, что-то в них, особенно у круглого мужчины с улыбчиво цепким взглядом, было начеку. Иногда взгляды мужчин становились холодными, недоверчивыми, мнительными, откровенно недоброжелательными, уклончивыми, с немым вызовом, предлагавшими и тут же отвергавшими некий союз, но они не только не обижались друг на друга, но становились еще внимательнее.
Но пришло время расходиться. Гости прощались. Вот так же, бывало, прощался и возвращался домой по теплым улицам темного поселка Дима. Сейчас, мысленно провожая гостей, он как бы ощущал твердую землю и глухое замкнутое пространство поселка, входил в тишину их квартир и включал свет. Он чувствовал, что был доволен вечером, может быть, больше взрослых.
Глава одиннадцатая
Так жил теперь Дима. Жил как бы двумя жизнями. В одной все было благоустроенно и надежно. В другой все было неопределенно и неустойчиво, в ней появлялись «иностранцы», мальчишки, знаменитые лишь тем, что их отцы и братья могли постоять за них, в ней были люди, владевшие особнячками, и люди, жившие в бараках, в ней было как в воображаемом Димой в младенческом детстве лесу, в который однажды превратилась трава, где муравьи, жучки, кузнечики достигали опасных человеческих размеров.
Иногда ребята куда-то исчезали, хоть заводи дружбу с бездомными собаками, что забегали во дворы в поисках съедобных отбросов. Помахивая хвостом, они сначала оглядывали Диму и, решив, что он неопасен, смотрели на него как на своего. Их вид, однако, был обманчив. Едва он приближался к ним, они рычали. В отместку он кидал в них палки и камни. Только тогда откуда-то появлялись мальчишки и вместе с ним преследовали собак.
Бывало, что Дима весь день был один. Он возвращался домой. Во дворе рылся в куче песка брат. Сестры в своей комнате перебирали лоскутки и чему-то учили самодельных кукол.
– Нагулялся? – спрашивала мама.
Он кивал, будто в самом деле только что занят был интересным делом, и чувствовал несоответствие между тем, что казалось со стороны, и тем, что было в действительности. Так очевидно однажды стало это несоответствие, так очевидно стало, что родители ничего не знали, как проводил он время вне дома, что положение это представилось ему странным и неестественным. Сам собой сложился и как догадка возник вопрос: п о ч е м у о т в с е г о, ч т о п р о и с х о д и л о с д е т ь м и, б ы л и в с т о р о н е в з р о с л ы е?
Вот тогда он и спросил:
– Мам, а мы все умрем?
Он подумал о смерти еще несколько дней назад, когда в соседнем дворе кого-то хоронили и он заметил чернильно-бледное лицо того, кто лежал в гробу, и понимающе переглядывающихся притихших людей.
– Ты зачем об этом спрашиваешь? Не нужно об этом думать, Димочка! – забеспокоилась мама.
– Умрем?
– Ты не думай об этом.
– Умрем?
– Да. Но не надо об этом думать, Дима.
Если бы мама сказала другое, он не поверил бы ей. Он давно знал, что люди умирали. Теперь он знал это определенно. Напрасно мама беспокоилась. Напрасно взрослые думали, что детям нельзя говорить ничего серьезного.
Мысль о смерти, однако, не оставляла его.
«Почему они не боятся, ведь им до смерти ближе, чем мне? – думал он о взрослых. – Или они притворяются, делают вид?»
Отец, видел он, явно жил так, будто смерти вообще не существовало. Всегда с офицерами, с местными начальниками, любил компании, не любил быть дома. Выпив, становился оживленным. Иногда он один рассказывал и смеялся, а другие улыбались и ждали своей очереди тоже о чем-нибудь рассказать и посмеяться.
Мама была в заботах, шила девочкам, обсуждала с женщинами модели и фасоны, вытачки и оборки. Женщин тоже ничего такое не тревожило.
«Почему они ничего не придумают?» – думал Дима.
Все люди, казалось ему, должны были непременно что-то делать, чтобы смерти не было. Не могло такого быть, чтобы взрослые, если бы захотели, ничего не могли придумать. Но почему вместо этого они пили, веселились, рассказывали были и небылицы, заботились лишь о том, чтобы выглядеть лучше и значительнее в собственных глазах и в мнении других? А ведь жить можно было интересно. Оп знал это по себе. Так было, когда ребята мечтали увидеть на холме самый большой в районе кинотеатр. Так было, когда они представляли поселок городом и районным центром и ожидали перемен, которые самым приятным образом должны были изменить их жизнь. Так было, когда он пробежал вокруг стадиона почти пять километров.
Но нет, ни о чем подобном взрослые не думали.
Дома оставаться не хотелось. Это было все равно, что не быть, ни о чем не думать и ничего не желать. За какими-то мальчишками он пошел на маленькую речку, к единственному глубокому месту у трубы, что одним концом уходила под воду, а другим, забитым ссохшимся паводковым илом, лежала на пологом галечном берегу. Один за другим ребята прыгали с возвышенного берега в взбаламученную воду, в отблески едва теплого солнца, клонившегося к закату. Дима тоже прыгнул, но не вниз головой, как длинный и узкий мальчишка, что оказался здесь, а солдатиком, как прыгал, вытянув руки вдоль черно загоревшего тела, его маленький приятель.
Ребята наверху кричали, стучали в воде галькой по гальке.
«Я здесь уже давно, – думал Дима. – А дышать совсем не хочется».
Еще на берегу он решил, что будет двигать руками, как ребята, или выйдет на берег по дну. Сейчас он не мог ни выплыть, ни достать дна. Всякий раз, когда он уже касался руками ила, его поднимало.
Никто не видел, как он по трубе выбрался на берег. Он сделал вид, что ничего не случилось, но из горла и носа хлынула вода. Грудь и живот больно выворачивало. Ноги дрожали. Тысячи галек увеличенно всплывали перед глазами, полными слез. Все ребята смотрели на него.
Дома, увидев его, мама как бы сказала: «Я тебя ждала, но не сейчас, а вообще. Если проголодался, можешь пойти на кухню. Ты сам знаешь, что можно делать дома».
«Не заметила, – подумал он. – И пусть. Что она может сделать!»
Если он расскажет, она забеспокоится, будет запоздало предостерегать. А он даже не знал, что по дну выйти на берег нельзя. И он совсем не чувствовал, что наглотался, надышался воды.
«Ничего не видит», – снова подумал он.
А ведь он в самом деле мог утонуть.
– Пойдешь опять гулять? – спросила мама, поднимая на него глаза.
Она по-прежнему ничего не замечала.
Он вдруг понял, что не мог просто так уйти. Теперь он уже хотел, чтобы она заметила.
– Что с тобой? – заметила она.
– Ничего.
– Что-нибудь случилось?
– Дети умнее взрослых, – сказал он.
– Ты где был?
– Гулял.
– Ты почему так думаешь?
– Вы ничего не понимаете. Дети умнее взрослых, – повторил он.
– Мы тебя чем-то обидели? – спросила она.
– Нет, просто дети умнее взрослых, – стоял он на своем.
Мама смотрела на него остановившимися глазами.
В то лето Дима много думал о родителях. Думал, когда понял, что они не знали, как проводил он время вне дома. И, думая об этом, догадывался, что заменить ему сверстников они не могли. Он думал о них, когда понял, что все-таки умрет. И, думая об этом, не соглашался жить без какого-то противовеса смерти, лишавшего ее очевидного смысла. Он думал о них, когда понял, что лишь случай, а не самые близкие люди, помог ему не утонуть.
Скоро, однако, наступил новый учебный год. Дима был занят. Оказалось, что этого он и хотел. Не самих занятий, хотя они тоже были нужны, а того, чтобы снова быть с ребятами. Он обрадовался, когда вдруг понял это.
Глава двенадцатая
Дима открыл глаза, поднялся с постели, в белом сумраке комнаты увидел себя в зеркале на стене: белоног, нескладен, миловиден, странно внимательны глаза. И сразу все вспомнил.
«Десять лет, – отчетливо, как вслух, подумал он. – Почему я должен радоваться? Почему меня должны поздравлять? С чем?»
Хотелось отказаться от подарка, но не хотелось обижать родителей. Они, конечно, решили бы, что он обиделся на них. Вчера мама так и не поверила ему.
– Отец уже приготовил, завтра сам тебе даст, – сказала она.
Лишь мгновение Дима был благодарен. Но не за подарок, а за то, что о нем помнили.
– Не надо, – повторил он, – у тебя же нет денег, я все равно отдам их тебе.
«Десять лет», – снова, как вслух, подумал он.
Мама поцелует его мягкими губами. Отец поцелует тоже и виновато улыбнется. Весело ему будет вечером с гостями. Все было заранее известно.
«Через десять лет я буду взрослым», – подумал он.
Последнее время он ловил себя на том. что со странным вниманием разглядывал своих сверстников, знакомых отца и приятельниц мамы. О чем они думали? Как чувствовали себя, если не знали, куда пойти, чем заняться?
Прежде, когда Диме было хорошо, ему было хорошо как-то только самому. Плохо ему было тоже только самому. Конечно, он догадывался, что другие тоже как-то там про себя жили. В застойно морозные и вьюжные дни холодно было вознице, что возил его на санях в школу. Не лучше было и тем, кто подвозил им воду в обледенелой бочке, дрова и новогоднюю елку из леса. Наверное, не хотелось и ребятам ходить в школу пешком по длинной лесной дороге навстречу колющей поземке. Но они были сами по себе, он тоже сам по себе.
– Ты должен уступать девочкам, – уже в Широкой Балке говорила мама.
С какой стати? Разве девочки не так же, как мальчики, ссорились, всегда чего-нибудь хотели и были неуступчивы? Непонятно было, почему взрослые украшали девочек всевозможными косичками и бантиками, сарафанчиками и платьицами, чулочками и туфельками и выставляли, словно напоказ, почему мама тоже старалась, чтобы его сестры выглядели нарядными?
Девочки в самом деле любили все яркое. Он убедился в этом по сестрам. Молча и безнадежно с застывшими слезами на потемневших глазах однажды бегала за ним, отнявшим у нее тряпочку, тоненькая как стрекоза его младшая сестра Оля и вдруг разрыдалась. Наверное, впервые обрушилось на нее такое горе. Отдав тряпочку сестре, он видел, как долго и трудно она успокаивалась. Не тогда ли он полюбил ее?
Чувство-догадка, что другие тоже что-то там про себя переживали, возникало в нем при виде слез, выступивших на синих смирных глазах обманутого Мекой доверчивого мальчика. Оно возникало, когда, глядя на девочек класса (мальчики всегда нападали, девочки защищались), он замечал, что нарядные девочки защищали свои косички, бантики и платьица, а ненарядные защищали самих себя. Он помнил, как, заигравшись, не поладив с кем-то и кого-то обидев, вдруг обнаружил, что обидел девочку. Рука запомнила, как продавились под легким платьицем косточки. С бессильным отчаянием смотрела она на его запалившееся лицо. Он отступил. Но и тогда, как ни неприятны ему становились приставания мальчиков к девочкам, он не понял бы себя, если бы принял сторону девочек.
Теперь все стало иначе. Он понял, что не был каким-то исключением. Не были какими-то исключительными и отец, и мама. Даже учительница лишь напускала на себя строгость, на самом же деле была как все. Каких только взглядов, жестов и поз не наблюдал Дима у нее! Вот она посмотрела на свои длинные сухие пальцы, согнула их и взглянула на маникюр, посмотрела на край стола, провела по нему узенькой длинной ладонью и отряхнула пальцы, увидела портфель, невидимые пылинки и волоски на локте и плече костюма, подняла глаза на класс, но ничего там не увидела. Проделывая эти и десяток других вещей, она менялась в лице. Оно становилось заносчивым и высокомерным, доброжелательным и доверчивым, язвительным и нетерпимым, простодушным и растерянным, решительным и строгим. Это было лицо одновременно одного и совсем разных людей. Все это происходило, пока у доски отвечал один ученик. Диме казалось, что он тайком подглядывал за нею.
Но больше всего занимал его отец. Кто, как не он, должен был, обязан был знать что-то такое, что связывало людей с жизнью и делало ее интересной! Кто, как не отец, должен был, обязан был вести его по жизни!
Дима никого из родителей не выделял. Маме хотелось, чтобы отец был хорошим семьянином и не выпивал. Дима соглашался с ней и сам хотел этого. Он понимал и отца, если видел, что мама требовала от него так измениться, будто отец вообще не имел права хотеть то, что хотел, без чего стал бы совсем не отцом.
Он не мог обходиться без газет. Это были «Правда», реже «Известия», еще реже все другие газеты. Он мог, что случалось совсем уж редко, взяться за книгу. Прочитав несколько абзацев, он откладывал ее и смотрел на часы. Только однажды отец читал книгу долго и смеялся до слез. Это был «Тартарен из Тараскона», единственная книга, которую отец дочитал до конца, знал почти наизусть и как анекдоты рассказывал приятелям и знакомым.
Отец любил компании. Если выпивать, играть в карты, лото или шахматы было не с кем, его высокое с густыми кустами бровей и маленькими карими глазами лицо выражало беспокойство. Заметив Диму, он вдруг улыбался ему по-мальчишески доверчиво, будто Дима был старше и знал, что делать, а отец был младше и обрадовался встрече со старшим. Иногда включался он в игры дочерей и младшего сына, но из этого ничего не выходило: кто-нибудь из них обижался или сам отец сердился на них. Тогда он звал Диму с собой и шел в поселок.
– Вот с сыном гуляю, – говорил он даже едва знакомым людям и улыбался, высоко обнажая зубы.
«Неужели ему нравится это?» – думал Дима, когда отец, с кем-нибудь заговаривая, подолгу задерживался.
Состояние ничем не занятого отца передавалось Диме странным образом. Солнечный свет и тени, дерево дикой груши во дворе, многочисленные сараи, дома, люди вокруг – все оказывалось как бы в другом месте и в другом времени. Он физически ощущал обособленность окружавших его предметов и людей, свою собственную природную обособленность и отдельность.
Таким отец был не только в часы, когда не знал, чем занять себя. Он вдруг останавливал машину, на которой, захватив Диму, ехал по делу, и шел к близкому лесу. Он тут же снимал фуражку, расстегивал или снимал китель, подставлял себя солнцу, воздуху и зелени. Потом непременно садился.
«Что ему здесь нужно?» – недоумевал Дима и звал:
– Поехали, пап!
– Подожди, подожди!.. – не соглашался отец.
Земля была как-то особенно тверда, чтобы долго рассиживаться, легкий ветер неприятно свежо проникал под одежду, не хотелось переходить в какое-то странное состояние покоя и безымянности. Не это ли как раз и нравилось отцу? Нравилось, будто освободившись от чего-то, сидеть на земле просто так, слушать движение воздуха и шевеление леса, смотреть на поблескивающую под солнцем траву. Диме почудилось, как вдруг надвинулась на них самобытная и безымянная жизнь вокруг.
– Пойдем, – сказал наконец отец и поднялся.
Что-то в его голосе послышалось Диме, и он пожалел, что торопил отца. Уже сев в машину, Дима невольно оглянулся туда, где они сидели: что-то было в том, что он там почувствовал.
Вошел отец.
– Вот возьми. Тысяча рублей, – сказал он и, кольнув щекой и губами, поцеловал. – Поздравляю с днем рождения.
– Не надо.
– Ты же хотел купить велосипед, – забеспокоился отец.
– Отдай маме.
– Возьми, возьми, купишь велосипед.
Как хотел Дима этого летом! Кто-то тогда катался на улице, и он увидел.
– Пап, купите мне велосипед? – тут же на улице попросил он. – Мама, купите?
Не нужно было бы искать компании. Ребята сами бы просили его покататься. Он давал бы им.
Мама взглянула на него отрешенно.
– У нас сейчас нет денег, Димочка, – сказала она.
Отец отчужденно молчал.
Впервые что-то Дима попросил у них. Конечно, они не могли купить. Денег хватало только приобрести самое необходимое ему, сестрам и брату, самому отцу, самой маме. Он помнил, как перед началом занятий в школе ему купили черные суконные брюки, а он на следующий день порвал их на видном месте, совсем немного порвал, сантиметра на три, но мама расстроилась и ясно дала понять, что не могут они часто покупать новые брюки. Он и сам переживал. Еще до того, как заметила мама. Он давно не любил ничего нового. Новое обманывало тем, что получалось, будто он тоже становился новым и лучше. Конечно, без велосипеда можно было обойтись. И не только без велосипеда, но без всего, без чего вообще можно жить.
«Ничего мне не надо», – подумал он. Разве через десять лет ему, двадцатилетнему взрослому, понадобится какой-то там велосипед!
Отец вышел. Диме стало жалко его. Было неудобно, что все так выходило. Деньги он отдал маме.
– Может, мы все-таки купим тебе на эти деньги велосипед? – спросила она.
– Мне, правда, ничего не надо. Почему вы никогда не верите мне?
Нет, не был он обижен на родителей. И вообще ни на что обижен не был. У него было все, что должно быть у каждого: один из лучших в поселке дом, двор с сараем и деревом дикой груши; старый маленький кинотеатр, стадион и две речки; он был сыт, одет, обут, имел (у кого-то этого не хватало) все учебники, достаток тетрадей в косую линейку и в клетку, фарфоровую чернильницу-непроливашку, карандаши, ручку и перышки к ней; он не был лучшим учеником, но пятерки случались и у него; он не слыл сильным и ловким, но к слабеньким и вялым его не относили; он не верховодил, но заранее уступать заводилам не приходило ему в голову; у него было полкласса приятелей, о которых он через неделю, скорее всего, даже не вспомнил бы, но они хотели того же, чего хотел он, радовались тому же, недовольны были тем же.
Глава тринадцатая
– Давай построим дом? – предложил он своему дружку Женьке. – И будем в нем сидеть, когда будет дождь.
Они наломали на большой речке ивовых веток, нашли толстые палки для кольев и вбили их в плотную глинистую землю у забора во дворе. Забор должен был служить одной из стен, а крышу и другие стены они решили сплести из веток. Они как раз сплели одну стену и обмазывали ее глиной, размешанной в залитой водой ямке, когда к ним подошла девочка в летнем зеленом пальто, в тонких синих шароварах, в резиновых сапожках, ростом чуть ниже Димы и с завитками рыжеватых волос. Спросив, чем они занимались, она тут же принялась помогать им. Ее чуть напухшие руки мягко и уверенно управлялись с глиной, даже капли падали с них редко.
Всегда было ясно Диме, как быть с мальчиками, и никогда не было ясно, как быть с девочками. О чем они думали? Чего хотели? Иногда девочки походили на кукол. Он смотрел на них и как бы не верил тому, что видел: куклы улыбались, шевелили руками, сами себя водили, сами себя учили. Ходили они прямо, а когда нужно было наклониться, оттопыривали аккуратные задики в трусиках и приседали, будто не могли наклониться ниже. Когда они бегали, руки и ноги плохо слушались их и раскидывались.
Девочку, что взялась помогать им, звали Верой Чайка. На следующий день она снова пришла. Охотно пошла с ними на реку, умело отламывала длинные ветки ивы, склонившейся над зеленоватым потоком.
Они стали ждать ее.
– Интересно, придет она сегодня? – спрашивал Дима.
Женька неуверенно вскидывал острое плечо.
Вера появлялась из-за сарая соседнего дома. Ее походка вызывала впечатление непрерывности и слитности, не раскладывалась на составные части, как это было у многих девочек.
– Что вы еще сделали? – спрашивала она.
Они отчитывались. Довольный Дима рассказывал. Довольный Женька кивал и показывал на обозначившееся строение.
Поработав, они садились на лавку у подъезда. Вера сидела между ними, просто так сидела и смотрела. На солнце ее желтые волосы блестели, блеск скользил по ним, как огненные блики по проводам, зрачки ее глаз наполнялись золотистым светом, и в уголках их видны были тени. Настоящие тени!
– Ты что не зашьешь? – вдруг спросила она.
Ее пальцы затеребили порванное место, теплая ладошка накрыла дырку на голом колене. Не было ничего особенного в том, что девочка просто так положила руку на колено мальчика, но лицо Димы опалилось, он замер в беспокойной истоме, украдкой взглянул на Веру, на Женьку, не смущены ли и они.
– Я не успел. Я недавно порвал, – оправдывался он. – Я зашью.
Он никогда ничего не зашивал себе сам.
– Вот бы нам все время быть вместе, – говорил он на следующий день. – Вера была бы нашей женой. Вот было бы здорово!
Они сидели на лавке. Женька кивнул. Дима обнял его. Женька яростно задергал плечом. Дима догадался, что если он тотчас не снимет руку, Женька превратится в его врага, обиделся и сам чуть не стал врагом Женьки. Тут они увидели Веру. Как всегда, она шла прямо к ним. Зеленое пальто, чулки вместо шароваров, резиновые сапожки – все было не новое и удивительно шло ей.
Они не стали ждать, когда просохнет новая стена. Как было удержаться и не войти в свой, пусть еще без крыши, домик! Они едва поместились на глиняном полу, сидели, навалившись спиной на забор, и были довольны, что их не было видно. Оставленное для двери место прикрывала глухая стена близкого сарая. Вера уютно устроилась между ними. Волновали чуть напухшие девочкины руки, видные из рукавов пальто, ее вытянутые по полу ноги в чулках и резиновых сапожках, ее неожиданно податливое плечо. Сидеть бы вот так все время, смотреть на высокое и будто все удалявшееся голубовато-пустое небо, по которому невозможно было угадать, что происходило в мире, и не думать ни о доме, ни о школе, ни о скрытой стенами домика жизни, сейчас уже как бы несуществующей, несущественной…








