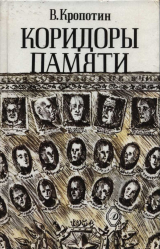
Текст книги "Коридоры памяти"
Автор книги: Владимир Кропотин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Глава шестая
Все кончилось вдруг. Он понял, отчего ему становилось хорошо или плохо. Облегчение наступало, если восстанавливалась его дружба с Гривневым, если и Высотин смотрел на него без предубеждения, словом, если его, Диму, п р и з н а в а л и. И такими были все. Переглядываясь с ребятами, он как в зеркале встречал, казалось ему, свой собственный взгляд.
И вот что еще заметил Дима: с а м о н н и ч е г о н е х о т е л, о д и н о н н и к у д а н е п о ш е л б ы, о н в о о б щ е м н о г о е б ы н е д е л а л, е с л и б ы э т о г о н е д е л а л и д р у г и е, н а м н о г о е н е о б р а т и л б ы в н и м а н и я, е с л и б ы п р е ж д е н а э т о н е о б р а т и л и в н и м а н и е д р у г и е. Тянуло за Хватовым. Даже непонятно было, чего тот добивался. Быть там, где находился Хватов, делать то, что делал он, значило тоже чего-то хотеть и делать. Невольно завладевал вниманием Гера Уткин. Ни у кого не было такой трудной судьбы. В его десять лет, оставив троих детей, внезапно умерла мать, в одиннадцать – отец, офицер-конвойник, женился на другой женщине, которую они называли теткой, а в двенадцать – погиб от финки бандита. Дети, и прежде всего старший Гера, понимали, что женщина, на которую они смотрели с явной надеждой, могла отдать их в детский дом, но она не сделала этого, и они были признательны ей больше, чем родной. Года на два старше многих, крепкий, поджарый, с заостренным к носу лицом и вытянутым затылком, Гера Уткин не поддавался внезапному возбуждению, охватывавшему ребят, и был справедлив. При нем никто не признавался лучше или хуже других. О чем он думал? Что скрывалось за его уверенностью? Такое же странное внимание однажды вызвал у Димы камень-монолит в деревне, среди зеленой равнины, вдали от гор, где только и могли находиться такие камни. Как он здесь очутился? Кто доставил его сюда?
Дима обрадовался, что пробежал сорок, а затем и шестьдесят метров вторым во взводе после Уткина. Вторым после него оказался Дима и в прыжках в длину.
– Хочет обогнать, – говорил Высотин и показывал на него.
Не обогнал. Снова оказался вторым, хотя напросился бежать в четверке с Уткиным. Затылок соперника почти уходил в плечи, подбородок вытягивался вперед, ноги мелькали стремительными линиями.
Но обнаружилось еще одно. Сознательно Дима прежде не считал себя самым умным или каким-нибудь другим самым, но все-таки он, оказывается, выделял себя. Теперь же он видел, что достоинства, которые он считал своими, вовсе не принадлежали исключительно ему. Это было у всех. Э т о н и к о м у л и ч н о н е п р и н а д л е ж а л о.
Уже давно по субботам и воскресеньям отпускали в город старших воспитанников. Ждали увольнении и в третьем взводе. Не однажды подходил к Голубеву и заговаривал с ним Высотин. Узнав, что об этом уже шел разговор у командира роты, он довольно оглядывал ребят. Услышав про увольнения, подходил к командиру взвода и Хватов. Его квадратное лицо становилось необычно серьезным, а взгляд уходил в сторону и замирал.
Он уже готовился, чуть ли не каждый день приносил из каптерки брюки с лампасами и мундир, осматривал их и гладил. Ходить с узкими брючинами было некрасиво. Для красоты требовались клеши. Так ходили суворовцы старших рот. Чтобы сделать клеши, Хватов выпросил в столярной мастерской лист фанеры и вырезал из него клинья, отшлифовал их края, намочил брючины и, продолжая смачивать их, сантиметр за сантиметром осторожно натягивал их на клинья, оставляя просыхать. Просохшие один раз брюки, чтобы они не сели, следовало, утверждал он, натянуть на клинья еще раз или два и снова дать им просохнуть. Клеши должны свободно закрывать ботинки и колыхаться вокруг ног. Красивее, оказывалось, можно было сделать и погоны. Для этого в них следовало вдеть тоненькие дощечки. Тогда погоны не прогибались и плечи становились прямыми. Белой змейкой видневшийся из ворота свежий подворотничок, блестящие пуговицы, отражавшая свет бляха, начищенные до серебряного сияния ботинки завершали дело. Так должен был выглядеть готовый к выходу в город суворовец. За клиньями Хватова занимали очередь. Занял и Дима. Тихвин же никак не мог решить, портить ли ему брюки – вдруг порвутся, вдруг лопнут по швам, а потом зашивай. Свои клинья и дощечки в погонах появились у Высотина с приятелями. За ними тоже занимали очередь. Глядя на всех, стал готовиться к увольнению и Ястребков. К удивлению Димы, Млотковский тоже где-то раздобыл клинья и дощечки.
Высотин снова подошел к командиру взвода.
– Скоро, скоро, – ответил Голубев. – В эту субботу.
– Ура! – крикнул Хватов.
– Ура! – крикнул Гривнев, для которого всякое событие имело значение.
Его выпуклые глаза смотрели на каждого дружески и как бы приблизившись.
Но значительнее всех выглядел Высотин, будто только один он понимал настоящий смысл предстоящих увольнений. Вот видите, всем видом своим говорил он, нам уже доверяют, но вы еще не знаете всего, все у нас только начинается, самое интересное впереди.
Известие что-то осложнило для Димы. Получалось, что теперь следовало обязательно ходить и в город.
– Ты пойдешь? – спросил он Тихвина.
Тот смотрел выжидательно. Может быть, ждал предложения пойти вместе. Дима не предложил. Он вдруг почувствовал разницу между ними. Сам он не находил в себе каких-либо привязанностей к вещам и неизменному порядку, а Тихвин как-то легко мог обойтись порядком в ящике стола и тумбочке, уроками, самоподготовкой и письмами родных, мог и один пойти в город, и непременно пойдет.
Сначала решили отпустить в город всех, но желающих оказалось так много, что это насторожило офицеров, будто, пусти всех разом, воспитанники заполнили бы весь город. Поэтому поступили иначе: сегодня идти должны были одни, завтра другие, а чем-либо провинившиеся оставались в училище.
Оставался Млотковский. Дорогин посмеивался, будто это не командир взвода наказал его приятеля, а он, Дорогин, так удачно подшутил над ним.
– А что я сделал? Я ничего не сделал! – не соглашался Млотковский.
Его блестящие в крупных веках глаза под широкими реденькими бровями моргали, но смотрели на командира честно и решительно.
Не отпускали в город и Ястребкова, но тот все равно приготовился, не мог поверить, что причиной наказания могли стать однажды невычищенные ботинки или случайное опоздание в строй. Нет, такого наказания быть не могло. Он не нарушал дисциплину нарочно. Он надел фуражку.
– А почему его отпускают? – возмутился Млотковский.
Этого Ястребков не ожидал.
– Вы куда собрались? – спросил Голубев. – Вы никуда не идете.
– А что я вам сделал? – обиделся Ястребков. – Я ничего вам не сделал.
– Если будете хорошо вести, в следующий раз отпущу обоих, – сказал Голубев и объявил: – Через десять минут построение.
Млотковский не успокоился, пошел за командиром взвода и, заступая ему под ноги, доказывал свою невиновность. Ястребков остался. Он успел сказать неприятелю:
– Тебе какое дело? Банный лист на…
Какое-то время Ястребков не знал, что делать. Никогда еще так тщательно не приводил он себя в порядок, но все выходило против него.
– Тебя же не пускают, – удивился ему Тихвин.
– Заткнись! – сказал Ястребков, занимая место рядом с ним.
Тихвин обиделся и засосал кончик языка. Ястребков покосился на него откровенно враждебно: и этот лезет, сначала Млотковский, потом этот, им-то какое дело, это из-за них у него может ничего не получиться.
Нет, командир взвода не забыл его.
– Вы почему здесь? – спросил он. – Вы не идете.
Ястребков нахмурился, будто говорили не ему.
– Вы не идете, – повторил Голубев.
Ястребков еще больше нахмурился, сводил к переносице неподдающиеся светленькие брови и смотрел на командира взвода как на обидчика.
– А почему он идет? – увидев Ястребкова в строю, снова возмутился вернувшийся в казарму Млотковский. – Я тоже пойду.
И он, как был без фуражки, стал в строй.
– Выйти из строя! – рассердился Голубев. – Я что вам сказал?
Ястребков переминался и все больше раскачивался. Вытянувшись по стойке «смирно», до последней возможности держался Млотковский. Первый вышел Ястребков. Глядя исподлобья в сторону командира, он что-то шептал. Теперь он мог не притворяться. Затем вышел Млотковский.
– Почему их отпускают, а меня нет? – быстро заговорил он. – Что я сделал? Они тоже бегали.
Вдруг он вздрогнул и крупно моргнул. Это Ястребков замахнулся на него, но не ударил. Потом Ястребков замахнулся уже всерьез. Млотковский снова вздрогнул, загородился руками и поднял к груди коленку, закрыл глаза и тут же открыл их. Теперь оба совали друг в друга руками, совал больше Ястребков, а Млотковский напирал на него коленкой.
– Что вы, что вы, немедленно прекратите! – растерялся Голубев.
Прекратили. Недовольный Ястребков ни на кого не хотел смотреть. Часто моргал и на всех прямо смотрел Млотковский.
Они еще до осмотра осмотрели друг друга. Что-то смутило Попенченко, когда он переглянулся с Димой: не ожидал увидеть как бы самого себя в другом. Удовлетворенно оглядел себя и Диму Гривнев: такими можно было отправляться в город. Они чувствовали, что были лучше и значительнее самих себя. Чувствовали, что не были отдельными Годоваловыми и Хватовыми, Высотиными и Тихвиными, а все были с у в о р о в ц а м и.
В других взводах тоже готовились к осмотру. Скорым шагом отправился за своим командиром чернявый Светланов. Он вернулся один, стал в строй и вытянулся. Строй тоже подтянулся, но продержался недолго. Пока Пупок не приходил, Светланов выходил из строя, кого-то успокаивал, потом снова становился в строй и вытягивался. Ходил за Чутким и Брежнев. Успокаивать ему никого не приходилось. Все во взводе выглядели подтянутыми и странно одинаковыми. А в четвертом взводе уже получали увольнительные, улыбались и заглядывали, что было написано в них.
Не один раз ходил Дима в увольнение, но первый выход в город запомнился ему особенно. В новеньком тесном мундире он выглядел мальчиком с нежным лицом и голубенькими глазами. В его распоряжении оказалось целых четыре часа. Зеленый город встретил его парковым шелестом листвы и неожиданным простором. Иди, куда хочешь, и делай, что хочешь. Но куда? Зачем? Не все равно оказывалось только одно: в любую минуту мог встретиться офицер и нужно было успеть поднять руку в уставном приветствии. И так теперь будет все время? Тягостная растерянность охватила его. Вернуться в училище? Нет, позволить себе это он не мог.
На людной и пестрой от теней центральной улице он вдруг увидел знакомое. Навстречу ему шел с у в о р о в е ц. Потом показался еще один. Глаза невольно стали искать знакомые фуражки, мундиры и лампасы. О н б ы л н е о д и н. Некоторые были старше его всего на год, но держались без оглядки. Уважение вызывали самые старшие: высокие, красивые, с взрослыми лицами, в них чувствовалась какая-то порода, что-то трудно уловимое, чего явно недоставало тем, что были младше. Старшие смотрели на младших иногда снисходительно и с усмешкой, но чаще спокойно и понимающе. «Сразу видно, что ты впервые вышел в увольнение, стеснителен и неловок», – говорили взгляды одних. «Не дрейфь», – поддерживали другие. Такие разные были суворовцы, что, глядя на них, Дима видел будто не их, а себя, каким он станет через год, два, три, четыре и пять лет.
Встречались и свои, из его взвода, из его роты. Смотрели друг на друга напряженно и, как бы не узнавая, проходили мимо. Прошел и как бы не узнал его всегда очень серьезный и внимательный Брежнев. Показался Хватов. Шел устремленно и тоже не замечал своих, будто он один в городе был суворовцем. Встретился Высотин с приятелями. Шли медленно. С пристрастием оглядели его. Дима вдруг понял, что все время видел в городе только суворовцев. Не похожей на других показалась стоявшая у перекрестка группа ребят второго взвода. Кого-то там горячо убеждал, куда-то всех звал чернявый Светланов, и группа дружно направилась за угол. Удивил и Гривнев. Он не прошел мимо, а, чуть переваливаясь с ноги на ногу небольшим увесистым телом, подошел и как свой пошел рядом: выпуклый лоб, выпуклые глаза, толстые губы, довольный собой, довольный увольнением, довольный и Димой.
Что-то подобное тому, что Дима испытывал тогда в городе, стало повторяться с ним и в последующие увольнения. Город разделял его с ребятами. Не обманывала его и суворовская форма Он стал суворовцем как-то лишь внешне. Чем ближе к концу подходил учебный год, тем очевиднее становилось, что он оставался прежним, домашним. Приближавшиеся каникулы представлялись, однако, очередным, но необычно продолжительным увольнением, еще больше отделявшим его от ребят. А те уже ждали разъезда по домам. Ждали с нетерпением.
– Ура! – крикнул Хватов, вытаскивая из стола учебники. – Пошел сдавать.
И оглядел класс.
– Ура! – снова крикнул он.
И снова оглядел класс.
– Это же первые наши каникулы, первый год позади, ребята, ура! – поддержал его Гривнев.
– Ура! – подхватил Ястребков.
Он прокричал «ура» трижды, сначала тихо, одними губами, потом громче, как бы прислушиваясь к звучанию голоса, и, наконец, во всю силу, уже поддерживая самого себя, уже не желая никому уступать.
Они давно готовились к этому дню. Нельзя, оказывалось, ехать домой без подарков. Одним из первых купил их Тихвин. Это никого не удивило. Каждую неделю тот писал письма домой и часто получал посылки, маленькие аккуратные ящички, коробки и свертки, обшитые тонкой белой материей.
Черный в оранжевых цветах большой платок купил Уткин. Это тоже никого не удивило. Понимали, что воспитавшая его тетка заслуживала всего.
– Им будет приятно получить подарок, – говорил Гривнев обо всех родителях, тетках, сестрах и братьях.
Дима настораживался. Сам он никогда не догадался бы купить подарки. И кроме того, его не тянуло домой. Неужели он любил родителей меньше?
Покупки рассматривали с самым серьезным видом. Приходил смотреть платок Уткина Хватов, смотрел долго, со значением и одобрил. Он и свои покупки, платок для матери и две тюбетейки для себя, рассматривал со значением и ждал, когда другие тоже рассмотрят их. Никого не замечая, один рассматривал подарок-косынку Ястребков. Не понимая, что общего между ним и этой красивой материей, он держал ее за углы, потом складывал, но, что-то забыв разглядеть, снова раскладывал. Окончательно сложив косынку и закрыв ее в тумбочке, он какое-то время невидяще смотрел сквозь дверцу, потом поднял голову и забыл о подарке. Еще больше удивил Диму Брежнев. Не то удивило, что тот, как все, купил подарки и показывал их в своем взводе, а то, что интересовался, что купили себе другие, и одобрял все, что бы кто ни купил.
Нет, хотя Дима тоже купил подарки, его не тянуло домой. И родители тут были ни при чем. Как ни была неизбежна его отдельная от них своя жизнь, как раз этой своей жизни еще не было у него. Он вернется домой ни с чем, таким же, каким уезжал.
– Нам выдадут паек, – сообщил Хватов. – Сгущенное молоко, баранки, сахар, мясную тушенку…
– Поедем в одном вагоне с ребятами из четвертой роты, – сказал Высотин.
Они уже считали себя второй ротой.
Все теперь происходило как год назад, когда они поступали в училище, только в обратном порядке.
– Всем получить шмутки! – объявлял старшина.
Получали доучилищные брюки, пиджаки, рубашки. Примеряя их, казались себе смешными и показывали друг на друга. Уложив чемоданы, проверяли их на вес и прохаживались.
– Кто сегодня уезжает, все сдать! – кричал старшина.
Казарма пустела, становилась голой и неопрятной. Всюду гуляли сквозняки. На кроватях оставались только матрацы. Потом их тоже складывали в каптерке один на один до самого потолка.
Глава седьмая
Здесь следует сделать отступление. Жизнь Димы в училище складывалась не только из собственных впечатлений, но и из еще не осознанных им представлений о том, чем жили некоторые его сверстники, прежде всего Саша Хватов и Игорь Брежнев. Дима не мог бы объяснить, почему связывал себя именно с ними, но как сразу обеднела бы его жизнь без этих ребят. В нем и вокруг него образовалась бы ничем незаполнимая пустота. Заменить их другими ребятами оказалось бы не просто. Пришлось бы начинать суворовскую жизнь как бы заново.
Саша Хватов помнил себя в маленькой сумеречной комнате, в длинном пасмурном коридоре с полосой света из общей кухни, с умывальниками и ведрами, шкафами и ящиками, с одеждой на стенах. Он еще не обращал внимания на людей, что жили с ним в коммунальной квартире и отовсюду шли через двор. Первыми, кого он увидел, были мальчики его возраста. Видел, конечно, он и девочек, но не удивлялся им. Удивили мальчики. Они, как и он, стояли во дворе, озирались и будто все видели впервые. Один мальчик вдруг подошел и толкнул его. Он вцепился в обидчика. Мальчик заплакал. Откуда-то появилась охваченная паникой женщина. Появилась и мать, виновато посмотрела на женщину и увела Сашу домой. Потом он снова увидел мальчиков. Он показал им железку, что нашел за сараями, а они показали ему мячик и ножик. Особенно интересен был ножик.
Однажды Саша увидел мужчину. Крупный, с большим белым лицом, пропитанным свежим воздухом, он шел широко и размашисто. Человек взглянул на Сашу со своей великаньей и все же обыкновенной, просто большой высоты, взглянул мимоходом, но так, будто у в и д е л е г о в с е г о и з н а л о н е м в с е. Это ошеломило Сашу. Он увидел в мужчине себя. Будто это он, Саша, мог так вырасти и ходить. Он смотрел вслед энергично отмерявшему пространство мужчине и еще не понимал, что произошло. Будто кто-то поднял его и всего раскрыл настежь. Уже скрылся мужчина, а Саше еще виделось его большое, пропитанное воздухом белое лицо, крупное тело в расстегнутой темно-серой одежде, огромные сапоги и, главное, этот все знавший о нем взгляд.
Не в первый раз Саша видел мужчин, догадываясь, что тоже был мужчиной, только маленьким. Но лишь сейчас он понял, что вот такой большой человек, что прошел мимо, мог быть у него, если бы отца не убили на войне, что вот такого большого и все знавшего о нем человека ему не хватало.
Потом Саша стал понимать, как жили люди. Он с матерью жил, наверное, хуже всех. Оказывалось, что многие дети были чище, новее его. У них всегда появлялись настоящие игрушки, а у него не появлялось ничего. За многими детьми все время ухаживали, их оберегали бабушки и дедушки, отцы и старшие братья, кто-то еще, а с ним была одна мать. Того поразившего его мужчину он скоро забыл и ни разу не вспомнил. Не вспомнил потому что знал: ни один мужчина не мог быть его отцом. Ему Саше, предстояло жить одному. Он не думал об этом. О н з н а л э т о.
А ведь другие дети, видел он, были ничуть не лучше его. На двор, на улицу, в незнакомые места многие из них выходили с опаской. Они даже бегать, лазить на деревья, купаться в реке редко отваживались. И учились они не лучше.
С того времени, как он понял это, он будто узнал о себе все. Было обидно. Разве он виноват?
Он учился хорошо. Мать ничем не могла помочь ему. Она не понимала того, что понимал он. И он не собирался мириться с тем, с чем смирилась мать. У него должна была получиться несравнимо лучшая жизнь.
А пока он играл в перышки. Чтобы выиграть, нужно перевернуть перышко соперника навзничь, надавив острием своего перышка на пятку чужого, а потом, скользнув по нему своим, возвратить его в прежнее положение. Саша выигрывал. Впервые у него было чего-то больше, чем у его сверстников. Мнимое богатство. Но отдать просто так кому-то хотя бы одно перышко он не согласился бы.
В училище Саша поступал дважды. В первый раз его не приняли. Неудача не обескуражила его. Он ухватился за мысль: приняли только детей родителей с положением и влиятельными родственниками и знакомыми. Даже отличные отметки едва ли помогли бы ему. Не помогло и то, что он был сыном погибшего. Даже если бы отец, простой рабочий и рядовой солдат, остался жив, думал Саша, это ничего не изменило бы в его жизни. Кроме матери, никто не знал отца. Мать говорила, что он был хороший, но ничего не могла рассказать о нем. Что же это был за человек, если о нем нечего рассказать? Все представлялось Саше несправедливым. Разве он виноват в том, что родился у такой матери? Получалось, что он во всем зависел от нее, остальным до него не было дела и ничто не могло изменить его положение.
Он все же надеялся. Разве не говорилось везде, что в его стране все люди равны и каждый может стать ученым, инженером, офицером? Он не давал матери покоя. Пусть пошлют его в суворовское училище еще раз. Мать хлопотала. Он требовал от нее определенного ответа: точно ли написала запрос, точно ли будет разнарядка, точно ли отправят именно его. Он выдерживал недолго и снова посылал мать. Чтобы ничего не забыть, он учился в пятом классе и одновременно готовился к экзаменам за четвертый. Он будто сам себя выучил наизусть. Пусть теперь не примут его. Тогда станет ясно все.
Его приняли. Помогло, наверное, то, что он поступал во второй раз. И то, что его отец погиб, на этот раз тоже, видимо, помогло. Но теперь, когда его приняли, быть благодарным за это представлялось странным. За что благодарить? За то, что с ним поступили справедливо? За то, что, приняв его, никто при этом лично о нем не думал? За то, что ему пришлось потерять целый год? Он как бы добровольно снова учился в пятом классе, а мог бы уже находиться во второй роте. Все равно было обидно. Из всех ребят он один был такой. У других все получалось сразу.
Конечно, об этом следовало забыть. И он забыл. Впервые он имел все, что имели другие. Но скоро он понял, что и в училище он один оставался как бы сам по себе, а у других было то, что они любили, чем гордились, о чем могли рассказать. Он не мог забыть, как однажды, узнав, кем работала его мать, посмотрели на него ребята. По тому, как они вдруг все замолчали, будто ничего не слышали, он понял, что они не забудут о его матери-уборщице. Взгляды были мимолетны, но он не мог ошибиться. Вот так же мимолетно, будто сразу узнавая о нем все, взглядывали на него приличные взрослые люди, когда видели его с матерью.
Саша вернулся в училище первый. Последние недели он не находил себе места дома. Если бы можно было, он вообще не приезжал бы домой. Бедность обстановки, мать, встретившая его заискивающими взглядами и даже в лучшем платье выглядевшая неприметно, праздничный стол на двоих в прибранной по случаю его приезда особенно тщательно комнате – все унизило его. Он был рад сейчас, что никто в роте не знал и, конечно, не мог представить, как и где он жил на самом деле, как скромно и жалко выглядела мать. Разница между ним и этой обстановкой оказалась столь очевидной, что ему невольно подумалось: не такая мать и не такой дом должен бы быть у суворовца в красивой форме.
Мать тут же накинула на голову платок, его подарок. Она сделала это неожиданно ловко, по-женски красиво, как девушка взглянула на себя в зеркало на столе, признательно взглянула и на него, и это не понравилось ему. Он не позволил ей погладить себя по плечу, отстранился.
Она поняла это по-своему. Каким красивым и строгим он стал! Неужели всего за год могли так хорошо воспитать ее сына? Ни о чем подобном она не смела мечтать. Сейчас она гордилась им: сколько раз он посылал ее просить, чтобы его послали в училище, и добился своего – такой настойчивый!
Оглядевшись, он тут же приступил к делу. Свободных вешалок в узком с одной дверцей шкафу не оказалось, и он попросил освободить две вешалки.
– Одна для повседневной, другая для парадной формы, – сказал он. – Ты ничего у меня не трогай.
Он достал из чемодана полотенце, зубной порошок, зубную щетку и мыло, снял гимнастерку и пошел в коридор умываться. Потом он обедал, а мать смотрела на него.
– Вкусно, – похвалил он, не глядя на мать. – Это пусть на ужин останется.
Он поднялся и принялся приводить форму в порядок. Он все делал, будто находился в комнате один. Иногда он ловил на себе искательные взгляды матери, но не замечал их.
– А где у нас утюг? – спросил он. – Марля у меня есть.
Но и обращаясь к матери, он смотрел на нее не прямо, а как-то боком и мимо.
Он был один такой во всем городе. Мальчишки не спускали с него откровенно заинтересованных взглядов. Он видел: они вдруг останавливались, смотрели ему вслед, удивлялись, откуда у них такой нарядный военный. Он физически ощущал, как сливался со своей красивой суворовской формой, превращаясь во что-то совершенно необыкновенное. Он ходил в кино, в парк, бывал в самых людных местах, отдавал честь офицерам. В такие часы, а они были каждый день, он жил странной, как бы несуществующей жизнью, но все же чувствовал, что представлял собой вполне возможных людей и необыкновенная жизнь все-таки существовала.
Встречал он и ребят, с которыми учился в школе, не первый узнавал их, не первый подходил к ним. Они рассматривали его форму, и он тоже вместе с ними рассматривал себя. Он ни о чем не рассказывал, форма сама все рассказывала о нем. Часто бывал он с ребятами на реке. Приходил туда в хаки, раздевался и все аккуратно складывал. Но и на реке он ни на минуту не забывал, что был другим и ни с кем не смешивал себя. Он загорал, с разбегу бросался в воду, никогда за кем-нибудь, а всегда первый, заплывал далеко. Иногда он увлекал ребят на остров метрах в ста от берега, потом первый плыл назад. Он был решителен и смел и знал, что именно таким видели его ребята. Кто-то из них, что боялись заплывать далеко, караулили его форму. Потом он одевался, и все наблюдали, как на глазах у них он превращался в суворовца.
Так провел он больше месяца и однажды заскучал. Внимание бывших и новых приятелей не приносило отрады. Он все реже смотрел на себя со стороны, уже ничего не воображал, и это усиливало его тоску. Только в училище могла по-настоящему продолжаться его жизнь.
Итак, Саша Хватов вернулся первый. Он осмотрел бассейн, сквер, побывал в мастерских, заглядывал даже в классы и казармы старших рот. Он имел на это право. Но это было, бессознательно чувствовал он, не его личное право, и потому куда-то ходить, что-то делать нужно было не одному, а с кем-то. Хорошо ходить вдвоем, еще лучше втроем или вчетвером, но не всем взводом, не всей ротой, всех он сторонился. Конечно, он мог пойти куда-нибудь и один. В бассейн, если там кто-то купался. В посыпанную хлоркой, но давно выветрившуюся круглую уборную, где тайком от начальства покуривали суворовцы. Но сейчас нигде не было даже суворовцев других рот. Без воды стоял бассейн. Баня и клуб не работали. В городе, куда он ходил раза два, ничто не привлекало. Курить одному не хотелось, хотя пачку папирос он купил давно и спрятал, решив, когда потребуется, доставать по одной. Но прежде всего приходилось думать о еде. Столовая работала пока только для солдат, и никто не собирался кормить его. Он ходил в столовую за хлебом.
– Что так рано приехал? – спрашивали его официантки и кормили.
Но регулярных завтраков, обедов и ужинов все же не было. Он воспрянул, когда стали приезжать ребята. У приезжающих удавалось перехватить поесть. Он безошибочно угадывал, у кого именно. Что-то могло найтись у Тихвина, Покорина или Гривнева, может быть, у Годовалова и Ястребкова, но вряд ли у Дорогина, Попенченко или Уткина. Рассчитывать поживиться у Высотина или Млотковского не приходилось.
Чем больше приезжало ребят, тем становилось интереснее.
– Ребята, это же здорово, что мы снова вместе! – говорил Гривнев.
Этого Хватов не испытывал. Вообще не чувствовал сколь-либо ясной близости к сверстникам. Ему нужен был не кто-то, а само училище и сам он среди всех. Он предпочитал тех ребят, что могли ходить с ним.
Лишь одному во взводе Хватов был рад по-настоящему. Рад по-своему, никак себя не связывая с ним. Это был Уткин, может быть, один из всех, кто не умел и не хотел хитрить, всегда был справедлив и мог постоять за правду. При нем переставало иметь значение, была ли чья-то мать уборщицей или артисткой, чей-то отец полковником или вахтером.
И все же Саша был доволен, что ребята возвращались. Теперь он мог действовать.
– Пойдем за сухарями, – позвал он, как обычно ни к кому не обращаясь.
Пошли. Залезли в закрытую столовую через окно, в полутьме прошли по сухим теплым помещениям в зал. Там, у раздаточного окна на столе на подносе под тряпицей, работники столовой всегда держали их для солдат, для суворовцев. Потом они сидели на кроватях у окна, грызли сухари и обменивались новостями. Вечером сухари были особенно вкусны.
Ночи тоже принадлежали Хватову с компанией. Ночью они чувствовали себя еще большими хозяевами. Тайными хозяевами. При луне всюду было просторно и высоко, а без луны деревья и кусты едва различались, знакомые места узнавались с задержкой, все выглядело переодетым. Стояла тишина. Теплый, чуть пыльный воздух напоминал о прошедшем дне. Что могло быть лучше купания в бассейне в такое время? Великолепные ночи! Больше угадываешь, чем видишь. Больше ощущаешь, чем сознаешь. Весь внимание. Кто ты? Что ждет тебя? Но вперед, только вперед!
Игорь Брежнев возвращался в училище как в свой дом. Здесь находилось его место, как у отца была его бригадирская работа, а у матери ее домашние дела. Еще год назад, когда он впервые ехал на поезде, он понял, что существовало нечто большее, чем поселок, где он жил, чем просто дом, просто семья. Страна была больше. Жизнь всех людей тоже была больше. Он убедился в этом и в училище: вместе с ним там находились шестьсот молодых людей и все они, будущие офицеры, были нужны Родине. Все говорило Игорю, что здесь начиналось его будущее. Начиналось хорошо.
Первые воспоминания Игоря были разрозненны и случайны. Что-то все время откуда-то появлялось, исчезало одно, возникало другое. Ни о чем не думалось. Все происходило помимо его воли. Да и самой воли не было. Не было и того, что разумеется под словом «понимать». Позже, когда эти воспоминания сами возникали перед ним, он невольно старался забыть о них, они не укладывались в его представления о себе. Зато он отчетливо помнил, когда все вокруг стало устойчиво и понятно. Помнил утро, занималась заря, отец уже был в спецовке, мать провожала его у порога. Игорю не было тогда и пяти лет. Он любил провожать отца на работу. Быстро одевался и, не поев, бежал за ним. Если отец брал его за руку, он гордо оглядывался: вот какой вырос большой, уже шел со взрослыми на работу. Ему нравилось шагать вместе с рабочими. Он уже понимал, что жил в рабочей семье, в большом шахтерском поселке.
Они жили дружно, часто принимали гостей, пели песни, вели беседы до полуночи. Сдержанный строгий отец не так веселился сам, как был доволен приподнятым настроением гостей. У него были тонкие черты лица, хорошие внимательные глаза. Мать тоже следила за тем, чтобы никто не заскучал, не был забыт. Она всех старалась накормить. Игорь чувствовал, что и благодаря ему всем становилось хорошо.








