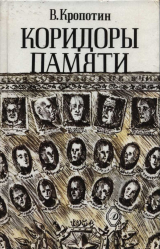
Текст книги "Коридоры памяти"
Автор книги: Владимир Кропотин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Теперь из репродуктора раздавался сильный и жесткий мужской голос. Что-то передавали важное. Что? Арестован Берия. Он вынашивал зловещие планы. Что происходило?
И беспокойство вернулось. Его не могли оттеснить ни встречи с ребятами, ни то, что, став старшими суворовцами, они, казалось, достигли всего, чего хотели. Как среди тех, кто руководил страной, мог сплестись заговор? Как вообще враги могли оказаться на самом верху? Почему ничего не предпринимали они при Сталине? Дожидались его смерти? Но за кого они были? Ведь не за американцев же. Не за империалистов вообще. Берия просил о помиловании. Его все равно расстреляли. Так серьезно все оказалось.
«А мы еще хотели, чтобы он стал главным», – подумал Дима.
Теперь и они, суворовцы, имевшие какое-то отношение к государственному преступнику, уже не станут чем-то исключительным, а будут обыкновенными офицерами. На них не станут рассчитывать так, как могли рассчитывать, если бы во главе страны оказался Берия.
Дима снова д у м а л.
Глава десятая
Все, однако, образовалось. Никаких новых внутренних врагов не предвиделось. Но хотя никто не собирался останавливать строительство новой жизни и уступать империалистам, хотя в стране все делалось правильно и даже как будто лучше, былой уверенности не стало. Да и что он знал о жизни? Почти ничего. Все приходилось принимать на веру. Имя того, кто стал самым главным, не связывалось с какими-либо заслугами и перспективой. Его внешний вид настроения не поднимал. Такого, как этот плотный лысый человек, можно было, казалось, встретить на любой улице.
В эти дни Диме не однажды вспоминался отец. Им так и не удалось поговорить по душам. Отец рассказывал о чем угодно, только не о том, что испытывал, что находил в жизни сам. Всякий раз, когда такой разговор надвигался, что-то удерживало отца, высокое лицо его с маленькими глазами под кустистыми бровями становилось отрешенным, а взгляд уходил в сторону. Он все же обещал:
– Когда-нибудь я тебе все расскажу.
Этим летом отец впервые заговорил с ним о войне. Не вообще о войне, а о том, что он на ней перенес. Они сидели на кухне. Отец выпивал и, как всегда, за бутылкой веселел.
– Ты помнишь, повар у меня был? – спросил он и продолжал: – У меня девок и женщин целый батальон был. Детей ведь не было там, ты только один. Вот всем, известное дело, что-нибудь приятное тебе сделать хочется. Женщинам вместо табака давали сладкое, вот они и несли тебе. Оглянутся, увидят, что нигде меня нет, и к тебе в землянку. А ты там один. И что, вы думаете, что, вы думаете, он придумал, шкет такой?! – вдруг забыв, что они одни, перешел на «вы» отец. – Они только к нему, а он хватает, в землянке у меня на стене все время автомат висел, так он хватает автомат – их из землянки как ветром выдувало! Непримиримый был. А они что тогда? Они все повару отдавали, а тот уж ему. От повара только и брал. Во всем ему верил.
Дима помнил это. Он не любил, когда женщины вторгались в жизнь отца, и не понимал, почему тот терпел, почему ему даже нравилось это. Однажды он заметил, как переглянулся отец с одной из женщин. Так могли переглядываться только близкие люди. Заметил и обиделся. Та женщина нравилась ему больше других, потому что была красивее всех и любила его как мама. Он еще на фронте догадывался, чей шоколад ел, допытывался у повара, не женщины ли это передавали ему, не мог простить им мамы.
Отец вдруг замолчал, пристально посмотрел на него, тут же куда-то в себя ушел, но снова вернулся и посмотрел так же пристально. Из глубины его глаз что-то будто вышло, и теперь уже не отец на сына, а какой-то внутренний человек на другого внутреннего человека смотрел еще несколько мгновений, а потом начал вспоминать.
«Все, думаю… Убили или ранили?»
«Скорее всего убили», – подумал он, теряя сознание. Убили, как прежде многих, а жить и дальше воевать оставались другие. Оставались, как еще вчера оставался он. Никогда так ясно не представлялся ему смысл человеческого существования. Наступило то, чего он надеялся избежать. Теряя сознание, он всего лишь вспомнил о том, о чем уже не однажды думал раньше. Он думал об этом и тогда, когда с группой своих солдат-связистов полез выручать пехоту, не видевшую, что немец обходил ее позиции. Это было в нем все последнее время, потому что он словно бы вдруг перестал испытывать какой-либо страх за жизнь. Чувство себя оказалось вытесненным странным чувством всех. Он и прежде иногда ощущал себя так, но как-то предварительно, как-то не по-настоящему ощущал. Когда он полез выручать пехотинцев, он вдруг почувствовал себя с ними в каждом окопе стреляющим где из винтовки, где из автомата, где из противотанкового ружья. Он стрелял и ничего не подозревал, как ничего не подозревал и небольшой плотный солдат, чей такой родной затылок под расплющенной шапкой-ушанкой вдруг увиделся ему совсем рядом, как если бы он смотрел в бинокль.
– Ты еще не понимаешь, что это такое, – сказал отец.
Сам он понял, что жив, только в госпитале. Никогда больше он не был готов так просто расстаться с жизнью. Ради кого погибать? Ради этого подлеца Хорошилова? Или другого подлеца Власова? Или третьего подлеца Победилова? Ради всех этих подлецов умирать! И всем подлецам он предпочитал обыкновенных деревенских мужиков, из которых вышел сам, которые гибли тысячами, потому что не умели удирать, потому что чувствовали себя на своем месте только там, где находились, потому что никаких других мест у них просто не было и только сами они могли защитить себя.
Таким отец еще не раскрывался перед Димой. Все походило на правду. Но правдой все было только сначала, пока отец выручал пехотинцев. Потом то, что он рассказывал, перестало быть правдой, потому что он уже ничего не вспоминал, а казался обиженным на жизнь. Конечно, за обидой тоже стояла какая-то правда, что-то отцу не нравилось, что-то он отвергал в том, как складывалась жизнь. Но тут отец будто наткнулся на что-то в себе и замолчал. Какое-то время, вспоминая, он то и дело на что-то в себе натыкался. Видно было, что там, в себе, отцу становилось хуже и неприятнее, чем здесь, за столом, с сыном и бутылкой водки. В самом деле, отец веселел на глазах.
Так они и не поговорили. Так и осталось неизвестно, о чем думал и что понимал в жизни отец. Дима много бы дал, чтобы стать его единомышленником. Конечно, что-то от отца все-таки передалось ему, но не только ничего не прояснило, но еще больше усилило неопределенность. Одно было ясно: какое-то жизненное неблагополучие и личная вина помешали отцу договаривать до конца.
Отец вспоминался не случайно. Недавно, как сообщила мама, он стал председателем колхоза в родных местах, то есть вернулся к тому, с чего начинал. Это означало, что никакого движения в жизни отца не получилось. В памяти Димы возникали знакомые деревенские картины. Сменяя друг друга, картины тут же исчезали. Оказалось, что, как и все, что он когда-либо видел и переживал, деревня жила в нем в каком-то законченно-обобщенном виде. Воспоминания ничего не добавляли к тому, что он уже знал о ней.
Чаще других в деревне Дима видел приятельницу бабушки Ильинишну. Как и у бабушки, обмотанные серыми онучами ноги ее были в лаптях. Длинная юбка обвисала многочисленными складками. Плечи и грудь в узенькой кофте казались детскими. Лицо походило на измятую подушку, а маленькие глаза смотрели внимательно и голубовато.
В избу напротив приходила кормить детей тетя Даша. Ни у кого не видел Дима такого грязно-темного лица, таких запущенных кофты и юбки на низком широком теле, таких крепких чугунно-смуглых ног с большими ступнями и крупными разъезжавшимися пальцами. Во дворе тети Даши было темно, грязно и мокро, двери в пристройках распахнуты настежь. Чем-то пахло, но не навозом, не скотиной, не куриным пометом. Запах усилился в сенях и едва не задушил Диму в избе. Добротная и просторная, с привычными взгляду столом, лавками, полатями, огромной печью, изба оказалась совершенно голой, без половиков, без единой тряпки. На досках стола находился чугунок с раздавленной вареной картошкой. Небольшой деревянной лопаткой тетя Даша зачерпывала ее и лепешками вываливала на брус полатей. Дети в коротких рубашках тут же брали ее руками и шевелили запекшимися губами. Дима едва дождался, когда тетя Даша, оставив лопатку в чугунке, сходила за железной кошкой, что брала у бабушки достать сорвавшееся в колодец ведро. Как хорошо после этого показалось ему на улице!
У тети Даши было восемь детей. В живых осталось четверо. Последний ребенок умер неделю назад, а четырехлетняя девочка месяцем раньше.
«Какой она была маленькой, когда умирала», – думал Дима.
Ему чудилось, что в избе тети Даши сейчас тоже еще кто-то умирал.
Напрасно старался он обнаружить признаки переживаний на темном, с широкой челюстью, утробном лице тети Даши.
– Бестолковая она, – сказала бабушка.
Своя тайна оказалась в избе Ильинишны. Окна были занавешены, на столе, сколоченном из досок, на лавках и полу разбросаны тряпки и одежда, в открытую дверь тянуло сквозняком из сеней со щелями света. Из угла потолка, опираясь на брус полатей, торчала жердь. К ее концу у кровати была привязана корзина-качалка. Ее качала девочка в темной тужурке и светлом коротком платье. Одна нога девочки, большая, белая, в носке, водила по полу, другая, короткая, с табуретки пола не доставала, а все выше двигалось: качалась от плеча к плечу голова с узеньким как утюг лбом, сновала вдоль груди ссохшаяся в кисти маленькая рука, а другая, нормальная, рука держалась за корзину и вместе с телом двигалась так, что корзина качалась, а жердь скрипела. Диме сначала показалось, что девочка подмигивала ему, но второй глаз ее был неподвижен, его черный блеск пугал.
– Кто это? – спросил он.
– Дурочка, – ответила Ильинишна и вышла.
Он не вытерпел и тоже вышел.
– А что ее держат? – спросил он бабушку. – Чья она?
Бабушка вырывала сорняки из грядок.
– Что ты, принимать грех на душу! Господь сам приберет, – почему-то сказала она и шепнула: – Ильинишны дочь это.
В деревне верили в бога. Беззвучно шепча вытянутыми в сморщенную трубочку губами, в любое время могла осенить себя легкими и быстрыми крестами бабушка. Покрывая крестами лоб и грудь, маленькая, широкая как лопата, рыжая тетя Настя вскидывала глаза к божнице в углу. Анюта крестилась наспех, Мотя коротко и истово.
– Вы в самом деле верите в бога? – спрашивал Дима двоюродных сестер.
– Нет, так просто, – легко отвечала Анюта, а Мотя молчала.
– А какой он, бог? – спрашивал Дима бабушку, уверенно зная, что никакого бога не существовало.
Бабушка отмахивалась и принималась шептать.
– А черти есть? – спрашивал он.
– Не говори-ко, не говори, чего не следует! – возмущалась бабушка, но существование чертей не отрицала.
Интерес Димы к бабушкиному богу был постоянен. Что-то такое действительно появлялось, когда холодало и хмурилось небо, а облака, собираясь в тучу, угрожающе надвигались, когда в деревне становилось гулко, как в пустой бочке, и кто-то будто раскатывал над ними на колеснице, когда все вжималось в землю и замирало, как трава, гнулись черемухи за избой и громко скрипели раскачавшиеся тополя. При первом же грохоте бабушка коротко и решительно молилась, но занятий не прекращала. Что-то такое было и в смерти детей тети Даши, и в существовании безумной дочери Ильинишны, и в снах бабушки.
– Ну, чисто все так и было, – рассказывала она Ильинишне и ладонью вниз водила рукой перед собой. Коричневое, в длинных морщинах высокое лицо бабушки вытягивалось, большие глаза закрывались, и тонкие веки подрагивали на них. – Поле, а по полю цветы одинаковые, белые… А трава-то, трава, правду, моя матушка, мягкая такая, идешь и не чувствуешь! Иду, а навстречу Никитишна Микшонская прямо так и идет. И уж вся темная-темная, ну, чисто покойница! Спрашиваю то ее, да куда же ты собралась, Никитишна?
Здесь бабушка строго посмотрела на Ильинишну, и они заговорили о Никитишне, умершей через неделю после этого сна бабушки.
Представление о боге связывалось с мыслью о смерти. Тень иного существования, казалось Диме, стояла над миром, жизнь представлялась неполной, будто одна смерть придавала ей смысл. Потусторонний мир видениями проступал сквозь мир здешний. Видений возникало так много, что они накладывались одно на другое. Избы, жердевые изгороди, люди иногда тоже становились как бы видениями, лишь принимали вид изб, изгородей и людей.
Иногда бабушке виделись ее муж и дети, погибшие на войне или просто умершие. Обмелевшие, подернутые цветением детские лица с желтыми, палевыми, синими, фиолетовыми восковыми провалами и заостренностями стояли перед глазами. В лицах детей проступала бестелесность ангелов. А муж был другим. Длинный, с резиновой кожи холодными членами, неподвижными как дрова, с отодвинутой куда-то вбок головой, покрытой похожими на лежалое сено волосами, с застывшим, отодвинутым куда-то пустым взглядом, он был как бы изъят из себя без остатка. В муже ничего ангельского не проступало.
Черти тоже являлись бабушке. У них не было определенного места, но они появлялись тотчас, если осторожность покидала ее. Сколько раз лишь в самый последний момент она замечала, что они уже окружили ее, уже вертелись под ногами, готовые подхватить ее. Одно то, что она замечала их, озадачивало и приводило поганых в смятение. Они могли принести зло, только когда их не видели. Они как огня боялись молитв и не выдерживали взглядов молившихся людей. Одного взгляда хватало, чтобы они поняли, что им не удастся обмануть ее. Она уже давно не боялась чертей, какими бы ни были у них рожи и рога, козлиные тела и хвосты. За многие годы она изучила все их повадки. Иногда она еще не успевала подумать о боге, а они уже явно приходили в беспокойство, настороженно поглядывали на нее издали. Последним исчезал и дольше всех смотрел на нее самый старый и самый недоверчивый.
Однажды бабушка решила представиться мертвой. Ей уже давно хотелось испытать празднество перехода в несказанный небесный мир, которого с земли не было видно, но откуда можно увидеть все, что происходило на земле. Как хорошо и необычно там было! Там так было, как никогда не могло быть на земле. Однажды это приснилось ей. Но только ли приснилось? Там оказалось не так, как она ожидала: она там не летала, а все время находилась на одном месте, над деревней. Сначала она поднималась все выше и выше, куда-то в самое высокое место, за которым никакой вышины уже не было, но деревня от этого не удалялась. Наоборот, будто бабушка залезла на крышу: она видела каждую избу, каждого человека, каждую травинку в огороде и даже половицу в избе. Но вот она только чуть повернула голову и увидела свою матушку, отца, мужа, Никитишну. Они узнали ее, они все оказались вместе, как никогда не были на земле. И никому ничего не хотелось друг от друга, только все время хотелось смотреть вниз со своего места над деревней. Вот она еще раз взглянула туда, где находились мать, отец, муж, Никитишна, но вместо них увидела Анюту и Диму. Да как они тут очутились? Что такое стряслось с ними так быстро после того, как она умерла? Где же остальные дети? Бабушка встревожилась и проснулась. Дима и Анюта спали с нею на полатях. Будто не просыпалась, бабушка снова оказалась на своем месте над деревней. Она посмотрела вниз и увидела сына Василия и сноху Настю. Закрывшись в клети, они сидели на сундуке, макали хлеб в мед в миске и ели. Где это они взяли мед? Не в первый раз они что-то доставали, запирались и ели.
Бабушка в самом деле сделалась как мертвая, упала, лежала бездыханно, пока весь народ деревенский не собрался вокруг нее и не стал щупать, но ничего не понял.
Она лежала и ждала. Она слышала, какой твердой, большой и молчаливой была земля. Земля вбирала ее в себя, потом вдруг понеслась в высь, слилась с сгустившейся бесконечностью неба. Бабушка всеми силами старалась почувствовать свое тело по-настоящему мертвым и выйти из него душой, что неслась в высь. Она боялась пошевелиться, чтобы не нарушить этого странного состояния, слышала, как что-то над нею посвистывало, чувствовала, как огромно пространство над нею, как огромно оно и под нею. И не выдержала. По посвистывавшему в траве ветру, по тому, что ей стало неловко, она поняла, что живая, что умереть ей не удалось. Теперь она ждала людей. Что-то они скажут, хорошо ли скажут? Подошел один, потом подошел другой, раздались крики. Голоса доносились как сквозь шум леса. Кто-то наконец взял ее руку, кто-то тронул ее за голову, запричитала Ильинишна, послышался начинавший сипеть голос сына Василия. Он, как палкой, толкнул ее длинной рукой, еще раз толкнул.
Здесь бабушка открыла глаза, поднялась, со скупым выражением лица сказала:
– Уж так плохо-то мне было.
И прижала руку к сердцу. Оно, как всегда, билось безостановочно и ровно.
…Дима вошел в избу. Никого. Он пошел было назад, но, увидев икону в углу на божнице, сразу понял, что сейчас сделает. И понял, что давно этого хотел. В избе было солнечно и сухо, а икона мутно темнела. Он различил изображение человека в спадающих одеждах. Очень гладкое, несмотря на мелкие трещинки, продолговатое лицо казалось живым и даже нежным, но не было ни живым, ни нежным. Глаза в необычно крупных веках смотрели на него и будто мимо. Взгляд невидящий и спокойный. Нет, скорее бесстрастный и сквозной. Он будто видел его и не замечал. Как легко было думать, что бога нет, и как нелегко оказалось заявить ему об этом с глазу на глаз. А что, если бог все-таки есть? Что тогда?
– Тебя нет. И ничего ты со мной не сделаешь, – сказал Дима.
Он уже не мог, нельзя было ему отступать.
– Если ты есть, сделай что-нибудь со мной, – говорил он. – Не сделаешь! Я вот сейчас разозлю тебя. Ты дурак! И почему только люди верят в тебя?
Бог с иконы по-прежнему смотрел бесстрастным сквозным взглядом.
Довольный собой, Дима пошел к бабушке. Больше не надо было думать о каком-то загробном мире.
Воздух во дворе искрился в солнечных лучах. Бабушка пересчитывала яйца. Она складывала их в корзину на лавке, потом отнесла в погреб. Там оказалось много крынок с холодным молоком и кусков льда. Бабушка подала Диме ложку густых сливок, снятых в одной из крынок.
– Не говори им, – предупредила она. – Настя вредная.
Вернулись в избу. В большой деревянной миске бабушка сбивала сероватую липкую массу, отдававшую запахом сыворотки.
– Бабушка, а зачем столько яиц в погребе? – спросил он.
Ему показалось, что их не собирались есть.
– Это налог, – сказала бабушка.
Она поставила миску на печку у трубы и накрыла деревянным кружком.
– А масло тоже?
– И масло.
– А что еще? А сколько? А за что?
Несправедливо было кому-то отдавать масло, яйца, мясо, многое другое только за то, что живешь в деревне.
«Самим ничего не остается, – думал он. – Почему нельзя сделать так, чтобы не нужно было отдавать?»
– А если кур нет, можно не сдавать яйца? – спрашивал он. – Лучше тогда кур не держать. А если нет коровы?
– Все равно, – сказала бабушка.
Все равно приходилось сдавать и масло, и мясо, и яйца.
– Но почему? – допытывался он.
Бабушка не могла ответить. Или не хотела.
– Тогда лучше уехать, – предложил он.
Но уехать тоже было некуда.
– А где жить? – спросила бабушка.
Самое интересное время наступало вечером. Деревня оживала. Разнообразные звуки наполняли ее как бы огороженное высокими стенами замкнутое пространство. Люди, лошади, скотина, телеги, сеялки, бороны – все возвращалось. Казалось, что вся жизнь собиралась в одно место.
Это было еще до его поступления в училище, а последний раз он заезжал с отцом в деревню два года назад.
Бабушка не изменилась. Худая и легкая, совершенно лишенная выпуклостей, она была, казалось Диме все в той же тесной кофте с узкими рукавчиками, в длинной опадающей бесчисленными широкими складками юбке, в лаптях и онучах. Увидев Диму в суворовской форме, она встретила его как взрослого и важного, говорила:
– Вы разденьтесь. Вот сюда повесьте. Проголодались, наверное?
Так она обращалась к нему несколько раз, пока он, не понимая ее и удивляясь ей, не сказал:
– Ты что, ты почему называешь меня на вы, я же твой внук, разве ты забыла?
– Ты что, золотой, не забыла я, – ответила бабушка, хотела было погладить его по плечу, но только едва коснулась. – Больше не буду, Димушка.
Дима приглядывался к деревне. Все в ней казалось неподвижным. Прибавилось тишины. Жизни стало как будто меньше. Только солнце по-прежнему старалось оживить безгласные пространства. От изб, от жердевых изгородей, от каждой травинки возникали тени. Такая же тень ходила за Димой. Чудилось, будто он сам становился как трава, как изгороди, как избы и чем-то еще, призрачным и переходящим в тень. Он узнал, что у тети Даши еще кто-то умер, а она уже снова ходила брюхатая, выгоняла по утрам из ворот такую же брюхатую корову. Кто мог льститься на эту приземистую женщину с утробно бессмысленным темным лицом? Понимала ли она, что жила? Без вести пропала последней весной смешливая и бойкая глухонемая Маня. Еще раньше преставилась безумная дочь Ильинишны. Кто-то перешел жить в другую избу. Окна трех изб оказались заколоченными досками. Кто-то перебрался в большую соседнюю деревню, а кто-то еще дальше, в село. Почему они не жили на месте? Ведь так хорошо было, когда они собирались в поле всей деревней.
Произошли перемены и в семье тети Насти. Уехала поступать в техникум Анюта. Призвали в армию двоюродного брата Никиту. Перед призывом он женился. Удивило Диму, что Никита уже мог позволить себе э т о. Видел Дима и его жену, небольшую плотную девочку с русыми волосами и уверенными бесстыжими глазами. Бесстыжей называла ее тетя Настя, а Диме она понравилась девической крепостью и зреющей чистотой. Но больше всего удивило то, что она тоже могла позволить себе э т о, что э т о проступало и в девичьей ладности ее тела, и в поступи крепких, чуть напухлых девичьих ног, и особенно в голубоватых глазах, смотревших по-летнему светло, независимо и твердо. Запомнилось ее простое будто из занавески платье. Говорили, что она уже с кем-то гуляла, но понять, в самом ли деле гуляла, было трудно, так, ничего не отрицая и явно не принимая упреков, держалась она. Выслушав свекровь, без оглядки направилась она в свою сторону по траве босая. Такой независимости не ожидал Дима встретить в тихой деревне.
Но жизнь здесь все-таки продолжалась. Никуда не уехал дядя Федор. Остальные тоже жили и все дни работали. Жаловались на трудодень. Жаловались странно, будто винить было некого. Не могли уговорить кого-то пасти поредевшее деревенское стадо, пастуху оказалось мало того, что они могли предложить ему.
Нет, Дима не забыл о деревне. Просто, пока ему было хорошо, никакого неблагополучия в жизни как бы не существовало. Этого и вообще почему-то не замечали. Как должное принимались совершавшиеся наверху события. Никого не тревожило, что люди в деревне жили плохо. Когда он рассказывал об этом ребятам, те смотрели на него так, будто не узнавали его.
– Ты где такую деревню видел! – опроверг его Уткин.
– Сказал тоже! – возразил Ястребков. – Это еще в прошлом веке было.
– Выдумал, – сказал Высотин. – Все книжки читает.
– Разогни, – привязался Зудов, показывая согнутый указательный палец.
– Ты это где-то вычитал, – уверял Гривнев.
Но некоторые все-таки заподозрили, что не все, что он рассказывал, являлось выдумкой.
– Это только у них там, в Вятке, – съерничал Светланов.
– Ты в какой-то дыре был, – сказал сибиряк Кедров.
– Лапотники, – по-своему поддержал Диму Руднев, что-то знавший о крестьянах, которые по собственному недоразумению предпочитали ходить в лаптях.
Часто сомневавшийся в заявлениях Димы и испытывавший за него неудобство Попенченко на этот раз, похоже, поверил ему.
Даже Зудов, почувствовавший перемену в настроении ребят, сам разогнул свой палец.
Однако через минуту ребята, наверное, уже забыли о какой-то там деревне.
Крестьяне вообще считались хуже рабочих. Конечно, последние отличались сплоченностью. Но почему одни должны быть хуже, а другие лучше? Чем хуже были его бабушка, тетя Настя, двоюродные сестры и брат? И тем не менее все, что делалось в стране, считалось правильным. Получалось, что и они, суворовцы, тоже правильные, если не видели, не слышали ничего плохого вокруг и в самих себе. Они оказывались такими правильными, что становилось все равно, быть ли Брежневым или Млотковским, Рудневым или Левским, Попенченко или Тихвиным.
Так вот все выходило. Последнее время Дима не однажды заставал себя за тем, что сочувствовал ребятам. Не всем. Тем, кому, казалось ему, приходилось труднее. Больше других вызывали сочувствие суворовцы старшей роты Шота и Кузькин. Оба любили, когда на них полагались. Оба терпели резкие, иногда несправедливые замечания тренера, и оба же гордились, если тот, а это означало признание их боксерских достоинств, приглашал их работать на лапах и доводил до изнеможения. Как ни мало друзья преуспевали, звание боксера поднимало их в собственных глазах, а самым горячим проявлением взаимной привязанности являлись для них шутливые поединки, которые они, похлопывая друг друга по щекам и плечам, могли затеять в казарме или на аллее у всех на виду. Особенно жалко было прямодушного, преданного всеобщему братству, начальникам и боксу Кузькина. Мускулисто-рельефный, приземистый, но будто пустотелый Кузькин так верил тренеру, что, если бы тот решил выставить его против чемпиона мира в тяжелом весе, Кузькин, не задумываясь, вышел бы на ринг. Несколько раз он проигрывал страшно. Роман выбрасывал на канаты полотенце и решительно махал руками судье, требуя прекратить избиение. Но и ошеломленный, не понимающий, откуда только что летели потрясавшие его удары и почему разверзался под ногами пол, Кузькин, едва ощутив похлопывания тренера, готов был снова двигаться навстречу противнику. Однажды, не поняв тренера, он с поднятыми к подбородку перчатками двинулся в дальний пустой угол и, пока его не вернул рефери, наносил там удары по невидимому сопернику.
Сейчас Дима готов был бросить бокс, хотя это означало бы, что он спасовал. Только так понял бы его Годовалов. Только так понял бы его и Руднев. Другие тоже поняли бы так. Без бокса, как и без всего, без чего вообще возможна жизнь, можно было обойтись. В конце концов, он мог заняться любимыми им математикой и физикой. Или взяться за что-нибудь еще, например, за музыку или рисование. Существовало множество и других интересных вещей. Но разве это что-нибудь меняло?
Он все-таки пошел на тренировку. Роман не подал виду, что помнил о происшествии, а Шота, еще издали улыбаясь Диме, подошел к нему и тихо ударил его под дых.
– Правильно сделал, – сказал он. – Плохой человек.
Одобрение Шоты удивило. Никакого высокомерия за Винокуровым Дима не замечал. Что-то такое было, но никогда не принималось им всерьез.
– Роман доволен тобой, – сообщил Годовалов после тренировки.
Этого оказалось достаточно, чтобы все вернулось на прежние места. Дима даже пожалел откровенно сникшего и будто в чем-то провинившегося Винокурова. С обновившимся интересом наблюдал Дима за всем, что происходило в училище. Оп будто примерял на себя свою же прошлогоднюю одежду. Оказывается, что ее еще вполне можно было носить.
Нет, беспокойство не исчезло. Оно лишь как бы обезболилось. В самом деле, чем являлся он кроме того, что хорошо учился, преуспевал в спорте, дежурил по взводу и роте, неплохо делал все, что следовало делать в училище? Ведь чем бы он ни занимался, какая-то главная часть его существа оставалась в бездействии. Это-то и беспокоило. Будь он к чему-нибудь особенно способным, этим, наверное, он и жил бы. Но он ничем особенно не выделялся. Не один его сверстник превосходил его в каждой его способности. Но даже выделяйся он чем-либо исключительно, это еще не означало, что так и следовало жить. Теперь он понимал, что не связывал свою жизнь ни с одним из своих занятий и увлечений, а ждал от нее чего-то другого. Это только казалось, что он, ничем особенно не выделяясь, утрачивал многое из того, чем жил, а то, что оставалось, жизнью вроде бы не являлось. Самое неприятное как раз в том и заключалось, что у него как бы отнимали возможность жить просто и определенно, а оставляли самое трудное.








