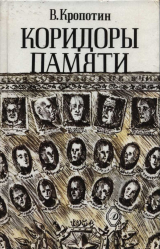
Текст книги "Коридоры памяти"
Автор книги: Владимир Кропотин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Часть третья
ПЕРВАЯ ВЕРШИНА


Глава первая
В низком зале с окнами в решетках едко, как дымом, пахло потом. На гимнастических брусьях висели боксерские перчатки.
– Молодцы! Теперь остались самые надежные, – приветствовал их недлинную шеренгу тренер.
В прошлом году они прибежали сюда почти всей ротой.
Был Брежнев. Был Высотин. Обведенные влажной и терпкой прохладой, стояли вдоль всех стен. Пробегая мимо перчаток, старались непременно задеть их и виновато оглядывались.
– Еще не все, еще уйдут, – сказал тренер, когда их стало вдвое меньше.
– Надеть перчатки! – разрешил он.
Перчатки были старые и внутри сопрели.
– Не драться! – осаживал их тренер, если получивший неприятный удар воспитанник старался отомстить сопернику.
Одна шеренга нападала, другая защищалась.
– Легче, легче, – говорил тренер.
Перестали ходить Хватов и Ястребков, надоело сшибаться, таранить и тузить друг друга.
– Может быть, двое-трое еще уйдут, – сказал тренер.
Все привлекало в нем: и высокий рост, и фигура не очень сильного, но подтянутого человека, и особенно стремительные движения рук, четко наносивших крюки и аперкоты, кроссы и прямые удары в подбородок, в солнечное сплетение, в печень воображаемого противника. Тренер сам иногда заглядывался на себя.
Сейчас терпкая прохлада зала была приятна им. Но еще больше обрадовали и взволновали их слова тренера. Оказывалось, что с окончанием училища Войковым только из них теперь могли выйти настоящие боксеры.
Дима был уверен, что победит в первом же поединке. Увидев соперника, маленького корейца с мерцающим блеском в темных глазах, он еще больше уверился в этом. Он едва ощущал прикосновения перчаток Кима, а сам попадал в него так, что тот пятился и чуть не садился на ноги.
Но Дима проиграл. В раздевалке он снова увидел Кима. Оживленный и радостный победитель походил на другого Кима, с которым Дима дружил на Сахалине. Те же вкрадчивые взгляды, та же привычка к улыбке, та же доверчивость, готовая смениться неприязнью и долгой обидой.
Было стыдно возвращаться в училище.
Следующий соперник оказался сильнее, но Дима выиграл.
А его третий соперник выглядел как на картинке. В новенькой майке и шелковых с золотистыми полосками черных трусах, ладный и собранный, с самым серьезным видом поглядывая на Диму, он терся тапочками в ящике с магнезией, вертел задом и подпрыгивал. Дима начал первый и видел, что Третий этого не ожидал. Но и остановленный точным ударом, тот всякий раз твердо шел вперед, а глаза его как бы свертывались в ожесточении. Так продолжалось почти весь раунд, как вдруг Диму оглушило, он перестал видеть, в темноте что-то продолжало бить его по голове. Потом наступила тишина, такая же глухая, как удары до нее. Он запутался в канатах.
– В общем-то, молодец, – сказал тренер в сторону.
– У тебя хорошие прямые удары, – как знаток похвалил его Третий в раздевалке, и Диме показалось, что поражением был оскорблен не столько он, сколько парадная суворовская форма, что он надевал.
Он не остался смотреть поединки товарищей. Что-то, на чем все в нем держалось, было будто вынуто из него. Только в самом раннем детстве чувствовал он себя таким маленьким и уязвимым.
Он вышел на улицу. Воздух вдруг наполнился пылью, стало глухо и тесно, потом всюду зашумело, люди и ветви деревьев на улице заметались и все бросились в одну сторону. Короткий ливень промочил его, по дороге потекли грязные потоки, но деревья как-то все разом помолодели, воздух очистился, и улица оранжево осветилась.
А что, собственно, произошло? Ну, проиграл, даже больше, чем просто проиграл. Но ребята… Он уже чувствовал, как проходил сквозь их взгляды. В любом случае он едва ли мог теперь держаться с прежней уверенностью.
Четвертый противник сопротивления не оказал. Пятого Дима едва угадывал в желтом тумане, но знал, что нужно поднимать руки и посылать их вперед. И победил. Шестой оказался слабым. Так Дима стал разрядником и чемпионом среди подростков. Как и досрочно одерживавшего победу за победой Третьего, его знали другие тренеры. Только в шестнадцать лет постоянно сгонявший вес и превратившийся в сгусток мышц Третий встретил неожиданный отпор в вертком, как мангуст, Дорогине.
– Покорин думает, – сказала преподавательница.
Жар опалил виски и лоб Димы. Впервые его похвалили за русский письменный. Ничего труднее не существовало для него. Мысли были, но они, выстраиваясь в странные образования, не признававшие ни знаков препинания, ни деепричастных оборотов, ни всяких там поэтому и потому, только в таком странном виде и были понятны.
Дима сразу понял, за что его похвалили. Одну только мысль, связавшуюся в небольшую фразу, он вставил в сочинение и не был уверен, что сделал правильно. Оказалось же, что писать следовало то, что думалось. Только так, оказывалось, можно успевать в литературе.
Но сколько раз приходившие Диме мысли неожиданно приобретали значение тайны, и о них лучше было молчать. Выскажи он их – и все посмотрели бы на него так, будто он совершил оплошность и нарушил дисциплину. Раза три так оно и выходило. Нет, нельзя было поддаваться находившим на него чувствам и мыслям. Они обособляли его, заводили в незнакомую местность. Он оказывался где-то на самом краю, за самим этим краем и чувствовал, что еще немного – и он заблудится.
Он вошел робко. Тишина и торжественность стояли такие, словно все в библиотеке было не для него. За столиками сидело несколько суворовцев старших рот. Он подошел к женщине за перегородкой.
– Хочешь что-нибудь почитать? – спросила она.
Он кивнул.
– А что ты хочешь почитать?
Он не знал. Но чтобы было интересно. Чтобы узнать, как жили люди и что происходило с ними. О войне? Можно и о войне. О партизанах? Можно и о партизанах. Сказки? Нет, сказок он не хотел. О полководцах? Нет, в полководцах он не нуждался. Лучше что-нибудь о его сверстниках, наподобие «Дорогих моих мальчишек» и «Тимура и его команды». О Павлике Морозове? Нет, этот пионер был неинтересен ему. О ком-нибудь другом. Вообще не о героях. Что-нибудь о жизни. О том, на чем все держится.
Всякий раз было трудно выбрать книгу. Любая книга могла оказаться скучной или неожиданно интересной. Книг на стеллажах за спиной женщины было много. Взять какую-нибудь из потрепанных? Женщина заждалась его.
– Дайте мне «Войну и мир», – попросил он.
– Тебе еще рано это читать, – сказала женщина.
– Почему?
– Это очень сложная книга.
– Ну и что?
– Ты ее совсем не поймешь.
– Мне хочется.
Почему он не поймет эту книгу? Что в ней такого? Разве может быть что-то, чего нельзя понять?
Он все-таки взял эту книгу. Книга была толстая и тяжелая как буханка хлеба. Она вызывала уважение. Никогда еще таких книг он не держал. Что-то он прочтет в ней?
Он почтительно раскрыл книгу. Стал читать. Первое, что он почувствовал, было почти физическое ощущение множества людей. Их было даже слишком много. От этого становилось тесно. Но тесно становилось больше от того, что все эти люди настойчиво требовали внимания к себе. Каждый непременно хотел показать себя, и все были странно заняты собой. Самым странным оказался Пьер. Он тоже требовал внимания и занимал много места. Находиться рядом с ним не хотелось. Тем более не хотелось, что он вел себя глупо и всем мешал. Но глупым он не был. Потом вдруг появилась девочка. Дима сразу забыл, что она была черноглазая, с большим ртом, некрасивая, худая, так она понравилась ему. Вместе с Борисом Друбецким он целовался с нею, вместе с нею следил за Николаем Ростовым и Соней. Переживания молодых людей захватили его. Но мешали взрослые. Он все явственнее ощущал, как взрослая жизнь разрушала его надежды и ожидания. «Гад!» – подумал он о Борисе, отказавшемся от Наташи. Особенно невзлюбил он мать Бориса. Потом и Наташа стала не лучше. Она тоже забыла Бориса. Чем дальше он читал, тем больше не любил то, что происходило в книге. Не понравилась зависимость Кутузова от императора Александра. Не понравилось, что русские терпели поражение. Не понравилось, что батарея Тушина была забыта. И что так много оказалось плохих людей.
Нет, он не мог читать дальше, хотя и понимал, что книга, которую он на этот раз взял, была настоящая. В ней все происходило как в жизни. Не только в той жизни, что была более века назад, но и в этой, что была сейчас. И люди тогда были такими же, что и сейчас. Он где-то уже видел их. Не самих этих людей, а то, как они улыбались, завидовали, что-то скрывали, хитрили, были самоуверенны и высокомерны, зависимы и унижаемы. В книге было как-то чрезмерно много жизни, чтобы ее вынести. Вся книга состояла из жизни, будто существовало особое вещество жизни, которое все оказалось собранным в одно место. Нет, такой жизни он не хотел. И не хотел думать, хотя кто-то в нем все-таки думал об этом, что ему тоже придется пройти через что-то подобное.
– Ну как, прочитал? – спросила библиотекарь. – Все было понятно?
– Прочитал. Там все понятно.
– Что-нибудь возьмешь еще?
– Нет.
Когда он вышел на центральную аллею, сухой теплый воздух, шевеление листвы желтеющих кленов обрадовали его. Солнце клонилось, но небо оставалось высоким. На стадионе бегали, кричали, сталкивались, недовольно смотрели друг на друга, кидались за футбольным мячом человек по двадцать с каждой стороны.
Дима вдруг почувствовал облегчение. Лучше было жить просто. Лучше было играть в футбол.
Глава вторая
– Темную ему! Темную!
Пора было, наконец, проучить Млотковского. Нельзя сносить его новые выходки: входя в столовую, тот спешил к столу, опускал черновато-грязный палец в стакан с компотом, где находилось больше косточек, и, шмыгая часто простужавшимся оплывавшим носом в дырочках пор, объявлял:
– Мой компот!
Последний раз палец побывал сразу в трех стаканах. Во втором и третьем косточек показалось Млотковскому больше.
На виновника накинули одеяло, повалили на кровать и, следя, чтобы оно не соскакивало, торопливо и неловко били сверху, тыкали в бока. Ястребков ходил вокруг сбившейся кучи, косился на сворачивавшуюся в клубок дрыгавшуюся фигуру и вдруг со всей силы ударил ногой в показавшийся из-под одеяла зад. Затем все разошлись.
Это не образумило Млотковского. Темную повторили.
Млотковскому, которого называли не иначе как Костей, вообще доставалось больше других. На какое-то время он утихомиривался, но затем снова принимался за свое. Длинные назидательные письма матери, рослой, энергичной, похожей на цыганку, украинки, и приписки отца, на которые, как бы отвечая на каждое слово, Костя заполнял почти такие же длинные ответные послания, по-видимому, никак не влияли на любимого сына. Они и не могли влиять. В них никогда не упоминалось о его училищных товарищах, все страницы занимали домашние дела и сам Костенька, или Котик. Да и как они могли повлиять, если в училище тот вел себя почти так же, как дома, и хотел того же, чего, знал он, хотели для него родители, от которых, как они себя от него, он не отделял себя. Так, сколько он помнил, было всегда. Все дома делалось для родителей, для его старшей сестры, для него, Кости, словом, для всей семьи как для кого-то одного. Как и дома, в училище Костя хотел всего, что было у всех других, вместе взятых. Когда отцу, начальствовавшему над военным торгом, привозили домой для отбора всевозможные продукты и вещи, Костя первый все рассматривал, щупал, пробовал и всегда жалел, что не все, что привозили, оставалось дома. Одно время он любил играть в магазин. На самом же деле это больше походило на игру в склад, потому что ничего продавать Костя не собирался. Как же он любил все, что бывало в их квартире-складе! Но еще больше любил то, чего еще не было, и когда оно появлялось, он не мог отвести зачарованных глаз. Каких только вещей он не видел! Появлялись вещи, предназначенные только для него. Он помнил волейбольный мяч, деревянный и оловянный наганы, двухколесный велосипед. Мяч взбудоражил всех. Костя выходил во двор и гонялся за пинавшими круглое чудо ребятами, пока не схватывал его, и больше уже никому не давал. Не то чтобы ему было жалко мяч, но такая необыкновенная вещь могла лопнуть от ударов, превратиться в обыкновенную или вообще пропасть. С наганом он тоже не играл, ни в кого не стрелял, только показывал и никому не давал в руки. Велосипед и вовсе занимал его какой-то день или час, езда не увлекала, давать кататься другим означало на какое-то время лишиться своих законных прав, вообразить же себя на месте других он просто не умел. Нет, он не был привязан к вещам, часто забывал о них, но без них, как без вчерашнего дня, обойтись не мог. Пожалуй, не меньше, чем его личные вещи, занимало его все, что принадлежало семье. Новый костюм отца, пальто матери, нарядное платье сестры как бы дополняли его собственный гардероб. Словом, он жил от вещи к вещи, от одного неожиданного впечатления до другого, которые вызывали вещи, независимо от того, принадлежали они лично ему или семье. Учился сначала неважно, едва вылазил из двоек, может быть, потому, что ничего из того, чему его учили, нельзя было присвоить. В самом деле, как присвоить слово или задачку, где их держать, что с ними делать? Вот с таким багажом он и поступил в училище. В училище он сначала растерялся и просидел в первой роте два года. Трудно оказалось присвоить не только знания. Как присвоить то, что раздается поровну? Как занять самое лучшее и самое новое место, если не знаешь, какое оно? Он узнал это, лишь оставшись на второй год. Теперь он мог выбирать. В тот первый день среди новых товарищей он облюбовал себе сразу три кровати. Одна была замечательна тем, что на этом месте раньше спал самый заметный во взводе воспитанник. Другая привлекла тем, что кто-то собирался занять ее. Третья вдруг оказалась занята нахальным новичком Ястребковым. Не обошлось без драки…
Драки начались давно, еще в первой роте, когда их свели вместе. Злее других дрался Хватов. Дрался с теми, кто был слабее. Дрался и с теми, кто был сильнее. Уже через несколько дней, не поладив с Ястребковым, он, как всегда потом, первый стал бить его прямо в лицо. Из носа Ястребкова пошла кровь. Сначала тот не понял, откуда она появилась, но, поняв, уже как бы не за себя, а за свою кровь еще больше обиделся. Их пришлось разнимать.
Нельзя было понять, почему ожесточался Хватов. Дорогин засмеялся было и, как обычно подначивая приятелей, отскочил, готов был бежать от Хватова, но тому, оказалось, было не до шуток, и Дорогин не побежал. Старшина Иваненко незаметно подошел к ним и стал раздавать щелчки. Бил с хрустом, будто давил жуков. Первый отскочил верткий бдительный Дорогин. Вывернулся и, озлобленно оглядываясь, пошел прочь Хватов.
Потом он дрался с Попенченко. Они решали задачки на классной доске и мешали друг другу. И снова первые полетели кулаки Хватова. Подняв плечо и напрягшись подбородком, Попенченко стал отвечать, как учил его тренер, и Хватов перестал попадать в него и отлетал, пока так и не остался стоять с ненавидящим взглядом. Ожидая нового нападения, Попенченко смотрел на драчуна напряженно и недоверчиво.
Не миновали стычки и Диму. Он не собирался драться, не хотел этого, видел он, и нечаянно толкнувший его товарищ, но Дима уже принял стойку, и оба закружились один вокруг другого. У Димы получалось лучше, но драться им не дали. Дима сам опустил руки, потому что видевшие все Высотин и Попенченко остановились и Высотин сказал:
– Научили, теперь показывает.
Говорилось это о нем, о Диме, хотя противник его был крупнее и тоже ходил заниматься боксом. Будто обо всем догадывался и стыдился, смотрел на Диму и Попенченко.
Так Дима и не подрался. Всякий раз, когда он только собирался сделать это, на него смотрели осуждающе. А другие дрались. Другим было можно. Тот же Попенченко никому не уступал. Он оказался еще сильнее, чем представлялся им, когда приехал в училище в своей аккуратной пионерской одежде.
И все же без настоящей драки у Димы не обошлось. Уже через год отчисленный из училища переросток с узкой костистой головой, сын героя-пограничника и бывший беспризорник из детской трудовой колонии, бил всегда ни с того ни с сего. Однажды он стал избивать Витуса. Избивал с видимым удовольствием. Витус тоже пытался достать его, но получал удар ногой в живот и сгибался. Получал расчетливый удар рукой в лицо и поворачивался спиной…
Дима видел, как это началось. Видел, как, поняв все, ушел из казармы в коридор Брежнев. Видел, как прошел к выходу, будто ничего не заметил, Хватов. Увидел Попенченко, очень внимательного, вдруг забеспокоившегося, виновато поглядывавшего на занемогших ребят. И когда это уже нельзя было вынести – избитый Витус сидел на полу, а Попенченко дрался, – полез и Дима. В ушах зазвенело, на лице что-то порвалось. Он тоже попал во что-то твердое и кожистое, отлетел. Кто-то, оказалось, что Ястребков, помогал им. Повалили, возились на полу, попадали не туда, куда следовало.
– Прекратить! – услышали резкий голос.
Поднялись оглушенные, с вздувшимися лицами. Увидели Чуткого и Брежнева. Следили и за тем, кто поднимался последний. Тот поднялся, не обращая внимания на офицера, метнулся к Попенченко, но вдруг скорчился. Это оправившийся Витус ударил его ногой в пах.
Драки почти всегда возникали внезапно, как короткие замыкания. Обычно дрались один с другим не больше раза, все сразу становилось на свои места. Лишь Тихвин, Высотин и Гривнев не дрались ни разу. При малейшей угрозе заполошно кричал Высотин. Вращая выпуклыми глазами и упираясь руками в груди, решительно расталкивал драчунов Гривнев.
Нет, никто из них не искал противоборства. Так они пытались сохранить то, без чего им невозможно было представить себя. С каждым днем они бессознательно все больше признавали друг друга. Признавали такими, какими были, какими хотели стать, и наказывали тех, кто пренебрегал этим.
Нет, они не могли позволить, чтобы с ними обращались как с новичками.
– Чут-кий! Чу-ма! – кричали всей ротой.
В первом взводе сначала тоже закричали, но потом один общий нерв дрогнул в лицах. Насторожился и не узнавал своих ребят Брежнев. Никто во взводе не ожидал такого оборота. Оказалось, что они выступали против своего командира.
Но остальные взводы кричали.
– Чут-кий! Чу-ма! – выходило дружно, одной глоткой.
Чуткий стремительно вышел из офицерского зальчика столовой.
– Встать!
– Сесть!
Вставали, садились.
Чуткого недолюбливали. Его пронзительный взгляд, его резкий неуважительный голос, его острое как нож лицо ничего доброго не предвещали.
Чуткий ушел. Снова заорали. Чуткий вернулся. Снова вставали, садились. Дождались, когда он вышел, и заорали еще дружнее.
Из столовой вышли на плац. Чуткий не повел их в казарму, а весь мертвый час заставил промаршировать. Маршировали повзводно.
– Ха! – одной глоткой громко сказал четвертый взвод.
– Ха! – одной глоткой повторил третий взвод.
– Ха! – дружно выдохнул второй взвод.
В водяной пыли фонтана в центре плаца повисла короткая радуга. Слышался шорох. Это вода падала в круглую миску фонтана ледяными крошками.
– Напра-во!
Не понравилось Чуткому, как они повернулись.
– Нале-во!
Звуки от одновременного удара ног по асфальту разносились по плацу, отдавались в стенах вокруг. Теперь воспитанники действовали как автоматы. Руки отекали. От солнца, как от плиты, несло жаром. Но возникало чувство товарищества. Шли будто одним общим телом.
В следующий раз кричали:
– Пу-пок! Пу-пок!
Кричал и первый взвод. Так же дружно, как остальные. И переглядывались, довольные своей отвагой. Кричал и Брежнев. Сначала тише других. Потом как все. Замолчал, когда появился Пупок.
Снова ходили по плацу, неожиданно выдыхали:
– Ха!
То же произошло и при дежурстве Голубева.
Скандировали:
– Крас-ный! Крас-ный!
Кричал и поглядывал на дверь зальчика Высотин. Кричал, ни на ком не задерживая взгляда, Хватов. Довольный возможностью неизвестно кому и за что досадить, кричал Ястребков. Переглядываясь с каждым и как бы каждым восторгаясь, кричал Гривнев. Кричали Дорогин и Млотковский, но вдруг перестали. Это Дорогин, сидевший напротив приятеля, пнул того под столом, а теперь Млотковский, опускаясь ногами и телом все глубже под стол, пытался дотянуться до зачинщика.
Высокий, с бледностями и красными пятнами на крупном скуластом лице, Голубев наконец появился.
Снова маршировали. Теперь каждый офицер занимался своим взводом. После мертвого часа еще раз вывели на плац и промаршировали все свободное время. Вывели и после ужина.
Тогда рота впервые узнала, каким мог быть ее командир. Он был взбешен, стоял перед строем в немом негодовании, но не закричал, не повысил голоса. В другой раз он говорил уже повышенным тоном, но сдержанно. Иногда он обращался к воспитанникам как к единомышленникам, которые, конечно же, не могли не понимать, как можно и как нельзя вести себя. Случалось, он будто и вовсе становился на их сторону, разделял их стремление найти выход молодым силам и желаниям. В такие минуты он, казалось, полностью доверял воспитанникам, но просил и их осознать требования, которые предъявлялись им как военным людям. Бывало трудно решить, оправдывал он их или ругал, но в конце концов выяснялось, что не оправдывал, не мог оставить без внимания нарушения дисциплины и призывал не преступать пределов допустимого. Но после последней бучи он уже не предлагал воспитанникам своего товарищества, а резко и недвусмысленно отделял себя от них. Намеренно неспешной, явно недоброй сутуловатой походкой выходил он к ним, к двум длинным шеренгам в проходе между рядами прибранных, пригнанных одна к другой и как бы выстроившихся кроватей, останавливался перед вторым взводом и тягостным взглядом обводил роту. И офицеры, и воспитанники ждали грозы. Спокойно и строго рассматривал свой одинаково подтянутый взвод Чуткий. Вытянувшись, будто тоже находился в строю, стоял и едва ли кого отчетливо видел весь напрягшийся Пупок. Боковым зрением следил за командиром роты, но все замечал и во взводе Голубев, становившийся непреклонным, как Крепчалов, или, наоборот, как бы поддерживая воспитанников. Какое-то время командир роты только медлительно водил тяжелым взглядом, затем, когда между ним и ротой устанавливалась тягостная тишина, начинал говорить совсем тихо. Но вот хлещущий как бич голос обвивал строй. И офицеры, и кровати, и шумевшие у открытых окон в солнечных блестках тополя, и сквозняки, доносившие из умывальника запахи разбухшего фруктового мыла и сапожного крема, – все переставало восприниматься. Бушевал один Крепчалов. Он не употреблял ни одного матерного слова, но те несколько минут, пока, ни на миг не ослабевая, бился в казарме его голос, казалось, что он матерился самыми последними словами. Стихал Крепчалов внезапно. Обведя строй медлительным взглядом, сутуловатой, но уже облегченной походкой он направлялся в коридор, на ходу распоряжался тихим голосом:
– Ведите роту.
И снова отчетливо становилась видна казарма, слышны шумевшие у окон тополя, ясно происхождение запахов.
Нет, ни один взвод не стал бы кричать против своего командира. Все вышло из-за Чуткого. Оказалось, что не один Дима не любил этого бывшего кадета. А потом они уже не могли остановиться. Нельзя было. Потому что получилось бы, что строевые занятия смирили их. А прокричав против своего командира, несправедливо было пощадить других. И кроме того, их задело, что офицеры вдруг объединились против них. А ведь они ощущали себя не просто первым, вторым или третьим взводом, а взводом Чуткого, взводом Пупка, взводом Голубева… Да и свои офицеры стали больше требовать, чем давать.
– Вы дорого обходитесь государству, – не однажды слышали они.
Никто не возражал. Конечно, они чего-то стоили. Но двадцать две тысячи? За один год?
– Ого! – воскликнул Млотковский. – Дали бы их мне!
– Что-то много, – не поверил Гривнев.
– Столько и тратят, – сказал Уткин.
Что-то стояло за его словами, и, невольно взглянув на него, выросшего у тетки в селе, воспитанники догадались, что значили эти деньги.
– А форма дорогая. И еда. А учебники. И стирают нам все. Мастерские, – перечисляли они. – Офицеры за нас тоже деньги получают.
– А кусты кто подстригает? – сообразил Ястребков.
Но уже в следующую минуту мысль, что они дорого обходятся государству, повернулась к ним неожиданной стороной: не может быть, чтобы столько денег на них тратили зря, значит, на них, будущих офицеров, рассчитывали. Теперь они были горды и этими тысячами, что расходовало на каждого из них государство.
Так проходил второй год суворовской жизни Димы. Каждый день были вместе. Всем взводом. Всей ротой. Всем училищем. Жили в какую-то одну общую сторону. Лишь уход в отставку Моржа несколько омрачил это движение.
– Сразу видно, что был кадет, – говорил Высотин.
– У него одного такие сапоги были, – говорил Светланов.
– Нас понимал, – говорил Гривнев.
Они жалели Моржа и обижались, что новым начальником училища опять назначили полковника. Генерала, видно, не могли найти.
Если Морж был понятен воспитанникам уже тем, что, дослужившись до начальника училища, являл им пример того, чего мог достигнуть каждый суворовец, то новый начальник училища вызывал недоумение. У него будто не было своего лица. Виделось ординарное лицо сорокапятилетнего офицера в повседневной форме. Никто из воспитанников ничего не знал о нем: ни подвигов, которые он совершил, ни заслуг, о которых можно было говорить. Спрашивали командиров взводов. Те знали только последнее место его службы, ничего не сказавшее воспитанникам. Хотелось гордиться им, но не знали, чем именно гордиться. Не гордиться же обычным человеком, пусть и полковником, пусть и начальником училища.
Открывал и вел собрания и митинги все тот же начальник политотдела полковник Ботвин. Его роль, не совсем ясная, прежде все же была объяснима: он выполнял приказы и распоряжения Моржа. Теперь же за красным столом президиума сидели два обыкновенных военных. Ботвин выглядел предпочтительней. Но самое странное оказывалось другое: новый начальник сторонился воспитанников, не ходил в голове колонны училища на парад, его голоса не слышали, училище ходило будто без головы.








