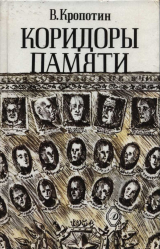
Текст книги "Коридоры памяти"
Автор книги: Владимир Кропотин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
– Устала? – спросил он.
– Нет, – сказала она. – А тебе что!
– Света, подари мне свою фотокарточку?
– Зачем?
– На память.
– Нет.
Он будто налетел на что-то и ударился. Сразу захотелось вернуться домой. Все было кончено. А он на что-то там надеялся! Какой же он дурак!
Лес вокруг полого поднимался и редел. Под ногами трещали ветки и сучки. Их окружали почти одни сосны. Здесь остановились. Девочки развели костер и повесили над ним котелок. Костерок дымил, язычки огня чернили дно. Света и Оля собирали валежник. Тоня с воспаленным лицом стояла над костерком. Дима тоже куда-то пошел. Прошел он совсем немного, как в образовавшемся просвете между соснами увидел похожую на огромный карьер красновато-бурую долину с выстроившимися на дальней окраине рядами домиков. Он повернул назад и не узнал леса. На середине крутого склона сосны напоминали людей, поднимавшихся в гору. Куда идти? Он направился к соснам. Подъем кончился, и он остановился. Сосны тоже будто остановились. Неужели он заблудился? Не хватало еще, чтобы его искали. Крикнуть? Но он не мог уйти далеко.
– Тебя ищут. Ты куда ушел? – сказала Тоня.
– А где они? – спросил он.
Он услышал голос Оли, а где-то дальше кричала Света.
– Света переживает, – сказала Тоня. – Думает, что ты заблудился.
– С какой стати? – сказал он. – Наверное, пора домой?
– Сейчас каша будет готова.
– Ладно. Ты только не говори сразу, где я, – попросил он.
Он залез на сучковатую сосну. Забравшись почти на самую верхушку, он увидел оттуда еще одну красновато-бурую долину, продолжение прежней. Там, наверное, находился их город.
– Он здесь! – крикнула Тоня.
Видеть все сверху было интересно. Отыскав его почти у самого неба, Оля крикнула:
– Ты почему ничего не сказал? Мы беспокоились.
Вернулась Света и полезла к нему.
– Что ты так далеко ушел? Ты же в первый раз в этом лесу, мог заблудиться, – встревоженно сказала она.
Он вдруг воспрял духом, смотрел весело и уверенно, улыбался.
– Не мог, – сказал он. – Зачем ты полезла сюда? Упадешь. Даже поцарапалась. Вон три царапины на плече!
– Что, уже подсчитал? – сказала она.
Так вот, оказывается, как! Так вот как она снова обошлась с ним! Но он еще улыбался. Защищался улыбкой.
– Каша готова! – крикнула Тоня.
Они слезли. Никакой каши ему не хотелось. Ничего ему больше не хотелось. Он стал бродить вокруг.
– Ты что не ешь? – спросила Тоня. – Мы тебе оставили.
Она и Света тушили костерок.
– Не хочется, – сказал он. – Дома поем.
– Дим, поешь, – попросила Оля и зашептала: – Ты не переживай. Ты лучше ее.
Он съел целую ложку затвердевшей каши. Это было все, что он мог заставить себя сделать для Оли.
Он уезжал. Отец улыбался неловко и, казалось Диме, виновато. Только встречая и провожая, отец так улыбался ему. За все лето они ни разу не поговорили по душам. Всякий раз, когда к этому подходило, отец откладывал разговор на потом. Но если отец как будто оказывался виноват перед ним, то перед Ваней Дима сам чувствовал себя виноватым. За каникулы он так и не нашел времени для брата. На лице Вани все время держалось такое выражение, будто он все еще ждал старшего брата, будто что-то дарил ему, а тот не брал, и теперь Ване это тоже стало не нужно. У всех братья как братья, а у него! И проще, и сложнее было с мамой. Проще потому, что она оставалась спокойной за него, если видела, что он доволен. Сложнее потому, что его переживания она относила на свой счет. За несколько дней до отъезда он уже ловил на себе ее вопрошающие взгляды.
Но для него каникулы закончились еще раньше, на следующий день после проводов Тони и Светы в техникум. Без Тони дома стало пустовато. Рано проснувшаяся Оля встретила его какой-то новой улыбкой и каким-то новым взглядом. Прежде делившая его с Тоней, она теперь стала внимательна к нему за двоих. Никогда еще они не были так близки. Вот ее-то Дима любил по-настоящему.
И все же подавляющим чувством его оставалось разочарование. Так многообещающе начавшееся лето закончилось ничем. Ничего не меняло то, что он все-таки нравился Свете, и на вокзале, на минуту оставив родителей, она впервые сама подошла к нему.
– Я тебе напишу, обязательно напишу, Дима. И вышлю фотокарточку, – сказала она. – Ты ответишь?
И потом все поглядывала на него, только на него, по существу, и смотрела. Но разве такого уже не происходило? Сколько раз, заметив, что он расстроен, она обнадеживала его виновато-обожающим взглядом, и он снова начинал искать близости с ней. Нет, еще никто так не унижал его.
«Что в ней такого?» – спрашивал он себя.
Часто и мелко опадавшие и вздувавшиеся при смехе крылышки ее тонкого ровненького носа, по-птичьи мелодичные звуки, каких он никогда не слышал, то, какой он увидел ее во время купания, скорее вызывали в нем странные затруднения, чем нравились. Тем обиднее было, что она не считалась с ним. Каждый день Дима сначала чувствовал себя оскорбленным, потом радовался, что никто больше не будет помыкать им. Ему уже представлялось, как он садится в поезд, разглядывает за окнами свою бесконечно разнообразную страну. Мысленно он уже подходил к проходной, встречал ребят. И снова был свободен. С каждым днем он освобождался все больше.
В училище он забыл о Свете. Что могло быть лучше, чем снова находиться среди ребят! Если бы не письмо, он и не вспомнил бы о своих летних переживаниях. Энергичные строки не находили в нем отклика, Света же не сомневалась в его чувствах к ней. Она так была уверена в этом, что он невольно возмутился. С него хватит! Где она была раньше? Он не ответил. Она была изумлена, сердилась, возмущалась, отчитывала его: «Ты что ж это, а?! Ты почему же это так делаешь?! Не смей этого делать! Отвечай сразу!» Почти половина ее нового письма была заполнена восклицаниями. На какое-то время он почувствовал, что в том, что произошло между ними летом, содержалось что-то настоящее, что-то такое, что одно, может быть, имеет значение в жизни. Но он все равно не ответил. Когда-нибудь с какой-нибудь другой девочкой и у него выйдет все самым лучшим образом, без мучений и постоянно унижаемого достоинства.
Руднев и Высотин выходили в город будто только для того, чтобы показать себя. Под стать смотрелись их девушки. Особенно уверенно держался Руднев. Стройные высокие девушки как бы подчеркивали его суворовские достоинства.
– Мартышки! – как-то назвал он девочек Хватова. – Мелюзга!
Тем и в самом деле недоставало породы.
– Крестьянка! – сразу определил он и грузноватую, широкую в шее девушку Уткина, пришедшую в училище на танцы.
Когда, проявляя внимание к Уткину, девушку приглашали, ее крупное лицо оживлялось, глаза наполнялись доброжелательностью и светом. Поджарый Уткин выглядел рядом с нею стеснительным женихом. Девушка будто выдавала его самые серьезные намерения.
«Вот какие ему нравятся», – подумал Дима, но не удивился.
На этот раз он подумал о Тихвине, предупредительно поглядывавшем на полненькую девочку с малиновыми щечками и капризными сиреневыми глазками.
Ни с одной девочкой, с которыми гуляли ребята, Дима по-прежнему представить себя не мог.
– Пойдем с нами, – предложил Годовалов и тут же доверительно сообщил о Попенченко: – Ему тут одна понравилась. Он не хочет, чтобы Зудов ходил с нею.
Девочек оказалось трое, ребят тоже трое.
– Ты побудь с ней, – увидев Диму, попросил Попенченко. – Не хочу, чтобы с ней гулял кто-то другой. Мне в одно место надо. – Он представил: – Познакомься, Валя. Это мой друг.
Они прогуляли, наверное, около часа.
– Ты что все время оглядываешься? – спросила девушка.
– Неудобно. Они подумают, что мы специально уходим.
– Ну и пусть. А ты не хочешь?
– Неудобно. Валера мой товарищ, – сказал Дима.
– Почему у вас, кто первый познакомился с девчонкой, тот и ходит с нею? И никто не должен мешать ему. А если он мне не нравится? Мне с тобой лучше.
Она потянула его за руку, державшую ее локоть, и это движение, как и неожиданное признание, польстило ему. Но как так сразу взять и уйти? И почему она решила, что нравится ему? Ее рыжеватые волосы были густы и по-женски взбиты, светлые, но пестрые, как ягоды крыжовника, зеленоватые глаза смотрели открыто и призывно.
– Он мой товарищ, – повторил Дима.
– Глупое товарищество, – сказала девушка.
Дима промолчал. Не мог же он сказать ей, что дело не в одном товариществе, в котором все-таки тоже имелся смысл. Все в девушке представлялось замечательным, пока она являлась подругой его товарища, но после ее признания он уже не был уверен в этом. Да и что они стали бы делать? Рассказывать о прочитанных книгах? Целоваться?
И все же нравиться самому было приятно. И просто так ходить по теплому зеленому городу без теней, ощущать едва заметное шевеление листвы деревьев и какую-то будто одну и ту же ветку над головой тоже было приятно.
Их нагнали. Попенченко взял девушку под руку, а Годовалов, задержав Диму, сказал:
– Валера говорит, что пригласил тебя ненадолго, а ты пристал и не отстаешь.
– Почему он не подошел? Я ждал.
– Он говорит, что ты пристал. Вон, говорит, идет с ней, бессовестный.
Нет, если бы не ребята, Дима вообще не думал о девочках.
«О чем они разговаривают, что им так интересно?» – иногда спрашивал он себя и чем больше, случайно оказываясь в компаниях, узнавал об этом, тем меньше девушки интересовали его.
– Зайдем к Таньке, – предложил Руднев.
Танька оказалась знакомой Диме по танцам в училище худой и рослой девушкой с ярким румянцем на длинных щеках. Она сразу засобиралась.
– Куда пойдем? – спросила она на улице и как своих взяла их под руки.
– Погуляем просто, – сказал Руднев.
Дима незаметно поглядывал на девушку: необыкновенно чистое лицо, румянец натурален, очень свеж взгляд. Распахнутый плащ, шелковистый шарфик, платье по фигуре, полупрозрачные чулки на худых, почти без икр ногах в туфлях на низких каблуках – все будто всегда было новым. Такой чистоты и свежести, такой стерильности он еще не встречал. Но больше всего удивило то, как сразу, без раздумья она отправилась с ними.
– Мы уже готовимся к параду, – сказал Руднев.
– Вам очень идет форма. Вы в ней такие красивые, – поддержала девушка. – Вам, наверное, интересно заниматься, учиться, да?
Дима снова взглянул на нее. Она и в самом деле верила в то, что говорила.
А Руднев продолжал рассказывать обо всем, что делалось в училище. Дима и на него взглянул с удивлением. Тот тоже явно считал, что они, суворовцы, жили чрезвычайно интересной жизнью.
– Тебе она нравится? – спросил Дима, когда они проводили Таню домой.
– Хорошая девчонка, – ответил Руднев.
Только и всего?!
Нет, Дима не завидовал ребятам, гуляющим с девушками. И никакой своей девочки у него быть не могло. Что бы он мог предложить ей? Куда повести?
Глава восьмая
Что-то с ним все-таки происходило. Он вдруг замечал в училищном сквере травинки, тонкими лезвиями пробивавшиеся сквозь сухую и твердую, как камень, землю, замечал странно, будто в том, как они росли, заключался весь известный ему смысл жизни и никакого другого смысла попросту не существовало. Его взгляд невольно задерживался на каком-нибудь клене или тополе, на отражавшей солнце раскаленной лавке, на всеми захламленном месте во внутреннем дворе главного здания или в кустах всего в одном шаге от центральной аллеи, но видел будто не дерево вовсе, не лавку, не солнечный блеск, не всеми забытое место, а смыслы. Мысленно он все время куда-то перемещался, видел все со стороны, и его личная жизнь почему-то переставала иметь значение. Да и была ли у него личная жизнь? Нельзя же назвать личной жизнью то, что он делал. Это была общая жизнь. Таким же общим представлялось и будущее. То, что он станет офицером и будет служить на границе, в конвойных войсках или войсках связи, еще ни о чем не говорило. Не составляло труда представить себя в лейтенантской форме, но как отличить этого лейтенанта от всех других лейтенантов?
«Какие-то мальчишки и девчонки бегали и кричали…»
Слова из письма императрицы мужу Николаю Второму о революционных событиях в Петрограде.
И это о рабочих, о взрослых людях, возмутившихся самодержавием. Он видел этих людей из окон дворца глазами императрицы. Эта стерва сама, наверное, чувствовала себя девчонкой. И эта девчонка вместе со своим мальчишкой управляла, а остальные подчинялись.
Только на миг возмутился Дима, но… что-то за этими словами стояло. Не только то, что хотела сказать историчка Нина Сергеевна и чем возмутился он. Все люди в каком-то смысле в самом деле являлись мальчишками и девчонками… и суворовцы… и офицеры… и начальник училища…
Подобные мысли не однажды приходили в голову. Прежние ощущения полноты жизни возвращались реже. Каждый день он чему-то радовался, но странно радовался, не сегодняшний он сегодняшнему дню, а вчерашний он вчерашним радостям.
Дима словно куда-то перемещался. Он вдруг начинал воображать себя кем-нибудь из ребят, то есть жил тем же, чем жили они, так же, как они, все чувствовал и проводил время. Это даже нравилось ему. Впрочем, с Тихвиным воображать ему ничего не приходилось. Однажды они провели вместе два очередных дежурства, несколько дней кряду ходили на занятия в физический кружок, недели две учились переплетному делу. Вновь проникшись к Диме самыми дружескими чувствами, Тихвин угощал его сладостями из родительских посылок. «Потом еще поедим», – говорил он и относил посылку, ящичек, коробочку или узелок, обшитые тонкой белой материей, на хранение старшине в каптерку.
В другой раз, воображая себя Попенченко, Дима ходил на тренировку, и все ему удавалось. Он довольно легко всех побеждал, хотя поначалу соперники оказывали сопротивление. Он знакомился с девочками, не всегда нравился им, но был убежден, что девочки, которые предпочли ему его товарищей, обманывались. Вообще, девочки были странные существа. Какой-нибудь Млотковский или дохляк Левский мог понравиться им больше. Поэтому всегда следовало быть бдительным. А недавно Бушин, Зудов и он, Попенченко, подрались в городе с гражданскими ребятами. Сильные и неробкие, втроем они чувствовали себя непревзойденными. Кто посмел бы соперничать с ними! Драка началась из-за задиристого Зудова.
– За мной! – крикнул Попенченко, потому что они вдруг оказались против окруживших их десятка парней, к которым все время кто-то еще присоединялся.
Так они бегали, в затылок один другому, раздавая удары налево и направо, пока в образовавшейся толпе нельзя стало разобрать, кто с кем дрался. Раздались и приближались милицейские свистки. Им удалось вырваться из толпы в самый последний момент.
При виде Высотина Дима невольно переносился в его мечты, то есть видел себя блестящим офицером. Жизнь становилась как бы чьим-то личным разрешением, как бы очередной, а за нею еще одной командой. Всех учить, со всеми заниматься спортом и держать будущих подчиненных в боевой готовности собирался Уткин. Как всегда, ни в чем не сомневался Руднев, знал, что такие, как он, были нужны.
Так, то одним, то другим воображал себя Дима. И продолжал эти странные игры до тех пор, пока не понял, что ни за кем больше не тянуло его.
А ведь совсем недавно он жил с ребятами одной жизнью и, в сущности, не знал, где кончался он и начинались они. Какая-то отдельная своя жизнь едва представлялась ему. Да что это такое – своя жизнь? Нечто замкнутое и ограниченное. Это был, наверное, самый безмятежный период их суворовского существования. Не имело значения, что происходило раньше, что позже… Дни сходились в один длинный прерывистый день. Время ощущалось как пространство, которое следовало заполнить. Как ни тесно было, места хватало всем. Едва ли кто из них задумывался о будущем, как никто и не сомневался в нем. Все знали, что как бы строем перейдут из одного училища в другое и пойдут еще дальше. Дима никого не предпочитал. Проводить время с кем-нибудь одним, двумя или даже группой тоже означало как бы ограничивать себя. Интереснее и лучше было жить со всеми.
Теперь же он явно отделялся от ребят. Как ветвь от ствола, он будто вырос из них и тянулся в неведомую сторону. Иной становилась и общая жизнь, то есть она как бы оставалась, а они, как ветви дерева, расходились все дальше. Они были одно, общая жизнь – другое.
Глава девятая
Все началось год назад, в тот, несмотря ни на что, самый безмятежный период их существования. На уроке химии в дверь просунулась голова дневального.
«Что ему надо?» – подумал Уткин.
Он не любил, когда заглядывали. Особенно не любил, если при этом не обращали внимания на преподавателей, да еще переговаривались. Больше всего не любил, когда дежурные не дожидались перемены, а сообщение оказывалось несрочным.
«Что он так долго?» – подумал Уткин.
Голова дневального все еще торчала в двери. Глаза, однако, не улыбались, взгляд никого не искал, он что-то говорил Маргарите Александровне, а сидевшие ближе к двери ребята странно внимательно слушали его. Не успев открыто возмутиться, Уткин вдруг сам превратился во внимание.
Дима тоже что-то услышал. Еще ничего в нем не сдвинулось с места, но кто-то в нем уже обо всем догадался и не удивился, почему Маргарита Александровна, немо и некрасиво открыв рот и задохнувшись, стремглав бросилась вон из класса. Дневального задержали. Пока он уже громко рассказывал, все молчали. Потом стали спрашивать:
– Где? Когда? Как узнали?
Умер Сталин…
Дневальный пошел сообщать известие в другие взводы. Все продолжали сидеть, взглядами делясь новостью. Когда Млотковский, что-то доставая, перегнулся через стол, на него посмотрели все сразу.
– Пойду посмотрю, – сказал Хватов.
Оп тут же вернулся, сообщил:
– Все на занятиях.
Умер Сталин… Известие казалось неразделенным. Оно будто все время объявлялось заново. Из классов не выходили до самого звонка.
Но и после звонка идти оказалось некуда. Ходили вокруг да около, будто искали себе какое-то место. Зажав нос белым платочком, сутуловатой походкой, ни на кого не глядя, прошла по коридору историчка Нина Сергеевна. Появление во взводе Голубева никого не удивило. Он вел себя точно так же, как они: смотрел на суворовцев и будто тоже искал себе какое-то место.
– А что мы теперь будем делать? – спросил его Дима.
– Будете заниматься.
Звонок и в самом деле раздался. Вошла преподаватель русского языка и литературы Надежда Андреевна. Она не прошла к столу, как это обычно делала, а, не здороваясь с классом, остановилась у двери, поднесла скомканный платочек к лицу, стала вытирать им свои черные глаза и высмаркивать отекший покрупневший носик. Она проделала это несколько раз и с воспаленными веками прошла и села за стол. Но успокоиться ей не удалось. Взглянув было на молчавший класс, она поставила руки локтями на стол и тут же принялась опять вытирать глаза и высмаркивать носик. Голова ее, как всегда, держалась неподвижно и высоко, маленький подбородок вжимался в подушечку шеи, пальцы комкали платок. Такой и застал ее Голубев.
– Извините, Надежда Андреевна, – сказал он тихо. – Всем в клуб, – так же тихо объявил он.
Надежда Андреевна поднялась и вышла.
В зал входили при полной тишине, сопровождавшей их от самого класса. Шесть рот входили почти одновременно, а за красным столом на сцене уже находились начальник училища, его заместитель, начальник политотдела, командиры рот, старшие преподаватели, весь обычный президиум без суворовцев. Слышался шорох движений и стуки придерживаемых сидений.
– Почтим…
Через годы, навсегда прощаясь с близкими, они вот так же и еще безысходнее будут переживать свои утраты. Широкими пальцами убирал из глазниц слезы Тихвин. Дима тоже не выдержал и посмотрел на Попенченко: лицо мокрое, взгляд напряженный. Но не одни они стояли с такими лицами. Те, кто не плакал, смотрели неестественно блестящими глазами. Замер, весь ушел в себя Витус. Напрягся, побурел Уткин. Со скорбным значительным видом уставился в точку перед собой Хватов. Глядя на всех, забеспокоился, заозирался Млотковский. Напряжение, однако, проходило. Плакать перестали почти одновременно. Глаза смотрели светло и облегченно. Чувствовали, что стояли долго.
Умер Сталин…
Когда-то он, как все люди, должен был, конечно, умереть. Об этом просто не думали. Это через четверть века Дмитрий Николаевич Покорин будет ждать смерти одного человека, потому что человек тот был уже давно мертв, хотя и ходил.
Когда-то Сталин должен был, конечно, умереть. Но не сейчас. И не завтра. Потому что еще много требовалось сделать в стране, во всем мире. Потому что им всем предстояло еще вырасти, стать самостоятельными.
Теперь кто-то в Кремле лежал мертвый. Но мертв он был только там, а везде, где его не было, он жил. Умер тот, кого они не знали, жил тот, кого они знали.
Это была странная смерть. Это не была смерть какого-то человека. Люди умирали не так. Они умирали совсем. Так умирал дед Димы. Так погибали люди на фронте. Так умирали все. Теперь кто-то умер, но то, что было для всех Сталиным, не умерло. По-прежнему оставались училище и они, суворовцы. По-прежнему оставались вся страна и весь мир. По-прежнему следовало к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
Это была странная смерть. Она была, потому что в Кремле лежал мертвый человек, лежал один, как все мертвые, и ее не было, потому что они оставались прежними, такими же, какими были, когда будто не они, а Сталин в них все за них делал, всего хотел, ко всему стремился.
На траурный митинг через несколько дней училище выстроили на центральной аллее. Роты заняли места, с которых обычно отправлялись на парад. Ждали выступлений руководителей государства по радио. Что-то они скажут?
Голоса из громкоговорителя разносились по всему училищу.
– Молотов чуть не заплакал, вы слышали? – сказал Гривнев, когда, возложив цветы, десятки венков, к гипсовому изваянию Сталина недалеко от беседки, роты расходились.
Что же теперь будет? Знали ли на самом верху, что нужно делать? Успел ли Сталин сказать им об этом? Все в училище чего-то выжидали. Утратил свою представительность полковник Ботвин. Рядовым старшим офицером держался начальник училища. Еще меньше были заметны остальные. Все странно уравнялись. Офицеры знали не больше того, что знали суворовцы, и молча ходили со своими взводами, чего давно не делали. Как привязанный ходил за взводом Траат. Пупку впору самому было стать в строй. Тихо командовал Голубев. Один Чуткий кому-то во взводе выговаривал, кого-то одергивал, но голоса не повышал. Перестал выходить к роте Крепчалов.
Но кто заменит Сталина? Один из тех, кто выступал по радио? Сейчас они решали, кого всем слушаться. Они, конечно, знали, кто из них достойнее. Кто? Молотов? Берия? Кто-то еще?
Прежде всего, конечно, Молотов. Он работал еще при Ленине и всегда был вторым после Сталина. В вестибюле училища по обе стороны широкой лестницы, что вела на третий этаж, располагались их портреты во весь рост. Под портретом Сталина стояли знакомые слова: «Помните, любите, изучайте Ильича…» Под портретом Молотова слова были другие: «У нас есть имя, которое стало символом побед социализма. Вы знаете, что это имя – Сталин…» Прочитав однажды эти слова, Дима удивился их смелости. Как мог Молотов так сказать? Только символ?
Да, прежде всего, конечно, Молотов. Это он еще до войны был Председателем Совета Народных Комиссаров. Это он объявил стране о нападении фашистской Германии. Это в его голосе прозвучали слезы в прощальной речи. Слезы имели значение. Только тот, кто близко к сердцу принимал утрату, мог продолжить дело Сталина.
А если Берия? Виделся человек без возраста, с твердым сухим лицом, в пенсне, с лысиной. Глаза казались черствыми и чужими. Но все было на месте, каждая черта странно соответствовала другой. Конечно, это вовсе не означало, что он плохой человек. Такие же чужие и, сколько ни смотри, неузнаваемые лица были у других руководителей. Голос Берии по радио звучал резко, бесстрастно, ни разу не дрогнул. Но голоса других руководителей тоже не трогали. Все голоса, казалось, не соответствовали облику говоривших. Но этой неузнаваемости в Берии оказывалось больше, чем у других. Непривычно звучала и фамилия, хотя каждый год осенью суворовцы бегали кросс его имени. Тогда было все равно, чьим именем назывался кросс, теперь нет. Привыкать к этому человеку без возраста и чувств не хотелось. Молотов был ближе.
Отношение к Берии изменил Высотин. Он знал, какие посты занимал и за что отвечал каждый из членов Политбюро. Знал, о ком переставали писать в газетах и упоминать по радио, то есть кто сделал что-то неправильное, а потому был снят и забыт. Имела значение и очередность, в какой их называли, и кто с кем стоял рядом. Высотину доверяли, не однажды видели, как он заговаривал на подобные темы с офицерами, преподавателями и старшими суворовцами. Оказалось, что кросс назывался именем Берии потому, что министерство, к которому относилось суворовское училище, он когда-то возглавлял. Вспоминались и слова песни, которую они, бывало, пели: «Вперед за Сталиным нас Берия ведет!» Оказывалось, что все внутренние органы и войска, пограничники, разведчики и контрразведчики, все те, кто ограждал страну от вражеских происков и разоблачал врагов народа, подчинялись Берии. Может, он потому и держался так отчужденно, что у него была такая работа.
Но не это оказалось самым главным, а то, что для них, суворовцев, было лучше, если бы первым человеком в стране стал именно он. Тогда они, будущие чекисты, став офицерами, пользовались бы какими-то особыми правами и вниманием, потому что только на тех, кто ему подчинялся и в ком он был уверен, должен был опираться Берия.
– Он и сейчас отвечает за это, – сказал Высотин и со значением оглядел слушателей.
Да, на кого-кого, а на них можно будет положиться. Кто может быть более преданным Родине, более надежным ее оплотом? Вот тогда врагам действительно не поздоровится!
А если первым человеком станет кто-то третий? Другие руководители тоже что-то значили. Их было, казалось Диме, даже несколько многовато, чтобы всем что-то значить.
Искрившееся солнце освещало здание училища как экран. Зелень вокруг прибывала с каждым днем. Весеннее тепло решительно вытесняло утреннюю свежесть.
В классе на стене у доски вывесили портрет. На суворовцев смотрел моложавый человек в пиджаке-кителе. Волосы зачесаны волосок к волоску, без единой морщинки полное лицо необычно гладко.
«Вот кого теперь мы должны любить», – подумал Дима.
Он помнил этого человека с не очень мужским лицом, помнил свое недоумение, вызванное тем, что на последнем партийном съезде выступал не Сталин, а этот человек. Сейчас все у него выглядело нормально и даже красиво. Но справится ли он? Конечно, он не один. Молотов, Берия и другие будут помогать ему. Все вместе они, конечно, должны справиться.
– Его Сталин уважал, – сказал Высотин.
О назначении Маленкова они узнали еще вчера. Обсуждали новость с Голубевым. Как ни неожиданно оказалось известие, его приняли как ожидаемое.
– Это очень умный человек, – говорил Голубев, перечислял посты, которые прежде занимал Маленков. – Занимайтесь! – вдруг спохватился он и, заложив руки за спину, удовлетворенно стал ходить перед классом. Он будто нашел свое место и теперь знал, что делать.
Голубев пришел в класс и сегодня утром. И тоже смотрел на портрет. Потом забеспокоился.
– По местам! По местам! Не стоять! – говорил он.
Первый был урок истории. Проходя к столу, Нина Сергеевна бросила взгляд на портрет и понимающе улыбнулась. Она знала, что сейчас хотели от нее эти ребята. Сев за стол и еще раз взглянув на портрет, она заговорила сразу:
– Вы знаете, что Сталина заменить непросто… Георгию Максимилиановичу пятьдесят лет… Талантливый… Энергичный… Он давно известен…
Сейчас Нина Сергеевна едва ли не гордилась новым руководителем, особенно же тем, что тот был молод и в жизни страны открывались определенные перспективы.
Русачку Надежду Андреевну вызвать на разговор не удалось. Прервать их она не смела, стояла и ждала, пока они выговорятся. Не удалось узнать мнение о Маленкове и у преподавателя математики. Крупный, полный весеннего здоровья, в распахнутом пиджаке, облокотись рукой на стол, он сидел полубоком. Его необычно голубые глаза вопрошающе смотрели то на одного, то на другого любопытствующего суворовца.
– Что? – переспросил он.
– Что вы думаете о назначении? – спросил, наконец, Высотин.
Преподаватель не удивился вопросу, сказал очень серьезно:
– Я все знаю из газет. Больше мне ничего неизвестно.
И продолжал смотреть вопрошающе и серьезно.
Дима д у м а л. И не просто думал, а будто впервые думал. Странно, что так быстро все стали забывать Сталина. Странно, что кто-то другой так запросто мог заменить великого вождя. Странно вообще, что все могло измениться едва ли не за неделю. Прежде Дима ощущал вокруг какие-то незримые стены, теперь их не стало, и всюду появились сквозняки. Таким пространным мир еще не представлялся ему. В стране как будто не стало центра, вокруг которого прежде все держалось. Конечно, и Москва, и Кремль, и главные люди оставались, то есть центр как бы тоже оставался, но – и об этом в один голос говорили радио, газеты, офицеры – всем теперь следовало сплотиться, а это означало, что те, кто руководил страной, не могли обойтись без поддержки и ц е н т р т е п е р ь н а х о д и л с я в е з д е. О т э т о г о – т о и в о з н и к а л о о щ у щ е н и е, ч т о с т е н ы и с ч е з л и и п о я в и л и с ь с к в о з н я к и. Что было делать с возникшим в нем центром (а он, Дима, тоже становился как бы центром, хотя и не думал так определенно, вообще не думал о себе как о каком-то центре), он не знал. До сих пор, окруженный невидимыми стенами, он чувствовал себя за ними как в крепости и, оказывается, надеялся не на себя, а на эту крепость, на давно и навсегда установленную, для всех и для каждого обязательную жизнь, которая сама знала, в чем был ее смысл.
Так прошел, наверное, месяц. Дима не заметил, как снова перестал думать, и однажды удивился, что давно не вспоминал Сталина. Удивился и обрадовался, что страна, как и прежде, чувствовала себя уверенно. Жить снова стало интересно, а затем и вовсе хорошо. Успешно прошли экзамены. Закончились очередные летние лагеря. Как никогда он был счастлив летом. Оказалось, что он готов был немедленно влюбиться и, едва увидев подругу сестры, влюбился. Он будто подошел к границе, за которой начиналось небывалое. Запомнилась железнодорожная станция, где он делал пересадку. Ему было хорошо оттого, что дома все ладилось, что в училище он возвращался суворовцем старшей роты и что небывалое все-таки существовало. В природе тоже было хорошо, как в бабье лето. По-осеннему желто светило солнце. Теплый воздух и отягощенные листвой деревья находились в движении. Он ходил по скверу и слушал музыку, разносимую репродуктором на столбе за небольшой привокзальной площадью. Музыка не была воинственной, но ему вдруг захотелось ходить быстро и размахивать руками, все время ходить и размахивать. Музыка звала куда-то вперед и к свету, но не в обычную даль и не к обычному солнечному свету. Он все куда-то порывался, но сдерживал себя. Так он и ходил, то возбуждаясь, то сдерживая себя, но уже стараясь разобраться в двигавших им чувствах. Он пожалел, что их не учили музыке. Хотелось узнать, что он слушал. Оказывается, музыка сама была светом и тем местом, куда звала. Потом она кончилась. Он запомнил: играли Пятую сонату Бетховена.








