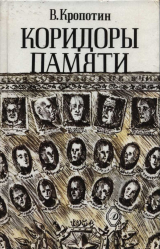
Текст книги "Коридоры памяти"
Автор книги: Владимир Кропотин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Глава двадцать пятая
Отец не успел договорить, а Дима уже сказал:
– Хочу!
– Отсылаешь ребенка не знаешь куда! О себе только думаешь! Тебе лишь бы отделаться! Всю жизнь так! – возмутилась мама.
Отец не мог стерпеть:
– Это ты настраиваешь детей против меня! – Но чувствовал он себя виноватым и дальше говорил тише: – Что он все время у твоей юбки сидеть будет? Он сам хочет.
– Ты на самом деле хочешь в суворовское училище? – спросила мама, когда они остались одни. – Ты хорошо подумай, Димочка!
– Хочу.
– Ты подумай, Димочка. Я не хочу стоять на твоем пути, но ты подумай. Тебе всего двенадцать лет, как бы ты, когда станешь взрослым, не пожалел.
– Я на самом деле хочу, мама.
Он уезжал через месяц.
– Вот сына отдаю в суворовское училище, – со значением в голосе говорил отец знакомым и незнакомым, что собрались на обширном травяном поле у самолета; готов был, казалось Диме, сообщать об этом каждому, кто невольно задерживал на нем взгляд.
Мама поцеловала Диму мягкими губами и заплакала. Глаза, веки, под глазами все покраснело у нее.
– Не один едет-то, – сказал отец.
Он нетвердо посмотрел на Диму и поцеловал три раза.
Дима поднялся по трапу. Мама взмахнула платком и прижала его к носу. Отец улыбался нескладно, обнажив зубы. Из окошка самолета Дима видел их среди провожающих. Мама искала его глазами.
Самолет загудел, мелко затрясся. Диму прижало к спинке сиденья. В окошке с отдернутой шторкой блеснуло солнце. Земля отвалилась как огромный камень. Но вот самолет будто остановился. Как и на земле, солнце светило теперь с одной стороны. Тень от самолета терялась в желтизне близких сопок. Подлетели к морю. Оно было разного цвета и покрыто застывшей рябью.
Сейчас в самолете Дима чувствовал себя странно. Час назад он простился будто не столько с родителями, сестрами и братом, сколько с самим собой. Он начал прощаться с родными и с самим собой с самого первого дня, когда узнал о суворовском. То, что он тогда и позже испытывал, едва ли можно было назвать радостью.
Будто Дима мог передумать, отец успокаивал:
– Ты не думай, там готовят настоящих кадровых офицеров.
Восторженно улыбаясь, сестры говорили ему:
– Какой красивый, важный будешь, ты только представь!
Они радовались больше него.
Брат Ваня понимал одно: его старшего брата отправляли в какое-то очень хорошее место.
Нет, Дима не собирался стать именно военным, именно офицером. И красивый черный суворовский мундир и брюки с красными лампасами были тут ни при чем. Но он готов был забыть и дом, и школу, и всю свою прежнюю жизнь. Даже расставание с родителями не вызывало сожаления. Он не стал относиться к ним хуже. Просто в суворовском училище ему предстояло жить без них. Просто в с е б ы л о у ж е д а в н о р е ш е н о. Это можно было отложить на год, на два, на много лет, но это все равно должно было произойти. Неизбежно было, что ему предстояло вырасти и кем-то стать. Неизбежна была его отдельная от родителей с в о я жизнь.
Часть вторая
ПРЕВРАЩЕНИЕ


Глава первая
Когда все, кого не приняли в училище, ушли, наступила тишина. Из-за высоких побеленных стен, как бы отгородивших Диму от прежней жизни, еще доносились разнообразные звуки города, но скоро и они перестали восприниматься. Над стадионом слепящим зеркалом стояло солнце, и было жарко. Дима вошел в тень под кленом. Какие-то ребята, все босиком, в майках и трусах, уже обшаривали свои новые владения. Выжидательно поглядывая друг на друга, остальные держались поближе к казарме, в которой жили, пока сдавали вступительные экзамены.
Дима заметил обращенные к нему большие бледно-голубые глаза. Смотрел на него очень, видимо, послушный, очень, видимо, примерный и домашний мальчик, чуть крупнее и полнее его лицом и телом, с пухлыми широкими пальцами рук и ног. Дима вдруг понял, что сейчас оба они хотели одного: ч т о б ы б ы с т р е е в с е н а ч а л о с ь. Но почему никто не приходит? Когда же будут собирать их?
Уже несколько раз они заходили в казарму с окрашенными в густой зеленый цвет металлическими кроватями, с матрацами без простыней и подушками без наволочек, с как попало брошенными пиджаками, брюками и рубашками, чемоданами и сумками, когда в нее вошел и, оглядев помещение, будто удивился им какой-то старшина.
– Все выходи. Сейчас пойдем, – вдруг сказал он и пошел из казармы.
Дима и полный домашний мальчик вышли первые. Они остановились подле старшины и переглянулись: то, чего они ждали, н а ч и н а л о с ь.
– Ты будешь старшим, – сказал старшина полному домашнему мальчику, назвавшему себя Тихвиным. – А ты будешь помогать ему, – сказал он Диме. – Зовите всех, кто тут еще есть.
Дима отправился туда, где видел ребят, обшаривавших свои новые владения. Из кустов сквера, что тянулся вдоль асфальтированной дороги от проходной, прямо на него вышел мальчишка с озабоченным хмурым лицом. Он куда-то страшно спешил.
– Пойдем, всех зовут, мы только остались, – сказал ему Дима.
Не обращая на него внимания, мальчишка прошел мимо. Он стал даже недоволен тем, что его позвали. За ним спешили еще двое.
«Куда это они?» – удивило Диму.
– Все собрались? – спросил старшина.
Он смотрел поверх голов, потом оглядел всех. Вслед за ним оглядели собравшихся Дима и Тихвин. Озабоченный хмурый мальчишка тоже был здесь.
– Все манатки забирайте с собой. Ничего не оставлять, – сказал старшина. – Пошли. Не отставать!
Направились через стадион к кирпичной бане с длинной и узкой черной трубой. Дыма не было видно, но где-то будто раскалили ржавый лист железа и тянуло угаром. Солнце просвечивало голову как дынную корку. Воздух дрожал как над углями. Несколько солдат охранного дивизиона, казарму которых они только что освободили, коричневые, как тараканы, сидели у душных палаток на краю стадиона. Старшина был высокий, прямой и смуглый. Он вышагивал впереди, вдруг останавливался, оглядывал растянувшуюся низенькую толпу и снова вышагивал.
«Что это они! – возмущался Дима. – Неужели нельзя потерпеть?»
Он не понимал отстававших и уже ссорившихся ребят. Как могло что-то отвлекать их в такой важный момент жизни? Ему казалось, что именно сейчас, когда из них собирались делать суворовцев, следовало быть особенно внимательными, угадывать каждое движение старшины и тут же выполнять его распоряжения.
Они не решались входить в открытые двери парикмахерской. Первый решительно вошел в нее Хватов, тот самый мальчишка, что недовольно встретил Диму у сквера.
– Все равно надо, – сказал он.
Выйдя из парикмахерской, он уже всем своим новым видом – голова уменьшилась и стала квадратной, оказалось, что у него, как у воробья, почти не было шеи, – показывал, что находился как бы по другую сторону от них. Дима не успел войти за Хватовым, кто-то опередил его. Теперь все смотрели на выходивших. Как и Хватов, они преображались. Удивляли торчащие и прижатые уши, странно продолговатые и странно круглые, странно маленькие и странно большие головы, всевозможные неровности на них. Становились беспокойными и будто выдавали себя глаза. Те, что выходили из парикмахерской, сразу отделялись от тех, кто еще не остригся, и как своих встречали очередных остриженных. Чем меньше ребят оставалось с челками и ежиками, тем заметнее убывал интерес к ним. Последние уже никого не интересовали.
На веревках между невысокими столбами всюду ярко белели простыни. У дверей парикмахерской стоял фургон с короткой дымившейся трубой. Открытое нутро его походило на огромную духовку и тоже дымилось.
– Все сдать! Остаться в трусах и майках! – распоряжался старшина. – Потом все сложите в чемоданы. Сдавайте, сдавайте!
– И брюки? – спросил Дима.
– Не знаешь? – удивился ему Хватов. – Сегодня нам форму выдадут.
Одежду вернули скомканной и горячей, как кипяток. От этого, казалось, стало еще жарче.
После знойного воздуха в бане было холодно. В раздевалке старшина разрезал на части два куска крошившегося хозяйственного мыла и раздал их. Гулко стучали жестяные тазы. Вода из тазов плашмя падала на холодный цементный пол, разбивалась с хлестом и стекала по канавкам между такими же холодными цементными лавками. Тело вздрагивало от брызг. Мыло не мылилось.
Хватов налил полный таз, опрокинул его на голову и сказал всем и никому:
– Голова мокрая, и ладно!
Дима и Тихвин не успели последовать его примеру, помешал заглянувший к ним старшина.
– Вы что! – предупредил он снова. – Мыться как следует!
Но Хватов уже находился в раздевалке. Дима дождался, когда старшина закрыл дверь. Вылив таз воды на себя и чуть подождав, он тоже вышел.
– Кто не вымылся? Всем мыться! Быстро, быстро! – подгонял старшина.
Он раздавал чистые и глаженые трусы и майки
– Я вымылся, – сказал Дима.
Старшина торопил их, кого-то хлопнул по заду, кому-то пригрозил сложенными для щелчка длинными жесткими пальцами.
– Идти за мной! – велел наконец он и зашагал.
Задники сапог старшины почти касались провисавших сзади галифе. Похожие друг на друга, как пальцы одной руки, с чемоданами и сумками все двинулись за ним. Шли по асфальтированной аллее между стадионом и главным зданием училища, свернули за угол, по гулкой лестнице прохладного подъезда поднялись на второй этаж, в коридор. Их привели в тускло освещенное помещение без окон, с рядами полок, и Хватов устремился в самый дальний и свободный угол.
– Не сюда! – крикнул старшина.
Но и на другое место, быстро и зорко оглядевшись, Хватов успел первый.
– Теперь всем в казарму! – распорядился старшина.
В светлом поле казармы с четырьмя рядами кроватей и широким проходом между голубыми колоннами уже находились те, кого привели сюда раньше. Старшина уходил. Всякий раз, когда он возвращался, Дима и Тихвин держались поближе к нему и ждали, когда им скажут, что делать. Им казалось, что все так и будет, но вышло иначе.
– Это моя! Я здесь буду! – объявил вдруг Хватов.
Он уже сидел на кровати у окна, ощупывал матрац и подушку, увидел на соседней кровати зеленое одеяло и, быстро схватив его, не понравившееся ему синее бросил на ту же кровать.
– Не баловаться! – крикнул старшина и снова вышел.
Но теперь каждый стремился захватить место подальше от прохода. Дима не предполагал, что одни места были лучше, а другие хуже, однако тоже облюбовал себе кровать во втором ряду.
– Куда! Занято! – вскочил навстречу ему и, как птица крылья, широко раскинул перед ним руки, всполошенно закричал смуглолицый мальчишка с странно продолговатой головой.
– Куда! Занято! – перелетев через кровать и уже перед другой кроватью раскинув руки, снова прокричал тот же мальчишка.
Так познакомился Дима с Высотиным. Но не то ошеломило, что один занимал столько кроватей, а то, с какой почти враждебной неприязнью, ничего не объясняя, защищал он кровати. Запомнились его широко раскинутые руки, птичья тревога в блестящих глазах и дикий голос, не столько уверенный и решительный, сколько крикливый и панический.
– Это тоже занято? – примирительно спросил Дима.
– Занято, – почти спокойно, но с странным превосходством в голосе ответил Высотин.
Он только теперь разглядел Диму, понял, что тот неопасен, и как бы уже пренебрегал им.
– Так сразу бы объяснил, – недовольно сказал Дима. – А то орешь!
– Куда! Занято! – кому-то другому навстречу кинулся Высотин.
Теперь Диме стало все равно. Не хотелось только, чтобы его кровать оказалась на самом краю, в стороне от ребят.
– Занимай эту, – предложил Тихвин.
«Хочет со мной», – подумал Дима и занял кровать.
С кем-то все равно нужно было быть, но что-то удерживало его от близости с Тихвиным. То и удерживало, понял он вдруг, что они были как бы одно и то же и придется теперь находиться как бы самому с собой. То и удерживало, что он будто сам отказывался от чего-то лучшего и более интересного.
За окнами шумели тополя. Солнце клонилось к закату. Всюду сталкивались и мелькали тени. Казарма ходила ходуном. Один смеялся и раскачивался на пружинах кровати, другой сучил тонкими ногами на соседнем матраце. Третьи бегали и кричали. Те, что пришли в казарму раньше, вдруг спохватились, что они тоже могли проявить себя. Только один там, высоковатый, худой парнишка, не кричал, не качался и не бегал. Он то поглядывал в коридор, где скрылся старшина, то серьезно и внимательно смотрел на возбудившихся ребят. Таким и запомнил Дима Брежнева. Запомнил, может быть, потому, что они вдруг переглянулись и оба поняли, что не одобряют странного возбуждения, оба ждут, когда начнется то, ради чего они поступали в училище, оба не пытаются никого унимать, зная, что это должны сделать старшие.
– Вы что! А ну перестать, – крикнул вернувшийся старшина.
Никто не испугался его, но возню и шум прекратили. Только двое продолжали вырывать друг у друга одеяло. Замерев, старшина подкрался к ним, поймал одного и, стянув губы в сторону, с видимым удовольствием раза три щелкнул длинным жестким пальцем по остриженной круглой голове. Голова обиделась, губы у нее утончились и что-то зло зашептали. Таким Дима впервые увидел Ястребкова.
– Получить обмундирование! – объявил старшина.
Тесной толпой все двинулись за ним в коридор. Пошла со всеми и наказанная голова.
В каптерке старшина сказал:
– Выбирайте.
Все знали, что временно им должны были выдать ношеную и, может оказаться, даже с заплатами повседневную форму цвета хаки. Ботинки же должны дать новые, со скрипом. Новыми должны быть и ремни с медными бляхами и звездой на них. Гимнастерку и брюки предстояло выбрать сейчас из высокого вороха на полу каптерки.
– Вот хорошие. Большие. Лучше эти, – говорил будто всем и никому Хватов, копаясь в куче, щупая, отбрасывая непригодное ему. Он уже примерил не одни брюки, не одну гимнастерку. Наконец он выбрал то, что хотел, но еще раз проверил всю кучу.
Оказывалось, понял Дима, было что-то поновее и пожестче, не слишком застиранное и протершееся.
– Быстрее, быстрее шевелитесь! – торопил старшина.
Получив ремни и ботинки, вернулись в казарму. Старшина принес старую простынь, разорвал ее на узенькие полоски для подворотничков. Хватову удалось получить две полоски пошире и две иголки.
– Это будут запасные, – никому и одновременно всем сказал он, когда старшина ушел.
Подшить подворотничок оказалось не просто. Иголка колола пальцы, проскакивала сквозь тонкий ворот.
– Вот так лучше, – вслух размышлял Хватов.
Все получалось у него. К нему подходили. Он держал гимнастерку перед собой и вместе со всеми рассматривал подворотничок.
Чувство, которое испытывал Дима, было чувством неопределенности и смущения. Следовало как бы забыть себя и стать другим. Но разве не этого он хотел? Форма преображала. Пусть гимнастерка и брюки были ношеные, пусть еще не выдали погонов, но ремни были настоящие, а новые черные ботинки поскрипывали и поблескивали. Как раз то и смущало, что, остриженные и узкоплечие, все стали странно похожими и действительно другими. Само собой получалось это у Хватова. Тот долго, как портной, изучал себя, все время что-то находил не так, как почему-то было нужно. Наконец, добившись своего, он будто всем показывал и вместе со всеми рассматривал себя. Естественно все выходило и у Тихвина. Он переглянулся с Димой, словно в форме они стали еще больше заодно. Забыв о щелчках старшины, ни на кого не обращал внимания Ястребков. Он оглядывал себя сначала с досадой, везде жало ему, но, подергав то одним, то другим плечом, поворочавшись и поизгибавшись, успокоился и, удовлетворенный формой, особенно же ботинками, стал расхаживать по проходу. Теперь он замечал ребят и был доволен, что выглядел таким же.
Нет, Дима так не мог. Он встретился взглядом с Высотиным и почувствовал еще большее неудобство. Превосходство, с каким тот смотрел, не понравилось ему. Он решил выйти. В коридоре он едва не столкнулся с Брежневым. В форме тот показался ему еще внимательнее и серьезнее. Они переглянулись как уже знакомые. Дима спустился по лестнице подъезда, открыл дверь. Навстречу ударил сухой горячий воздух, и стало душно. Он огляделся, не видел ли кто, как он рассматривал себя. Нигде никого не было. Но и одному разглядывать себя было неловко.
– Мыть руки! – велел старшина. – С мылом.
Он выдал и мыло.
Распоряжение старшины обрадовало. Никогда еще так тщательно не мыл Дима лицо и руки, никогда не было ему так приятно вытирать их своим полотенцем, никогда так не хотелось ему быть чистым и аккуратным.
– Становись! – скомандовал старшина.
Сбились в кучу в проходе, вытесняли друг друга. Нужно было становиться по росту, но все лезли в середину, и старшина сам растолкал их в две шеренги.
Вдруг тополя за окнами зашумели, в казарму ворвались клубы влаги и пыли. Бурный шелест листьев и поскрипывание раскачавшихся тополей сменились густым шорохом отвесного дождя. Он почти сразу прекратился. Лучи закатного солнца осветили казарму. С ветвей стекали крупные светлые капли.
Дождь примирил всех, но строй снова неожиданно пришел в движение. Это дергали за воротник гимнастерки, подталкивали в спину, в высокий, почти у самых лопаток, зад Млотковского, а тот, ничего не понимая, втягивал голову в плечи, вжимался в строй, пятился из первой шеренги во вторую, наступал там кому-то на ботинки. Подошел старшина. Он тоже потащил Млотковского за воротник, длинными жесткими пальцами полез ему в шею. Млотковский продолжал упираться, старался за всеми спрятаться, а вокруг подталкивали и посмеивались – воротник его гимнастерки был прошит белыми нитками насквозь. Старшина не вытерпел, выдернул подворотничок, к тому же едва державшийся на одной нитке, велел:
– Подшить как следует!
Это Млотковский понял. Он прошел к тумбочке, достал иголку и нитки, сел на краешек кровати, весь поджавшись к левому плечу, и подшил подворотничок точно так же, как это уже было у него. Он лишь тогда все понял, когда старшина снова полез пальцами ему в шею, вытащил его из строя и выдернул подворотничок.
Столовая, куда их привели и тесно усадили за длинные столы, находилась в подвальном этаже. В ней было пасмурно, почти темно. Но свет включили, все загалдели и завертели головами. Застучали вилки и чайные ложки.
«Что они, не могут посидеть спокойно?» – думал Дима.
Никогда не видел он столько сверстников вместе. Никто никого не хотел слушать.
– Тихо! – крикнул старшина.
Гвалт стих.
Хватов уже жевал кусок хлеба. Жевал смачно. Он даже посыпал хлеб солью. Глядя на него, посыпал солью кусок хлеба и Ястребков, но, попробовав, тут же недовольно стряхнул соль на пол и обтер хлеб ладонью. Тихвин положил свой кусок на стол перед собой и стал ждать.
– Это не наша столовая, – сказал Хватов. – Наша наверху. Там лучше.
– Здесь солдаты едят. Завтра начнутся занятия, будем ходить в свою столовую, – сказал Высотин и всех оглядел с превосходством.
В казарму возвращались в почти полной темноте. В воздухе висела поднятая дождем пыль и пахло прелым. В казарме горел свет. На матрацах лежали тонкие стопки простыней и наволочек. В который уже раз за день Дима обрадовался. Как он мог забыть? Не могли же они спать на голых матрацах. Первым заправил постель Высотин и смотрел, как это делали другие. Как бы уже собираясь спать, с чувством приводил в порядок постель Тихвин. С недовольным видом, будто кто-то заставлял его, а он не хотел, возился с кроватью Ястребков. Но самым заметным снова был Хватов. Глядя на него, казалось, что не существовало ничего важнее, чем подтыкать края простыни под матрац, и не просто подтыкать, а натягивать простынь так, чтобы не образовалось ни одной складки, то же самое сделать со второй простынью, с одеялом, и взбить подушку помягче, попушистее.
Дима открыл глаза, увидел все в солнечных бликах длинное поле казармы, и возбуждение охватило его: сейчас продолжится его необыкновенная суворовская жизнь. Где-то играла музыка или чудилось, что играла.
«Да это горнист! – догадался он. – Это он играет нам».
Он вскочил и заправил постель. Но тут подушка перевернулась, и рука старшины отбросила одеяло с простынями. То же самое сделалось с заправленной постелью Ястребкова. Дима недоуменно взглянул на старшину, а насупившийся Ястребков, что-то недовольно шепча, снова принялся приводить постель в порядок. Тихвин оказался догадливее их. Не дожидаясь старшины, он сам откинул одеяло и простынь на спинку кровати.
– Постели не заправлять! – распорядился старшина и похоже в шутку добавил: – Проветривать надо, закиснет.
Ястребков, однако, продолжал заправлять. Когда его постель еще раз, теперь уже совершенно безжалостно и варварски, была раскидана, он оглядел старшину с откровенной неприязнью. Не сразу понял Ястребков и то, зачем понадобилось снимать гимнастерку и брюки, которые он успел напялить.
Построением командовал командир второго взвода, низенький и широкогрудый лейтенант. Всюду что-то делалось праздничное. За открытыми окнами шумели тополя. Подавали голоса невидимые птицы. Солнце светило прямо в казарму. Воздух колыхался от сквозняков.
Их вывели на аллею. На нее падала прохладная тень от здания училища, а от розово освещенного стадиона веяло теплом.
– Левое плечо вперед! – скомандовал офицер.
Пошли налево.
– Вы к-куда? Левое плечо вперед! – забеспокоился офицер и на носках сапог побежал к передним.
Оказывалось, что следовало идти не в сквер налево, а на стадион.
– А сам сказал налево, – пробурчал Ястребков.
– Бегом!
Побежали вразнобой, поднимая пыль. Снисходительно поглядывая на новичков и дружно ударяя ногами в землю, когортой пробежали мимо них суворовцы на год старше.
– Стой!
Утро стояло непривычно знойное. Голову жарко просвечивало. Ноги и тело становились неуклюжими. Ботинки посерели от пыли. Они казались странно большими, и их было жалко.
Зато после зарядки в казарме было особенно хорошо, а в умывальнике даже свежо. Здесь за окном весь в солнечных блестках тоже шелестел свой тополь. Пахло фруктовым мылом, а у дверей сапожным кремом. Дима протягивал руки под острую струю и, глядя на Хватова, брызгал себе на грудь и плечи. И вдруг внутренне задрожал, так хорошо оказалось просто умываться. Он почистил ботинки, и они снова заблестели. Потом заправил постель и надел форму. Его и Тихвина кровати стояли нетронутыми, а постели Ястребкова и Млотковского старшина раскидал. Увидев это, быстро заправил постель Млотковский. Что-то похожее на растерянность появилось на его горбоносом лице, когда старшина снова раскидал ее. Принимаясь за постель в третий раз, Млотковский стал уже вроде догадываться, что повторять то, что он уже делал, было нельзя. Движения его стали медленными и неуверенными. Наконец постель была приведена в порядок, но сделал это уже сам старшина. Вернулся из умывальника Ястребков. Он был одет, так и ходил умываться, намочить лицо. Вид растерзанной постели насторожил его. Худое круглое лицо насупилось, глаза искали обидчика. Кто это сделал? На старшину Ястребков не подумал, пока тот уже при нем не раскидал очередную заправленную постель. Так вот кто это сделал! Оттого, что он узнал это, возмущение не исчезло. Что нужно от него старшине? Что тот все пристает к нему? Разве его постель заправлена хуже других?
– Товарищ старшина, посмотрите, у нас правильно? – спросил Высотин.
– Посмотрите у меня, товарищ старшина, – сказал Хватов.
– Посмотрите, товарищ старшина, – попросил Тихвин.
Высотин ходил за старшиной. Дожидаясь одобрения, не отходил от своей кровати Хватов.
– А у меня? – не выдержал Дима.
– Хорошо. Торчит. Подушка не так. Полотенце близко, – отвечал старшина.
Как нравилось им говорить: товарищ старшина! Чаще других обращался к старшине Высотин, вертел продолговатой головой и с превосходством оглядывал остальных. Даже Ястребков заставил себя спросить:
– А теперь… правильно, товарищ старшина?
– Хорошо, – сказал тот.
Ястребков успокоился, ходил и поглядывал на свою правильно заправленную постель.
Атмосферу почтительности и примерности нарушил Млотковский. Он от кого-то убегал. Бежал странно: чем больше наклонялся, выше поднимал коленки и быстрее частил тонкими ногами, тем медленнее бежал. Ничего не видя перед собой, он влетел в дожидавшегося его старшину головой под мышку. Получая звучные щелчки, он, вместо того чтобы вырываться, с закрытыми глазами продолжал лезть прямо в старшину, потом втянул остриженную голову в плечи и затих.
– Будешь выравнивать кровати, – сказал старшина Диме. – Чтобы спинки были в одну линию.
Дима радостно принялся за дело.
– Вы куда заехали? – вдруг подошел и выговорил ему офицер. – Куда вы смотрите?
Это был не тот офицер, что водил их на зарядку. Этот был худой, с острым как нож лицом и пристальным взглядом. Он был так рассержен, будто Дима нарочно сделал что-то нехорошее. Откуда ему было знать, что спинки кроватей его третьего взвода должны составлять одну линию со спинками кроватей первого взвода, которым командовал этот офицер. Равнять же, оказывалось, следовало не только спинки, но и подушки, и сложенные треугольниками полотенца.
Высотин и Хватов оказались правы. Завтракали они в своей столовой. Здесь было светло и солнечно как на улице. Кубики сливочного масла в тарелках с холодной водой и серебристыми как роса пузырьками воздуха радовали глаз. Десятки длинных столов были накрыты синими клеенками. Запах клеенок смешивался с нагревавшимся свежим воздухом.
В классе тоже было светло как на улице.
– Вы теперь воспитанники, – сказал старшина. – Когда будут вызывать, отвечайте: воспитанник Высотин, воспитанник Тихвин…
– Встать! Смирно! Товарищ преподаватель, воспитанники третьего взвода к занятиям готовы!
– Садитесь, – разрешали преподаватели. Они смотрели на воспитанников как на кого-то одного.
После занятий и обеда Дима лежал в постели и чувствовал свое место в казарме. Так же, представлялось ему, чувствовали свои места все ребята. Каждый день теперь им предстояло действовать как одному человеку. Этого он и хотел. Ему нравилось, что его форма на табуретке была сложена хорошо и старшина не заставлял перекладывать ее. Он сейчас не просто лежал, а таким вот приятным образом выполнял обязанности суворовца. Он сейчас не принадлежал себе и был рад, что не принадлежал, что какая-то значительная и необходимая жизнь наступала для него. Подушка и простыни были свежи и будто отдавали озоном. Он задохнулся этой свежестью и озоном. Проснулся он в огне. Щеки и тело пылали. Нужно было бежать в умывальник, заправлять постель…
Свободное время. Зачем оно? Что с ним делать?
Но как вдруг засобирался Хватов! Его озабоченное лицо, ускользающе внимательные глаза, остриженная голова, вертевшаяся прямо на туловище, его будто расшатанные ноги, привыкшие к самой жесткой земле, – все говорило, что он не намеревался задерживаться в казарме.
– Пойдем в бассейн скупнемся! – позвал он.
Мельком глянув на Тихвина, Диму и Ястребкова, он увидел, что Тихвин не решался куда-то сразу бежать, что Дима, хотя и был согласен, но медлил, что Ястребков еще не сообразил, что его тоже звали. Заметив, что кто-то направился к выходу, Хватов не стал ждать и заспешил. Заспешил наконец и сообразивший Ястребков.
Дима не пошел. Не пошел и Тихвин. Ребят в казарме становилось меньше. Мимо прошли Высотин с приятелями, прошли не спеша и переговариваясь, а Высотин, явно довольный тем, что у него была компания, еще и с превосходством поглядывал на тех, кто был один. Только когда все, кого Дима как-то уже знал, покинули казарму, он посмотрел на Тихвина.
– Пойдем?
Тихвин засобирался, но так медленно, что Дима пошел один. На аллее под горячим солнцем ему сразу стало жарко и захотелось в тень. Так будет теперь все время: то жарко, то слишком свежо.
Бассейн за сквером кишел. Вылезая, купающиеся отряхивались и, обдавая брызгами, невольно заставляли отступать тех, кто не купался. Отступил и Дима. Старшие суворовцы, сразу несколько гибких загорелых тел, с разбегу прыгали в бассейн и поднимали волны. За ними прыгали младшие и выбирались по вертикальным металлическим лесенкам. От кого-то отталкиваясь, карабкался по лесенке Хватов. Он вылез, отряхнулся, побежал на другую сторону бассейна и там прыгнул. Выбрался, пропуская энергичных старших, и Ястребков. Лоб его был нахмурен, тонкие губы шевелились, глаза недовольно косили на тех, кто мешал выбираться.
– Чего не купаешься? – спросил Хватов.
Он уже успел снова вылезти и, поджав голову к плечу, заскакал сначала на одной, потом на другой ноге.
Дима спустился по лесенке. Он не умел плавать. Конечно, он мог бы попытаться, но отовсюду лезли друг на друга и прыгали купающиеся. Кто-то черно загорелый и длинный с тумбочки летел прямо на него, обдал его волной и плеснул в лицо. Дима едва удержался за стенку. Длинный еще раз плеснул в него табачно-мутной струей, солнечно засмеялся и поплыл прочь, вспенивая воду. Бассейн бурлил, вспыхивал на солнце. Старшие ребята были особенно опасны. Они оттеснили Диму на мелкое место. Здесь у стенки Дима увидел Тихвина, погружавшего себя в воду по плечи. Дима вылез. Еще прежде его вылез Тихвин, сдернул трусы и, отжав их под деревом, снова надел. Так делали все. Так сделал и Дима.
Потом было твердое без единой травинки поле с футбольными воротами, с теплой, как остывающий пепел, желтоватой пылью и лавками под кленами. Дима и здесь увидел Тихвина. Тот уже надел ботинки и сидел на лавке. Предлагая сесть рядом, Тихвин отодвинулся. Не в первый раз за эти два дня Дима почувствовал, как что-то (они оба всегда первыми выполняли команды) снова объединило их, но не сел. Не хотел просто так сидеть и смотреть, как играли в футбол старшие суворовцы. Не хотел быть вдвоем таким, каким был один.
Радовал резкий канцелярский запах учебников, тетрадей и линеек. Старшина выдал бумагу обернуть учебники. Он щелкнул по лбу Млотковского, старавшегося захватить из-за спин скучившихся у стола ребят всего побольше. Но сейчас все было получено и все были заняты.
Демонстративно долго осматривал обернутую книгу и говорил Хватов:
– Все гладко. Не задирается. Раскрывается хорошо. Теперь можно другую.
Перышек у него оказалось четыре вместо положенных двух.
– Хорошо пишет. А это лучше. Не царапает. Мягкое, – как бы про себя говорил он. – Надолго хватит. И клякс не будет.
Одного учебника не хватило Ястребкову. Тот насупился и водил по полу рассерженными глазами.
– Кто взял лишний учебник? – спросил старшина.
Все молчали.
Но учебник нашелся. У Млотковского. Ястребков взял его, но еще больше насупился, недовольно сунул книгу в ящик.
– Отдай! – вдруг всполошился Млотковский. – Это мой. Вот твой.
И протягивал старый, пользованный, захватанный учебник.
– Как дам! – разозлился Ястребков, увидев, что предлагали ему.
Млотковский не успокоился, подошел к Ястребкову, полез в стол. Этого Ястребков не вынес. Возню прекратил старшина.








