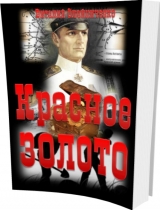
Текст книги "Красное золото"
Автор книги: Виталий Олейниченко
Жанры:
Исторические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
По телевизору пустили рекламный блок. Один известный на всю страну артист с одутловатым от беспробудного пьянства лицом искрился натянутой улыбкой и демонстрировал некий медицинский препарат, прекрасно защищающий его, известного на всю страну артиста, печень от вредоносного воздействия алкоголя. Потом на экране возникла угрюмая тетка в черном, похожая на Серафиму-Пистимею из телесериала «Тени исчезают в полдень». Она совершала сложные пассы руками – почему-то на фоне иконостаса – под вкрадчивый тенорок, извещавший о том, что почетный член («Почтенная членша» – вслух сказал я) Общества колдунов России потомственная белая ведьма Акулина Шабашская на основе древних рецептов и новейших технологий снимет похмелье, сглаз, порчу, корчи, свинку, рожу, лихорадку «Q», пляску святого Витта и беременность на любых сроках. Колдунья просипела что-то вроде: «Ноу-хау, ноу-хау…» и волкасто ощерилась напоследок. Да уж, в живую такую узришь, как разливать-то забудешь, не то что похмелье…
…А еще раньше была Люда. Люду я буду помнить, наверное, до гробовой доски, потому что ее я, по-видимому, даже любил. Во всяком случае, мне никогда не было с ней скучно, что бы мы ни делали и о чем бы ни говорили. Частенько мы спорили до хрипоты, потому что я не люблю уступать, если уверен в своей правоте, а ей, похоже, нравился сам процесс. Потом мы пили вино и она рассказывала о своем муже: получалось, что из любимого им куда больше Люды компьютера зачастую оставались торчать лишь его тощие ягодицы, что для нормальной семейной жизни, как известно, достойным подспорьем служить никак не может. Я искренне считал ее мужа идиотом, тихо радовался, что у меня нет компьютера и громко жалел ее, чего она терпеть не могла, и тогда я жалел ее потихоньку, чтобы она не заметила. Но иногда она замечала – и тут уж мне приходилось жалеть себя… Я говорил Люде, что люблю ее, но она не верила. И зря, потому что на тот момент я говорил совершеннейшую правду. А может быть, и не зря, потому что через какой-то неуловимый миг все менялось – и я уже ни в чем не был уверен. Она всегда жила завтрашним днем, а я – днем сегодняшним, а потому постоянно за ней не успевал. В общем, мы не совпадали по времени, что, впрочем, нисколько нам не мешало чувствовать себя счастливыми. Несколько раз мы расставались: то она уходила от меня, то я от нее, – но каждый раз не надолго, потому что вместе нам было тесно, а порознь – скучно…
Люду у меня отбили. Кто именно и каким образом – я не знаю, да и знать не хочу, если честно. Все это было давно, а я до сих пор вижу ее во сне, и саднит в груди что-то незаживающее. Как ранка во влажном климате.
После клыкастой Акулины показали бойкий и не очень приличный мультик, в конце которого густой бас, весьма похожий на генеральский, строго приказал пользоваться исключительно конверсионными презервативами: «…Мы семьдесят лет клепали противогазы! Доверьтесь нашему опыту, потому что ваша женщина нам доверяет!»… Жуть! Потом возникла ярко освещенная сцена, на которую, толкая друг друга локтями, суетливо выбежали некие субтильные мальчики – и телевизор пришлось выключить, чтобы не испортить себе на весь грядущий день и так не шибко радужное настроение их бодреньким «Ай-яй-яй, мочалка!» в стиле новомодной столичной группки «Руки на капот!»…
…До яркого романа с Людой у меня имел место быть долгий-долгий и достаточно ровный роман с Нелли. Не знаю, кто из родителей додумался назвать отнюдь не воздушную, а даже, напротив, несколько перекормленную девицу (она и в младенчестве была такой, я фото видел: сплошные перевязочки, даже на лбу) сим зефирическим именем, но она всячески старалась ему соответствовать. Нелли стремилась своей неземной возвышенностью заменить мне весь мир, а не могла заменить даже плохонькой столовой. Каждый раз, когда на нашем пути попадались изукрашенные пошлыми ленточками свадебные лимузины, она пребольно толкала меня локтем в бок и томно закатывала глаза. Намек был столь прозрачен, что мне немедленно хотелось сотворить что-нибудь исключительно гадостное, дабы меня поскорее разлюбили и перестали травмировать мои бедные ребра. При этом Нелли так часто интересовалась, люблю ли я ее, что от меня вообще стало ускользать значение этого высокого слова, и я на полном автомате твердил заученно: «Люблю, люблю, люблю…», как один небезызвестный попугай – про пиастры, пиастры, пиастры… А она в подтверждение оного неземного обожания постоянно ожидала и требовала от меня всевозможных геройских благоглупостей в стиле пылкого графа де Бюсси. Как-то мы катались по Шельде на прогулочном катере и когда по палубе величаво проплыла тень огромного железнодорожного моста, она с ужимками Скарлетт О`Хары поинтересовалась, могу ли я ради нее прыгнуть с этого инженерного сооружения. Я очнулся от созерцания плывущего за бортом мусора, посмотрел на Нелли с сожалением и честно ответил, что, конечно же, нет. Она, кажется, обиделась, но вопросов дурацких больше не задавала…
Зато у Нелли было одно, безусловно, наиположительнейшее качество, долгое время искупавшее ее детскую инфантильность и прочие мелкие недостатки: она совершенно бесподобно занималась сексом, не признавая никаких табу и ханжеских морализирований. Правда, сама она предпочитала говорить «занималась любовью», а я ей в перерывах между этими занятиями пытался объяснить, что заниматься можно чем угодно, но только не любовью, потому что любовь – это чувство, как дружба, например, и разве можно заниматься чувством? Ведь это же все равно, что сказать: «Давай займемся дружбой!» или «Давай займемся симпатией!», ты только представь себе, как будет выглядеть этот процесс… Вот у антиподов один Президент вместо того, чтобы заниматься сексом, занялся любовью – make love на их наречии – и чуть было, бедолага, не слетел со своего трона. А занимался бы сексом, как все белые люди, все было бы о`кей. До сих пор бы весь женский обслуживающий персонал их Белого Дома к нему в очередь бы строился, суетливо помаду с губ стирая…
Но так или иначе, мне безумно нравилось то, чем она со мной занималась, как его ни назови… Потом она меня бросила, потому что я не мог ее достойно содержать. Достойно – по ее меркам. Это было правдой, потому что я был беден. По ее меркам.
Сейчас она трудится содержанкой у одного лысенького, корявенького и толстенького, но зато широко известного в областных промышленно-политико-криминальных кругах дядечки. У дядечки есть все, что нужно: шикарная квартира, в которой, говорят, можно заблудиться; загородный коттедж, похожий на Брестскую крепость; сколько-то-сотый «Мерседес»; жена сопливого возраста – разумеется, победительница очередного конкурса, то ли «Мисс Памперс города», то ли «Мисс Тампакс города», то ли еще что-то не менее прокладочное. И, само собой, у кривенького-лысенького имеется стайка наложниц вроде Нелли, которые в его отсутствие ходят друг к другу в гости, пьют «Мартини» и хвастают хозяйскими презентами. Дабы сохранить все сие великолепие, дядечке приходится на своем «Мерсе» катать целую роту автоматчиков (они у него, по-моему, даже в багажнике сидят, с пулеметом, как в революционной тачанке). А на крыше его офиса, как утверждают знающие люди, бдит в ожидании сигнала эскадрилья штурмовиков прикрытия… Мне всегда было интересно: ради воздушно-зефирической Нелли этот дядечка сам с моста сигал, или за него это мероприятие исполнили его автоматчики, всей ротой?
Я прихлебывал обжигающе горячий кофе и погружался в воспоминания все глубже…
…Еще раньше в моей жизни безраздельно царила Лера. По-настоящему ее звали Валерия, но она собственное имя жаловала не очень и всех просила называть ее просто – Лера. Когда я, готовясь к проведению уроков, что-то писал, она присаживалась рядом и говорила: «Пиши, пиши, я тебе мешать не буду, я просто посижу здесь тихонько…», а когда я уже погружался в тему, начинала мечтательно шептать, что вот как это замечательно, когда я сижу и что-то там пишу, а она тихо-тихо, как мышка, понимаешь, сидит рядышком и молчит, молчит, молчит, потому что знает, что мне для работы необходима тишина… Потом она начинала что-то напевать или рассказывала, опять же шепотом, чтобы не мешать мне сосредоточиться на моих разложенных по всему столу бумажках, про какую-то дуру-Люську, и как та хочет понравиться шефу, а шеф, козел старый, к ней, к Лере, клинья подбивает, но только это все зря, потому что у нее есть я (вот спасибо-то мне!), но она поподробнее расскажет обо всем этом потом, когда я закончу работать, а пока она сидит молча, как и обещала, и ну ни капельки мне не мешает, правда ведь?… Потом Лера включала воду и принималась со звоном и криками «Ой! Горячая!» мыть посуду, а я сидел, тупо уставившись в нетронутые листы, и терпеливо ждал, когда же она, наконец, намолчится…
Она спрашивала, о чем я думаю, и я рассказывал ей о вечной конфронтации веры и логики – она слушала очень внимательно, а когда приходило время задать какой-нибудь вопрос по существу, спрашивала, не хочу ли я, случайно, бутерброд с сыром, потому что больше у нас все равно ничего нет, а сыр хороший, она его в гастрономе брала, в том, что за остановкой… Я замолкал на полуслове и покорно соглашался, что да, совершенно случайно и именно в этот самый момент я страстно хочу бутерброд. С сыром. И тогда она вдруг говорила, что я в корне не прав, потому что «логика» происходит от греческого «логос», а слово «вера» – исконно русского происхождения, и сравнивать их, таким образом, нельзя. Тут уж я терялся безнадежно и жалобно пытался объяснить, что сравниваю не слова, а то, что за ними стоит, но это была для Леры уж совершеннейшая высшая математика… Понять ход ее мыслей было делом абсолютно нереальным. Думаю, никакого особого хода и не было, а было в ее симпатичной головке элементарное броуновское движение обрывков фраз, услышанных когда-то давно в школе и услышанных сегодня утром в автобусе… Лера была девушкой славной, но с ужасно рассеянным вниманием: она всегда все забывала и в конечном итоге, видимо, запамятовала, что у нас существуют некие отношения. Просто однажды вдруг не пришла. Не иначе – по причине прогрессирующей забывчивости. Звонить ей и объясняться я не счел необходимым, но жалко было ужасно. До сих пор, пожалуй.
До выхода из дома оставалось еще минут десять. Я курил у полупрозрачного от грязных дождей и моей бесхозяйственности окна. Прибитый снаружи к оконной раме старенький термометр показывал минус десять – по нашим меркам и не мороз даже, а так, смех один…
…В морозном январе девяносто второго года, когда я учился на третьем курсе, в моей бурной студенческой жизни откуда-то вдруг образовалась девушка Таня. О, как же она меня любила! Чтобы пуще мне нравиться и вообще – соответствовать, она старалась перенять не только мои привычки, но и многие речевые обороты. Правда, «ибо» регулярно путала с «дабы», а «баснословно» употребляла вместо «безусловно», не чувствуя, очевидно, особой разницы. Таня считала меня ужасно умным и буквально заглядывала в рот, когда я что-то излагал. Мне это, конечно, льстило, но в целом наша любовь была похожа на летаргический сон… Недавно мы случайно пересеклись в одной компании – она вышла замуж за директора мелкого турагентства и теперь, желая сообщить, что ездила по магазинам, говорит, что у нее «был трансфер в шоп ту вэйс». Слава богу, что она не вышла за бандита или гинеколога.
Во дворе какие-то умники накопали зигзагообразных глубоких траншей (Миша сказал бы – для стрельбы стоя на лошади) и пока я их обходил, стараясь не поскользнуться и не свалиться в черную, исходящую горячим паром, глубину, раздолбанный желтый «Икарус», испустив мне в лицо сизые клубы вызывающего судорожный кашель дыма, резво укатил прямо из-под моего носа. Автобусы у нас и в лучшие времена ходили раз в пятилетку, но не идти же пешком до центра, – пришлось ждать…
…А предшествовавшая Тане Аня, напротив, сама требовала постоянного внимания, и когда ей оного внимания не оказывали в достаточной мере, принималась изображать трагичную фигуру не понятого современниками лорда Байрона. В юбке. Она произносила страстные монологи – я не реагировал, стараясь не провоцировать развитие и углубление ее душевных терзаний. Тщетно, потому что изводила она себя исключительно ради самого процесса вышеозначенных терзаний и остановить в этот момент поток ее претензий к миру (в целом) и ко мне (в частности) не смогли бы даже герои-панфиловцы. Если Аня заводилась, а я продолжал читать, она вырывала книгу у меня из рук; если я пил кофе – обливала меня кофейной гущей, – я молчал, как коммунист на допросе в деникинской контрразведке, потому что был молод и считал, что все недостатки исправимы, да к тому же и не был окончательно уверен, что это именно недостатки, а не, скажем, прихоть или легкая дурь… Каждый раз дело заканчивалось тем, что она запиралась в ванной и безутешно рыдала. Если бы нас в такие моменты мог видеть сторонний наблюдатель, он непременно окрестил бы меня Синей Бородой, а про Анюту горько процитировал из весьма мною уважаемого Пушкина:
Муж у нее был негодяй суровый.
Узнал я поздно. Бедная Инеза!
И всегда в подобные моменты мне казалось, что сквозь свои горестные вопли она чутко прислушивается: не страдаю ли я, случайно, по ней и не казню ли себя за причиненные ей невыносимые мучения. Я, разумеется, нисколько себя не казнил, особенно если по телевизору показывали интересный фильм, и тогда она заходила на второй вираж. Зачем все это было нужно, я и по сей день понять не могу…
В один прекрасный день Аня гордо вышла под вечер из залитой ее горючими слезами ванной комнаты (как еще к соседям не протекло, непонятно) и, приняв жертвенную позу Жанны д`Арк перед аутодафе, решительно изрекла: «Ростислав! (она никогда не называла меня Ростик или, к примеру, Славик, а только вот так – Ростислав)… Ростислав, – сказала она, – ты свинья!» У меня был, естественно, несколько иной взгляд на мою скромную персону, но чтобы избавить себя от непременной дурацкой сцены расставания, которую Анюта наверняка уже отрепетировала во всех деталях, с заламыванием рук и Монбланом упреков, и в которой мне совершенно недвусмысленно отводилась роль в лучшем случае поглощающего стада молодых неопытных девиц злобного Минотавра, да еще потому, что я всегда по природе своей был несколько трусоват, я с готовностью заранее признал ее правоту, вежливо извинился и мужественно удрал (из собственной квартиры, между прочим!) к Мише – пить водку за упокой очередного романа. А когда через пару дней вернулся – Анны уже не было. Не было так же ее вещей и моего двухтомника Блока, прихваченного, видимо, за отсутствием в доме произведений лорда Байрона. И совсем уж меня убило то, что на полу в прихожей лежали ножницы и – аккуратной горкой – пестрые квадратные лоскутки подаренного мне ею на 23-е февраля галстука. Блок, Байрон и ножницы вязались мало, что-то из этого, стало быть, было дурной игрой, а вот что именно, я так и не понял… Ключи она отдала соседке и та, когда я их забирал, смотрела на меня, как спартанцы на «бессмертную» гвардию персов. Думаю, с характеристикой, которая была Анной выдана на меня тете Маше, меня бы и в крематорий не впустили. Даже со своими дровами… Аня до сих пор со мной не здоровается и не разговаривает, когда мы изредка встречаемся где-нибудь в гостях у общих знакомых. То ли, как утверждает Миша, до сих пор любит, то ли просто не может простить мне своего не отыгранного бенефиса.
Стекла в автобусе были от налипшей грязи совершенно непрозрачными, в таких условиях должна хорошо развиваться клаустрофобия. В салоне пахло бензином и каталась по задней площадке случайно пропущенная старушками зеленая бутылка из-под пива. Садиться на одно из немногочисленных свободных мест я не стал из боязни уснуть – так и простоял всю дорогу, уставив нос в заоконную муть. А по ногам моим била и била настырная бутылка…
…Приблизительно в то же время прогорела безумной вспышкой артиллерийского салюта яркая и безумная, как любая вспышка, страсть между мной и одной моей однокурсницей. Вспыхнула ярко – и погасла. Так же, как сунутый в воду бенгальский огонь: шипя, но мгновенно… Инна была яркая, но серая. Этакая ярко-серая мышка. К тому же она была из тех, кого в конце восьмидесятых именовали «мажоры» (переводить не надо?) и доподлинно знала, что судьба ей предстоит такая же яркая, как она сама. Небывалая, в общем, ей была уготована будущность. Правда, в чем именно будущность сия будут заключаться, она, разумеется, объяснить не могла, только закатывала глаза и загадочно изгибала уголки губ… Ну а я, убогий, по той же классификации был, получается, абсолютный «минор» без каких бы то ни было светлых перспектив и вообще – не соответствовал. Формальным же поводом к разлуке послужила ее маленькая собачка неизвестной мне породы, черная и злая, как собака Баскервилей в масштабе один к десяти. Эта шавка повадилась хватать меня за пятки, то ли ревнуя хозяйку, то ли будучи просто излишне эмансипированной идиоткой, и однажды, когда меня совсем одолели эти пограничные провокации, я запер ее в книжный шкаф. На мой взгляд, на фоне фолиантов полного собрания сочинений известного историка Соловьева беззвучно тявкающая за стеклом тиранша смотрелась вполне импозантно, но у Инны было почему-то диаметрально противоположное мнение, мы тут же повздорили, я был немедленно отлучен от тела и изгнан – в назидание. А когда она решила меня простить, я был уже занят. В назидание. О чем, сказать по чести, иногда сожалел, ибо было в Инне нечто неуловимо-притягательное, нечто такое, на уровне флюидов, под наносной мишурой «мажорства». Но я был тогда молод и глуп, соскрести эту тонкую скорлупку не сумел – и прошел мимо…
Вообще, всегда как-то так складывалось, что дольше одной недели я бесхозным не оставался. Именно поэтому, трясясь в дребезжащем автобусе в сторону центра и обдумывая материалы кандидатской диссертации, одновременно с этим в каком-то более глубоком слое сознания я размышлял – кто и когда возьмет меня в свои нежные женские руки и пригреет на груди в течение пяти оставшихся дней.
Интересно, почему я вообще вдруг принялся вспоминать все эти жизненные перипетии?… А потому, наверное, что все наши деяния когда-нибудь в последующей жизни всплывают. И либо бьют, либо ублаготворяют. «Аукается», как говорит наш мудрый народ. Забавно, кстати – из всего вышесказанного и перечисленного должно следовать, что я какой-то ущербный. Неправильный. Но почему же я этого не чувствую?
ГЛАВА 2
«Икарус», чихнув, остановился. Меня безо всяких потерь вынесло под легкий снежок в потоке скучившихся на задней площадке пассажиров в таких же как у меня неопределенного цвета и покроя куртках и стоптанной обуви. Но это разве давка! Вот, помню, когда в институт ездили, вот это давка была! Новый корпус гуманитарных факультетов располагался на юго-западной окраине, в богом забытой новостройке, и ходил туда всего один маршрут общественного транспорта. Проседавшие брюхом до асфальта несчастные рогатые троллейбусы очень живо напоминали банки с селедкой-иваси, когда нескольким сотням спешивших в одно и то же время на лекции студентов удавалось в эти машины втиснуться. И считалось за счастье, если после поездки сохранялась на одежде хотя бы пара пуговиц…
Здание архива, серое и унылое, по фасаду занимало полквартала и ограничивалось выступающими в сторону проезжей части полукруглыми башнями, отчего в целом напоминало мрачные феодальные замки времен Гуго Капета, какими их изображают в штатовских псевдоисторических фильмах. Очевидно, проектировавший это сооружение архитектор либо был отчаянно влюблен в Средние века, либо являлся изрядным мизантропом. Сходство с цитаделью какого-нибудь лендлорда усиливалось почти полным отсутствием окон и узким, стрельчатой формы, центральным входом – только вместо закованного в тусклый металл ландскнехта с алебардой или, скажем, бородатого йомена с огромным, в рост человека, гибким луком, топтался там, в глубокой нише, неопределенного возраста малый в пятнистом армейском камуфляже и дымил вонючей отечественной сигареткой, сплевывая под ноги себе и прохожим. Ну, в этом мы от времен феодализма недалеко ушли. Можно сказать – там и сидим… Помню, этот страж ворот как-то не хотел выпускать меня из здания, когда я в очередной раз засиделся дольше обычного, мотивируя это тем, что он устал («Караул устал!» – объявил матрос Железняк депутатам Учредительного собрания и оное собрание разогнал) и ему «в лом за ключом бежать». «Бежать» ему до вахты, где хранились ключи, было при этом метра три. Таких людей встречается почему-то очень много именно среди охранников всех мастей. А впрочем, это вполне понятно: делать он ничего не умеет, жена дома пилит, футбол рекламой прерывают… В общем, мучается человек несказанно от ненужности своей и общежитейской неустроенности. А здесь – другое дело! Пост доверили, курточку выдали, как Буратине – сразу ощущается значимость личности и ее примат над всеми оными, через охраняемый этой личностью пост проходящими. И стоит добрый молодец – грудь колесом, ноги шире плеч – помойку какую-нибудь сторожит, комплексы свои реализует. Чем не средневековье? Ленин в каком-то смысле верно говорил, что Россия перепрыгнула из феодализма в социализм, минуя стадию капиталистического общества. Только забыл указать, что без этой стадии социалистическая явь от дремучего феодализма отличается только наличием метрополитена и атомной бомбы… И никуда нам от этой дикости и варварства не деться еще очень долго.
Во время учебы в институте я первое время занимался историей Северной Америки, точнее – историей гражданской войны между Севером и Югом. Тема – интереснейшая, а у нас о тех событиях никто ничегошеньки не знает, а если и знает, то исключительно по «Унесенным ветром». Книга замечательная, спору нет. Маргарет Митчелл – спасибо от лица человечества. Только пишет она в основном о судьбах отдельных людей, события же идут не более чем фоном, когда – занимательным, когда – трагичным, но именно – фоном. А между тем эти события и сами по себе достойны отдельного пристальнейшего беспристрастного изучения. Вот этим-то я и пытался заниматься два первых года обучения в институте.
А потом понял, что тему мне придется, к величайшему моему сожалению, поменять, ибо нельзя работать серьезно, не имея возможности пользоваться историческими источниками. А откуда, скажите на милость, в нашем городе могут взяться документы о дипломатических проблемах и военных действиях, приключившихся мало того, что почти сто сорок лет назад, так еще и на другой стороне планеты? А если бы и нашлись – так я английский знаю только в пределах ненормативной лексики из голливудских боевиков. Конечно, и генерал Ли, и генерал Шерманн могли теми же словечками пользоваться, и даже наверняка пользовались – под Геттисбергом, например. Но изучать-то приходится не устные сообщения, ибо диктофонов тогда и в помине не было. А всевозможные донесения они, надо полагать, писали вполне литературно, то есть – для меня совершенно не читабельно…
В общем, пришлось мне с одной гражданской войны в срочном порядке переквалифицироваться на другую – на нашу родимую, благо общие принципы возникновения и течения сих войн во многом сходны, да и проходила последняя аккурат в наших краях. И документов тех времен в городском архиве было видимо-невидимо. Разумеется, всю войну, с восемнадцатого по двадцать второй год, я рассматривать не мог, да и не почитал необходимым, честно говоря, ибо какой же я тогда историк? Хороший ученый берет лишь какой-то один аспект проблемы, но зато уж его-то изучает и разрабатывает досконально, вдоль и поперек, как старатель – богатую золотую жилу, с поднятием на свет божий всех подводных камней и развенчиванием старых мифов, коими любое достойное внимания историческое событие обрастает, как сырой пенек – мхом.
Да вот хоть, к примеру, та же самая приведшая к социалистической революции октябрьская заварушка в Петрограде… Выпили, понимаешь, дезертиры лишнего, хотели добавить – ан негде, сухой закон кругом, винные погреба закрыты-опечатаны и дородные усатые милиционеры из бывших городовых у тех запертых дверей маячат, не дают солдатам-матросам от фронтовых горестей забыться. Спасибо, нашелся добрый барин, из себя – невелик ростом, лысоват, и глаза такие добрые-добрые… Надоумил, что делать: «А идите-ка вы, – говорит так интеллигентно, – това`ищи в Зимний. Там у минист`ов-капиталистов все пог`еба от водочки ломятся, сальце, опять же, архип`иятное имеется, у т`удового на`ода подло отнятое, ну и д`угое-всякое. Так что, впе`ед, това`ищи, впе`ед! Как гово`ится – смело, това`ищи, с богом! А мы тут с Фе`иксом быст`енько базис под эт-дело подсунем и вам с б`оневичка все как есть обскажем…». В общем, самый человечный человек на тот момент оказался. Послушались мужики умного барина, да и пошли в Зимний, а заодно, чтобы два раза не бегать, почту и телеграф захватили, там у инженеров тоже было немного для технических надобностей… На улице – холод собачий, темень, а у Зимнего дворца – штабеля дров, у трудового народа, стало быть, украденных, и яркий свет из окошек льется – это, по всему видать, министры-капиталисты жируют. И видно при этом ярком свете, что дрова какие-то чудные бабы в галифе и с берданками сторожат, говорят: «Ударный батальон!». Ну, дезертиры – ребята не промах, ударниц тут же ударно и употребили по прямому назначению, а потом через дрова перелезли и во дворец вломились. Порезвились, знамо дело, в хоромах царских, как без этого… Да и то сказать – сколько лет эксплуататоры поганые кровушку народную пили. Душегубы! В общем, пообломали руки-ноги голым мраморным теткам (срамотища-то какая, прости господи!), нагадили на наборный паркет, пристрелили на спор парочку каких-то юнцов в погонах, а тут вдруг баре в пенсне откуда ни возьмись, «не трогайте Венеру!», говорят, «не плюйте на пол!», еще чего-то… Ну, их в кутузку и упрятали, пока до греха не довели. А тут «Аврора» из носового бабахнула – это оставшаяся на крейсере братва напомнила, чтобы и про них, значит, не забыли, в смысле водочки и сальца… Наутро, как проспались солдаты-матросы-дезертиры в своих казармах да флотских экипажах, как вспомнили вчерашнее – стыдно стало, сил нет. А делать нечего – эти, в пенсне, уже в СИЗО на шконках парятся. И отпустить нельзя – опять ведь жировать станут. Вчера надо б было их пристрелить, да русские люди в угаре – добрые, ежели подраться неохота. А нынче уж и рука на старых трясунов не подымется… Ильич в Смольный прибежал, остатки волос растрепаны, сам в растерянности – кто ж думал, что вчерашняя солдатская пьянка так закончится? «Стыдно-то как, това`ищи, о том ли мы в Шу-Шу мечтали… Надюша, пове`ишь ли – пошутить ведь хотел над вшами окопными, а оно вон как вышло»… Кругом кутерьма, бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу, пихается некультурно, какой-то с бородой про кипяток спрашивает, будто он, Ильич, при бойлерной сторожем служит… В общем, пошло тут по Расее триумфальное шествие Советской власти: городовому – в морду, замок с винного склада – долой, сплошное вокруг равенство, братство и, возможно, даже свобода. Понятное дело, по пьяни постреляли каких-то трезвенников… А чтобы не стыдно было смотреть в вопрошающие глаза потомков, своя братва из сидевших при Николашке козлобородых интеллигентов с верхним образованием сочинила байку про штурм Эрмитажа, перед которым взятие Карфагена римлянами или захват Константинополя крестоносцами кажутся детской возней в песочнице…
Нравится версия? Мне – не очень, но в ней много правды, а это означает, что она имеет полное право на существование. Как минимум. И «мха» в ней, кстати, ничуть не больше, чем в официальной версии большевистских историков…
Шел к финалу пятый час безвылазного сидения за заваленным папками столом. Сегодня я просмотрел огромное количество всевозможных архивных документов, отыскивая по крупицам материалы по своей тематике. Эк я сегодня ударно потрудился-то, право слово, молодец я у себя сегодня… А был бы еще больший молодец, если бы все вовремя делал, а не тянул до последнего, – подпортил мне настроение ехидный внутренний голос. Я-то, признаться, надеялся, что он хоть здесь меня третировать не будет… Вот чем ты, такой-сякой, занимался в отведенные на занятия библиотечные дни?… Я вспомнил – чем, и довольно ухмыльнулся, но тут же себя одернул и опасливо зыркнул глазами по сторонам: не видел ли кто, случайно, моей шкодливой кошачьей усмешечки? А то будут потом пальцами тыкать и о нарциссизме речи невзначай заводить… Не лыбься, не лыбься, дон Жуан ты недоделанный, – одернул меня голос, – не вытащил бы тогда Катюшу с работы, а поехал бы лучше делом заниматься вместо блуда, уже бы все и закончил… Если бы – не историческая постановка вопроса! – отбрыкнулся я от внутреннего инквизитора и помассировал пальцами переносицу.
В глазах рябили и сливались выцветшие от времени казенные строчки, отбитые в полевых штабах заскорузлыми, привычным к сапожной дратве или ружейному затвору, корявыми пальцами на расхлябанных «Ундервудах», исполненные фиолетовыми чернилами каллиграфическим почерком штабных писарей на именных бланках разбитых артиллерийским огнем провинциальных гостиниц и нацарапанные вкривь и вкось на случайных огрызках бумаги химическим карандашом на ходу, на бегу, на скаку, под шквальным огнем проигрывавшими или, наоборот, побеждавшими в жестоких междоусобных сечах рабочими, юнкерами, шахтерами, казаками, членами реввоенсоветов, генералами, комиссарами и командирами партизанских отрядов…
Спина затекла от долгого сидения в согбенной позе. Я откинулся на спинку древнего скрипучего стула – на нем, должно быть, еще земские деятели прошлого века сиживали – и шумно вздохнул. Сидевший за соседним столиком седенький старичок профессорского вида (пожалуй, только ермолки не хватало для полноты образа) оторвал близорукие глаза от пухлой папки с отчетами о проведении давно отшумевших партконференций и неодобрительно воззрился на меня – что ж вы, дескать, молодой человек, тишину и покой храма науки нарушаете?… Я миролюбиво улыбнулся в ответ. Старичок звался Марк Самуилович и был местной достопримечательностью: вот уже лет двенадцать, с тех пор, как открыли для изучения многие ранее закрытые материалы, он ходил в архив, как на работу, с утра до вечера, каждый божий день, за исключением Нового года. В далекую «первую пятилетку репрессий» ему каким-то чудом удалось уцелеть, не взирая на имя-отчество и яркую семитскую внешность – я догадывался, каким именно образом, тогда многие так спасались: «лучше друг без двух, чем сам без одной», как говорят любители преферанса. Цинично? Да. Но когда жить захочется, мне кажется, многие предпочтут стать циниками…








