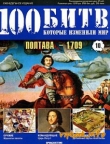Текст книги "100 великих речей"
Автор книги: Виорэль Ломов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Речь Гюго «Столетие со дня смерти Вольтера» (1878)
Французский поэт, прозаик, драматург, глава европейского романтизма, член Французской академии и палаты пэров, великий магистр масонской ложи «Приорат Сиона», депутат Учредительного и Законодательного собраний Франции Виктор Мари Гюго (1802–1885) прославился еще и как блестящий публицист-оратор. Речь, посвященная столетию со дня смерти французского философа-просветителя XVIII в., писателя, историка и публициста Вольтера (1694–1778), занимает особое место в списке самых ярких и злободневных речей Гюго.
Виктор Гюго с юности почитал Вольтера как гения Франции, хотя поначалу видел в «великом насмешнике эпохи Просвещения» «самого опасного из софистов», чьи идеи стали не причиной, а результатом общественной деградации, завершившейся Великой французской – «роковой революцией». «Это не он сделал болезнь смертельной, – писал в 1823 г. 21-летний Гюго, – но именно он вызвал ее развитие, он обострил ее приступы. Понадобился весь яд Вольтера, чтобы довести до кипения эту грязь; вот почему мы должны вменить в вину этому несчастному большую часть чудовищных вещей, творившихся во время революции. Что касается самой этой революции, она и должна была стать неслыханной. Провидение пожелало поместить ее между самым опасным из софистов и самым грозным из деспотов. На заре ее в погребальных сатурналиях появляется Вольтер; на закате из кровавой резни поднимается Бонапарт».
Прошло 55 лет, в течение которых Гюго, не раз менявший свои убеждения на диаметрально противоположные, за что был, как и Вольтер, изгоняем из Франции и хлебнул сладкую горечь эмиграции, к концу жизни стал признанным главой французской литературы. Гюго-поэт стал Гюго-трибуном, защищавшим интересы трудящихся, разоблачавшим колониальные грабежи, захватнические войны и неограниченный произвол монархов. Писатель считал себя наследником Вольтера, что разделяло и общественное мнение. В одном Гюго был верен себе: пребывая в плену идей утопического социализма и мелкобуржуазных иллюзий, он всю свою жизнь примирял непримиримые классы и проповедовал идею «всеобщего мира».
Оратор, чьи выступления производили эффект разорвавшейся бомбы, Гюго откликался на любые значительные события. «Многие речи и статьи Гюго благодаря исключительному богатству выразительных средств и умелому использованию классических приемов ораторского искусства достигают подлинной монументальности» (М.С. Трескунов). Все его выступления отличались отточенным красноречием и вызывали яростную критику со всех сторон, поскольку Гюго особо не церемонился даже с королями. Гюго ставил превыше всего себя и свое мнение. Имел право. Его речи – при вступлении во Французскую академию (1841), о смертной казни (1848), на банкете в связи с выходом в свет «Отверженных» (1862), в четвертой комиссии Сената (1877) и др. – слушали, читали и обсуждали по обе стороны Атлантики.

Виктор Гюго
Одну из своих самых прекрасных речей Гюго произнес 30 мая 1878 г. на международном съезде литераторов, организованном Обществом писателей в связи со столетием со дня смерти Вольтера. Одновременно в Париже проходила Всемирная выставка.
Президентом конгресса писателей был Виктор Гюго, вице-президентом – И.С. Тургенев. В торжествах участвовали французские писатели Э. Гонкур, А. Додэ, Г. Флобер, Г. де Мопассан, Э. Золя, русские – Л. Полонский, М. Драгомиров и др.
Юбилейное слово, посвященное Вольтеру, касалось не только прошлого Франции, но и современности, в которой «коронованные убийцы заливают мир кровью». Оратор воздал должное литературе. «О народах судят по их литературе. Двухмиллионная армия исчезает. «Илиада» остается; у Ксеркса была армия, но ему не хватало эпопеи, и Ксеркс исчез бесследно, Греция мала по территории, но велика благодаря Эсхилу. Рим – всего лишь город, но благодаря Тациту, Лукрецию, Вергилию, Горацию и Ювеналу этот город заполняет собой весь мир…».
В своей речи Гюго прославил Вольтера, «исполнявшего долг и осуществлявшего миссию», «человека-эпоху, имя которого по праву носит весь XVIII век. Рассказал о просветителях – Монтескье, Бюффоне, Бомарше, Руссо, Дидро и деятелях Великой французской революции, «благословенной и величественной катастрофы, завершившей прошлое и открывшей будущее», – Дантоне, Робеспьере, Мирабо. Затем оратор стал говорить о настоящем. Речь велика – во всех смыслах. Вот небольшой отрывок:
«Народы начинают понимать, что гигантский масштаб преступления ее может служить оправданием для преступника, что если убийство – злодеяние, то убийство многих людей не может служить смягчающим вину обстоятельством, что если воровство – позор, то и насильственный захват власти не может составить славу, что благодарственные молебны мало что доказывают, что убийство человека есть убийство человека, что кровопролитие есть кровопролитие, что имена Цезарь или Наполеон ничему не могут помочь и что в глазах Всевышнего лик убийцы не изменится от того, что вместо шапки каторжника ему на голову наденут корону императора».
Речь была встречена клерикальной прессой в штыки. Особое негодование епископа Орлеанского Дюпанлу вызвало место, где Гюго, говоря о предреволюционной эпохе, вопрошал: «Что же представлял собой народ в тот период жизни человеческого общества? Невежество. Что представляла собой религия? Нетерпимость. Что представляло собой правосудие? Несправедливость».
Гюго не ограничивался общими фразами, а приводил факты. Один из них. В 1762 г. в Тулузе осудили гугенота по сфабрикованному обвинению в убийстве собственного сына. «Правосудие работает, и вот развязка… Седовласого человека, Жана Каласа, привозят на площадь, раздевают донага, кладут на колесо… Три человека находятся на эшафоте: муниципальный советник по имени Давид, которому поручено наблюдать за казнью, священник с распятием и палач с железной полосой в руке… Палач поднимает железную полосу и раздробляет ему руку. Осужденный издает вопль и теряет сознание. Советник суетится, осужденному дают понюхать солей, и он возвращается к жизни; тогда – снова удар железной полосой, снова вопль; Калас теряет сознание; его приводят в чувство, и палач начинает все снова; и поскольку каждая рука и нога должны быть перебиты в двух местах, по каждой из них наносятся два удара, что составляет восемь казней. После восьмого обморока священник подносит к его устам распятие, но Калас отворачивает голову, и тогда палач наносит ему последний удар – он раздробляет ему грудную клетку толстым концом железной полосы. Так умер Жан Калас. Это продолжалось два часа. После его смерти было доказано, что сын покончил самоубийством. Но убийство было уже совершено. Кем? Судьями».
Епископ Орлеанский Дюпанлу опубликовал письмо, в котором оскорблял Вольтера и Гюго. Гюго ответил епископу. Ответ увенчал его речь о Вольтере.
«Милостивый государь!.. – написал он. – Вы оскорбляете Вольтера, и вы оказываете мне честь, понося меня. Это – ваше дело. О том, что мы за люди – вы и я, – будет судить будущее… Франция только что вышла из тяжелого испытания. Она была свободна; один человек[8]8
Луи-Наполеон Бонапарт (Наполеон III), император Второй империи (1852–1870).
[Закрыть] вероломно, ночью завладел ею, поверг на землю и связал по рукам и ногам. Если бы было возможно убить народ, этот человек убил бы Францию. Он довел ее почти до гибели, чтобы суметь властвовать над ней. Он начал свое царствование, если это можно назвать царствованием, с вероломства, западни и резни. Он продолжал его с помощью угнетения, тирании, деспотизма, беспримерного издевательства над религией и правосудием. Он был чудовищен и ничтожен. Ему пели «Те Deum», «Magnificat», «Salvum fac», «Gloria tibi»[9]9
Католические гимны: «Тебя, бога, хвалим», «Коль славен», «Спаси нас и помилуй», «Славься».
[Закрыть] и т. д. Кто пел эти гимны? Спросите себя. Закон отдал в его руки народ, церковь отдала в его руки бога. Во время правления этого человека рухнули право, честь, родина; он попирал ногами присягу, справедливость, честность, верность знамени, человеческое достоинство, гражданские свободы; благоденствие этого человека оскорбляло человеческую совесть. Это продолжалось девятнадцать лет. Все эти годы вы находились во дворце, а я в изгнании.
Мне жаль вас, сударь».
Пушкинская речь Достоевского (1880)
8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности по случаю открытия памятника А.С. Пушкину в Москве прозвучали речи И.С. Тургенева, А.Н. Островского, И.С. Аксакова и др. русских писателей. Самой знаменитой стала 45-минутная речь Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881). Она произвела фурор среди разнородной публики, заполнившей зал Московского Благородного собрания, и осталась в истории русской культуры под названием «Пушкинская речь Достоевского». Речь была опубликована в «Московских ведомостях» и «Дневнике писателя».
Духовным завещанием А.С. Пушкина называют стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», написанное поэтом за несколько месяцев до трагической гибели.
В день рождения Пушкина 6 июня 1880 г. в Москве был открыт памятник поэту (скульптор А.М. Опекушин). 8 июня прозвучала Пушкинская речь Достоевского. После этих двух событий пророчество Пушкина: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…», подкрепленное фразой писателя и литературного критика Аполлона Григорьева: «Пушкин – наше всё» – совершилось.
Лучше всех описал эффект, произведенный речью на слушателей, сам оратор – в письме к жене, А.Г. Достоевской: «Зала была набита битком… Я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий… Зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть вперед друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: все ринулись ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты – всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга… «Пророк, пророк!» – кричали в толпе. Тургенев… бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. «Вы гений, вы более чем гений!» – говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя есть не просто речь, а историческое событие!.. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучали меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что «Общество любителей российской словесности» единогласно избирает меня своим почетным членом. Опять вопли и крики…» И т. д. и т. п.
Что это было? Сеанс массового гипноза? Историки литературы до сих пор ломают голову, пытаясь объяснить всеобщее смятение чувств. Длилось оно, правда, недолго. Уже на следующий день появились критические отзывы о речи, в т. ч. и от тех литераторов, что пылко обнимали его и поздравляли после выступления. Были и гневные отповеди собратьев по перу – из самых разных лагерей. Речь превратила Федора Михайловича воистину в калифа на час. Пушкин сыграл тут роль Гарун-аль-Рашида. Однако и сам зал Благородного собрания повел себя совсем по-пушкински: «Ах, обмануть меня не трудно!.. / Я сам обманываться рад!» Вот только оратор никого не обманывал. Он был искренен в своем выступлении, буквально вывернувшись наизнанку.
О чем же сказал Достоевский, что так поразило всех слушателей? Читая через 140 лет эту речь, отмечаешь ее удивительную, но весьма далекую от действительной жизни архитектонику. Реальная жизнь, которую Федор Михайлович представил в этой речи в многоцветии своего писательского таланта, выглядит полной фантазией, о чем и он сам сказал не менее 10 раз. Акценты, которые расставил оратор, сегодня волнуют главным образом литературоведов.
Большую часть своей блестящей речи Достоевский посвятил Пушкину и его «Цыганам» и «Евгению Онегину». Основную же свою мысль о «всечеловечности» русского человека, самый яркий образ которого явил нам Пушкин, Достоевский приберег под занавес.

Открытие памятника А.С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 г.
«Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком… Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову Евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими… Всё это покажется самонадеянным: «Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил, благословляя», Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».
P.S. Формат книги, к сожалению, не позволяет разобрать эту воистину сказочную речь «по косточкам», но разве не фантастична, не утопична главная мысль в ней о том, что мы, живущие в XX–XXI вв., «грядущие русские люди», «все до единого», несколько раз перенесшие агрессию европейских «братьев», внесем «примирение в европейские противоречия уже окончательно»? Можно ли примирить стаю гиен с самим собой?
Речь Плевако по делу Грузинского (1883)
Юрист, разработчик основ судебной риторики в России, знаменитый московский адвокат, действительный статский советник Фёдор Никифорович Плевако (1842–1909) прославился как «гениальный оратор», «московский златоуст», «отец судебной риторики». Знали его и как благотворителя, который очень часто защищал неимущих граждан бесплатно, да еще и помогал им материально нести расходы. Многие краткие афористичные речи Плевако в защиту «малых и сирых» превратились в фольклор. Несколько обстоятельных блистательных защит при рассмотрении в судах громких дел вошли в золотой фонд адвокатского красноречия. Одной из них стала речь по «делу светлейшего князя Григория Ильича Грузинского, обвинявшегося в убийстве доктора медицины Э.Ф. Шмидта», рассмотренному 29–30 сентября 1883 г. Острогожским окружным судом (Воронежская губерния).
В комментариях к очерку о Ф.Н Плевако на сайте «Военное обозрение» попалась запись:
«Работаю адвокатом. На заре своей карьеры как-то спросил у старшего товарища, хорошего адвоката и просто порядочного человека:
– Почему сейчас в России нет выдающихся адвокатов, уровня Плевако?
На что он мне ответил:
– Потому-что в России нет выдающегося суда…»
Что тут первично – суд или адвокат, – трудно сказать, но что нет адвоката ранга Плевако – это признают все, кто имеет отношение к судебной системе и риторике, и признают уже больше 100 лет.
Дело же, в котором защитником выступил Ф.Н. Плевако, было весьма банально и явно проигрышно – адвокат поначалу даже не хотел браться за него. Но, как истинный милосердец, не мог остаться равнодушным к судьбе семи детей обвиняемого, трем из которых не исполнилось еще и 10 лет.
В умышленном убийстве обвинялся не рядовой гражданин, а светлейший князь Грузинский Григорий Ильич (1833–1899), один из потомков в третьем колене последнего царя Грузии, Георгия XII Ираклиевича. Князь владел 1317 десятинами земли в слободе Екатериновка (Стряжково) Острогожского уезда Воронежской губернии. К чести обвиняемого, князь не искал покровительства в «высших сферах», а покорно ожидал вердикта суда. В состав присяжных заседателей вошло 10 крестьян, 1 купец, 1 мещанин. Старшиной был избран крестьянин.
Плевако к тому времени был уже знаменитым адвокатом, о котором ходили легенды. Фёдор Никифорович выигрывал дела скрупулезными доказательствами либо виртуозными экспромтами. Хрестоматийной стала история о старушке, укравшей жестяной чайник стоимостью 30 коп. По свидетельству писателя В.В. Вересаева, на суде прокурор решил утереть нос Плевако и сам перечислил аргументы защиты: «Старая больная женщина, горькая нужда, кража незначительная, обвиняемая вызывает жалость, а не негодование», однако, верный себе, изрек: «Все же собственность является священной, и, если позволить посягать на нее, страна погибнет».
Плевако не остался в долгу. «Много бед и испытаний пришлось претерпеть России более чем за тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двенадцать языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь… старушка украла чайник ценой в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно». Суд оправдал бедную старушку.
Обстоятельства дела князя Г.И. Грузинского таковы.
В 1865 г. князь познакомился в московской кондитерской Трамблэ с Ольгой Фроловой, красавицей-продавщицей, стал жить с ней. После рождения двух мальчиков Грузинский, несмотря на сопротивление своей матери, женился на Ольге. Появились еще дети. Князь нанял гувернера – доктора Э.Ф. Шмидта, который вскоре вступил в близкие отношения с княгиней. Узнав об этом, Григорий Ильич уволил гувернера и, по настоянию жены, отдал ей половину своего состояния. Супруга забрала двух младших девочек, а любовника пригласила к себе управляющим имения. Грузинскому были ограничены возможности для свиданий с детьми, но деньги на их содержание вымогались. Шмидт требовал от девочек, чтобы они называли его «отцом», а настоящего отца при них обзывал «подлецом». Как-то Ольге понадобилось на несколько дней отлучиться из дома. Князь хотел взять девочек на время к себе, но Шмидт стал вымогать за это деньги. Всё же девочки настояли, чтобы тот отпустил их к отцу, пока матери нет. Когда дочкам понадобилась свежая перемена белья, Грузинский написал Шмидту письмо с просьбой выдать белье, но тот ответил оскорбительным отказом. Князь поехал к Шмидту, который поджидал его с заряженным ружьем, стал стучать в дверь. Шмидт передал Грузинскому записку: «Пусть подлец уходит, не смей стучать, это мой дом! Убирайся, стрелять буду». Князь в гневе разбил окно и застрелил управляющего из револьвера.

Ф.Н. Плевако выступает с речью.
Фото второй пол. XIX в.
Плевако строил свои речи как искусный полководец, каждый раз сообразуясь с текущими обстоятельствами. На этот раз адвокат предложил присяжным взглянуть на события глазами человека обманутого, обобранного и униженного женщиной, которую он искренне любил и которой всецело доверял, оскорбленного ее наглым торжествующим любовником, истинным подлецом в этой истории. А еще защитник предложил взглянуть на происходящее глазами несчастных детей, которые принуждены были сносить это. Перед присяжными Плевако разыграл – нет, пережил сам настоящую трагедию, логика которой сводилась к тому, что именно беспардонное поведение бывшей жены и ее любовника ввели князя в состояние аффекта, в котором он и совершил убийство. Адвокат настолько убедительно и последовательно доказал отсутствие в действиях князя умысла, что напрашивался однозначный вывод: преступление совершено в состоянии умоисступления.
Во время речи Плевако некоторые присяжные, даже закаленные в судебных разбирательствах, прослезились. Суд полностью оправдал князя.
Из-за невозможности привести эту речь, настоящий перл прозы, полностью ограничимся одним отрывком (с сокращениями) в ее концовке – не содержательным, а философским, если угодно.
«Справиться с этими чувствами князь не мог. Слишком уж они законны, эти им овладевшие чувства…
Есть моменты, когда душа возмущается неправдой, чужими грехами, возмущается во имя нравственных правил, в которые верует, которыми живет, – и, возмущенная, поражает того, кем возмущена…
Есть состояние еще более извинительное. Это – когда поступок ближнего оскорбляет и нарушает священнейшие права, охранять которые, кроме меня, некому и святость которых мне яснее, чем всем другим.
Муж видит человека, готового осквернить чистоту брачного ложа; отец присутствует при сцене соблазна его дочери; первосвященник видит готовящееся кощунство, – и, кроме них, некому спасти право и святыню. В душе их поднимается не порочное чувство злобы, а праведное чувство отмщения и защиты поругаемого права. Оно – законно, оно свято; не поднимись оно, они – презренные люди, сводники, святотатцы!
От поднявшегося чувства негодования до самовольной защиты поруганного права еще далеко. Но как поступить, когда нет сил и средств спасти поруганное, когда внешние, законные средства защиты недействительны. Тогда человек чувствует, что при бессилии закона и его органов идти к нему на действительную помощь, он – сам судья и мститель за поруганные права! Отсюда необходима оборона для прав, где спасение – в отражении удара; отсюда неодолимое влечение к самосуду, когда право не защитимо никакими внешними усилиями власти.
И вот такие-то интересы, как честь, как семья, как любовь детей, самые святейшие и самые дорогие, в то же время оказываются – раз они нарушены – самыми невознаградимыми… Самые священные – в то же время самые беззащитные интересы!
Вот и поднимается под давлением сознания цены и беззащитности поруганного права рука мстителя, поднимается тем резче, чем резче, острее вызывающее оскорбление.
Если это оскорбление разнообразно, но постепенно, то оскорбленный еще может воздержаться от напора возмущающих душу впечатлений, побеждая каждое врозь от другого. Но если враг вызывает в душе своими поступками всю горечь вашей жизни, заставляет в одно мгновение все перечувствовать, все пережить, то от мгновенного взрыва души, не выдержав его, лопнут все сдерживающие его пружины.
Так можно уберечь себя проходящему от постепенно падающих в течение века камней разрушающегося здания. Но если стена рухнет вдруг, она неминуемо задавит того, кто был около нее.
Вот что я хотел сказать вам».