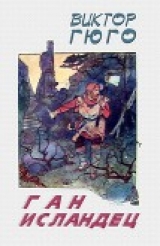
Текст книги "Ган Исландец"
Автор книги: Виктор Гюго
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Тут ученое рвение его грубо было прервано палачом.
– Клянусь честью, я этого и не подозревал! Ученый аббат, о котором вы упомянули, почтеннейший, до сих пор утаивал от меня эти прекрасные права, так обольстительно обрисованные вами… Но господа, – продолжал Оругикс, – оставив в стороне нелепости старого сумасброда, карьера моя действительно не удалась. Теперь я не более как бедный палач бедного округа, а между тем было время, когда я мог затмить славу Стиллисона Дикого, знаменитого палача московитов. Поверите ли вы, что именно мне двадцать четыре года тому назад поручено было привести в исполнение приговор над Шумахером.
– Над Шумахером, графом Гриффенфельдом! – вскричал Орденер.
– Это вас удивляет, господин немой. Да, над Шумахером, которого судьба может опять толкнуть в мои руки, в случае если король вздумает отменить отсрочку… Опорожним по кружечке, господа, и я расскажу вам каким образом начав так блистательно, я кончаю так скромно свою деятельность.
В 1676 году служил я у Рума Стуальда, королевского палача в Копенгагене. В то время как осужден был граф Гриффенфельд, хозяин мой захворал и, благодаря протекции, мне поручено было заместить его при исполнении приговора. 5-го июня – никогда не забуду этого дня – с пяти часов утра я воздвиг при помощи плотника большой эшафот на площади цитадели и обил его трауром в знак уважение к осужденному. В восемь часов представители дворянства окружили эшафот и шлезвигские уланы сдерживали напор толпы, теснившейся на площади. Кто не возгордился бы на моем месте! С топором в руке прохаживался я по эстраде. Взгляды всех были устремлены на меня: в эту минуту я был самое важное лицо обоих королевств. Карьера моя обеспечена, – говорил я себе, – что поделала бы без меня вся эта знать, поклявшаяся низвергнуть Шумахера? Я уже воображал себя титулованным королевским палачом, имел уже слуг, привилегии… Чу! В крепости пробило десять часов. Осужденный вышел из тюрьмы, прошел площадь твердыми шагами, спокойно поднялся на эшафот. Я хочу связать ему волосы, он оттолкнул меня и сам оказал себе эту последнюю услугу. «Давно уже, – улыбаясь, заметил он настоятелю монастыря святого Андрея, – давно уже я не причесывался сам». Я подал ему черную повязку, он презрительно отказался, но презрение его относилось не ко мне. «Друг мой, – заметил он мне, – быть может, еще в первый раз сходятся так близко два крайних служителя правосудия, канцлер и палач». Эти слова неизгладимо врезались в мою память. Оттолкнув черную подушку, которую я хотел подложить ему под колени, он обнял священника и опустился на колени, проговорив громким голосом, что умирает невинный. Тогда ударом молота разбил я щит его герба, провозгласив обычную формулу: это не делается без основательной причины. Такое бесчестие поколебало твердость графа; он побледнел, но тотчас же сказал: «Король дал мне, король может и отнять».
Он склонил голову на плаху, устремив взор на восток; а я, обеими руками взмахнул и топор… Слушайте! В это мгновение услыхал я крик: «Помилование, именем короля! Помилование Шумахеру!» Я обертываюсь и вижу адъютанта, несшегося во весь опор к эшафоту, размахивая пергаментом. Граф поднялся не с радостным, но довольным видом. Пергамент в его руках. «Праведный Боже! – вскричал он. – Вечное заключение! Их милость тяжелее смерти». В унынии спустился он с эшафота, тогда как всходил на него с спокойным духом. Для меня такой исход дела не имел никакого значения. Я и представить себе не мог, что спасение этого человека будет моей гибелью. Разобрав эшафот, я возвратился к хозяину, все еще полный надежд, хотя и не рассчитывал получить золотой экю, цену срубленной головы. Однако, дело этим не кончилось. На другой день я получил приказание выехать из столицы и диплом палача Дронтгеймского округа! Палач округа и притом последнего округа Норвегии! Видите, господа, к каким важным последствиям приводят незначительные обстоятельства. Враги графа, желая выказать свое милосердие, все так устроили, чтобы помилование опоздало. Они ошиблись в какой-нибудь минуте. Меня обвинили в медленности, как будто прилично было не дать знатному узнику насладиться несколькими мгновениями перед смертью! Как будто королевский палач, совершающий казнь великого канцлера, мог действовать без достоинства и поспешно, подобно провинциальному палачу, вешающему жида! В добавок присоединилось и недоброжелательство. У меня был брат, который, может быть, жив еще и теперь. Переменив имя, он втерся в дом нового канцлера, графа Алефельда. Присутствие мое в Копенгагене стесняло презренного, который ненавидел меня, быть может, потому что раньше или позже мне придется его повесить.
Тут словоохотливый рассказчик остановился дать волю своей веселости, потом продолжал:
– И так, любезные гости, я помирился с моей участью. Да на кой чорт быть честолюбивым! Здесь я добросовестно исполняю свое ремесло; продаю трупы, или Бехлия делает из них скелеты, которые покупает Бергенский анатомический кабинет. Смеюсь над всем, даже над этой несчастной бабой цыганской, которую уединение сводит с ума. Мои три наследника подрастают в страхе к дьяволу и виселице, моим именем стращают ребят в Дронтгеймском округе. Синдики снабжают меня колесницей и красной одеждой. Проклятая башня защищает меня от дождя подобно епископскому дворцу. Старые попы, которых приводит сюда буря, читают мне проповеди, ученые льстят мне. Словом, я так же счастлив, как и всякий другой: пью, ем, вешаю и сплю.
Оканчивая свою речь, палач прерывал ее глотками пива и взрывами шумной веселости.
– Он убивает и спит! – прошептал священник. – Несчастный!
– Как счастлив этот бедняк! – вскричал отшельник.
– Да, брат отшельник, – согласился палач, – я так же беден, как и ты, но счастливее тебя. Право, ремесло хоть куда, если бы только завистники не уничтожали его выгод. Представьте себе, не знаю, какая то именитая свадьба внушила вновь назначенному Дронтгеймскому священнику мысль просить помилование двенадцати осужденным, которые принадлежат мне?..
– Принадлежат тебе! – вскричал священник.
– Само собою разумеется. Семеро должны быть высечены, двое заклеймены в левую щеку и трое повешены, а это составляет двенадцать… да двенадцать экю и тридцать аскалонов, которые я потеряю, если просьба увенчается успехом. Как вам нравится, господа, этот священник, распоряжающийся моим добром? Зовут этого проклятого попа Афанасий Мюндер. О! Пусть только он попадет в мои лапы!
Священник встал из-за стола и спокойным голосом произнес.
– Сын мой, я Афанасий Мюндер.
При этих словах глаза Оругикса гневно сверкнули, и он быстро вскочил с своего места. Разъяренный взгляд его встретился с спокойным, добродушным взором священника, и он снова опустился на свое место медленно, молча и смущенно.
На минуту воцарилось молчание. Орденер, тоже поднявшийся из-за стола, чтобы защитить священника, первый прервал его.
– Николь Оругикс, – сказл он, – вот тринадцать экю, которые вознаградят вас за помилованных преступников…
– Увы! – прервал его священник, – кто знает, удовлетворят ли мое ходатайство! Мне необходимо поговорить с сыном вице-короля, все зависит от брака его с дочерью канцлера.
– Батюшка, – отвечал молодой человек твердым голосом, – я добьюсь этого. Орденер Гульденлью не примет обручального кольца, прежде чем не будут разбиты оковы ваших узников.
– Молодой чужестранец, что можете вы сделать; но да услышит и да вознаградит вас Создатель!
Между тем тринадцать экю Орденера дополнили эффект, производимый взором священника. Николь вполне успокоился, прежняя веселость вернулась к нему.
– Послушайте, преподобный отец, вы славный малый и достойны исправлять должность священника в капелле Святого Иллариона. Я совсем не думал того, что говорил про вас. Вы идите прямо по своей дороге и не ваша вина, если она перекрещивается с моей. Но вот до кого я действительно добираюсь, это хранитель трупов в Дронтгейме, старый колдун, смотритель Спладгеста… Как бишь его зовут-то? Спиагудри?.. Спиагудри?.. Скажите мне, мой древний ученый, вавилонская башня знания, вам ведь все известно, не поможете ли вы мне вспомнить имя этого колдуна, вашего собрата? Вы должны были встречаться с ним на шабашах, гарцуя верхом на помеле.
Конечно, если бы в эту минуту злополучный Бенигнус мог улететь на каком-нибудь подобном воздушном коне, несомненно, он с радостью вверил бы ему свое бренное, перепуганное существо. Никогда любовь к жизни не проявлялась в нем с такой силой, как с той минуты, когда все органы чувств стали убеждать его в грозной опасности. Все окружающее ужасало его; мысль о проклятой башне, свирепый взгляд красной женщины, голос, перчатки, питье таинственного отшельника, отважная неустрашимость его юного спутника, и, к довершению всего, палач; палач, в логовище которого попал он, убегая, чтобы не поплатиться за преступление. Он дрожал так сильно, что все волевые движение были у него парализованы, в особенности, когда разговор зашел о нем и когда страшный Оругикс обратился к нему с вопросом.
Так как он не имел ни малейшего желание подражать героизму священника, его онемевший язык отказывался ему служить.
– Ну что же! – повторил палач. – Знаете вы имя смотрителя Спладгеста? Уж не оглохли ли вы под тяжестью вашего парика?
– Немножко, милостивый государь… Но, – решился он наконец ответить, – клянусь вам, я не знаю его имени.
– Он не знает! – страшным голосом промолвил отшельник. – Он лжет, хотя и клянется. Этого человека зовут Бенигнус Спиагудри.
– Меня! Меня! Великий Боже! – с ужасом застонал старик.
Палач покатился со смеху.
– Да кто вам сказал, что вас? Мы говорим о том язычнике, смотрителе Спладгеста. Решительно, этот педагог боится всего. Вот была бы потеха, если бы эти дурацкие гримасы имели сериозное основание. Этот старый сумасброд прекомично болтался бы на виселице… Ну-с, уважаемый ученый, – продолжал палач, наслаждаясь испугом Спиагудри, – так вы не знаете Бенигнуса Спиагудри?
– Нет, милостивый государь, – отвечал смотритель Спладгеста, несколько успокоенный своим инкогнито, – уверяю вас, я совсем не знаю его. И мне вовсе неприятно будет познакомиться с человеком, имевшим несчастие прогневить вас.
– А вы, отшельник, – продолжал Оругикс, – кажется вы знаете его?
– Да, отлично, – ответил отшельник, – это человек высокого роста, старый, сухощавый, плешивый…
Спиагудри, страшно встревоженный этим перечислением примет, с живостью поправил на голове свой парик.
– Руки у него, – продолжал отшельник, – длинные, как у вора, дней восемь не встречавшего путешественника, спина сгорбленная…
Спиагудри выпрямился сколько мог.
– Словом, его можно было бы принять за один из трупов, которые он стережет, если бы не пронзительный взор его глаз…
Спиагудри схватился рукой за свой спасительный пластырь.
– Спасибо, отец, – поблагодарил палач отшельника, – где бы мы с ним не встретились, я сразу узнаю теперь старого жида…
Спиагудри, считавший себя добрым христианином и возмущенный такой нестерпимой обидой, не мог удержаться от восклицания:
– Жида, милостивый государь!..
Он тотчас же умолк, с ужасом чувствуя, что проговорился.
– Да, жида или язычника; не все ли равно, если он, как слышно, знается с чортом!
– Я легко бы поверил этому, – возразил отшельник с сардонической усмешкой, которую не вполне скрывал его капюшон, – не будь он завзятым трусом. Где ему знаться с сатаною! Он настолько же труслив, насколько зол. Когда он струсит, он не узнает даже самого себя.
Отшельник говорил медленно, как бы изменяя свой голос, и это придавало особенную выразительность его словам.
– Не узнает самого себя, – повторил про себя Спиагудри.
– Отвратительно, когда злодей вдобавок становится трусом, – заметил палач, – его даже не стоит ненавидеть. С змеей надо бороться, ящерицу же достаточно растоптать ногами.
Спиагудри рискнул сказать несколько слов в свою защиту.
– Но, господа, разве вы действительно убеждены в том, что говорите об этом должностном лице? Его репутация…
– Репутация! – подхватил отшельник. – Самая гнусная репутация во всем округе!
Обескураженный Бенигнус обратился к палачу:
– Милостивый государь, в каких преступлениях обвиняете вы его? Без сомнения ваша ненависть должна иметь серьезные основания.
– Справедливое мнение, старина. Так как наши коммерческие интересы сталкиваются, Спиагудри не упускает случая, чтобы не напакостить мне.
– О! Господин, не верьте этому!.. Но если бы даже это было справедливо, очевидно этот человек не видал вас, как я, в кругу семьи, с прелестной супругой и восхитительными детьми, гостеприимно принимающего чужестранцев у своего домашнего очага. Если бы ему, подобно нам пришлось воспользоваться вашим любезным радушием, этот несчастный не был бы вашим врагом.
Лишь только Спиагудри кончил свою ловкую речь, высокая женщина, до сих пор не проронившая ни слова, поднялась и сказала торжественным, саркастическим тоном:
– Нет ничего ядовитее жала ехидны, вымазанного в меду.
Она снова села у очага и продолжала оттачивать щипцы, хриплый и визгливый звук которых, мучительно поражая в промежутках разговора слух четырех путников, походил на хор греческой трагедии.
– Право, эта женщина помешалась, – пробормотал Спиагудри, не зная, как иначе объяснить себе такой плохой эффект своей лести.
– Бехлия права, седовласый ученый! – вскричал палач. – Я поверю, что у вас жало ехидны, если вы станете еще защищать этого Спиагудри.
– Избави Боже, хозяин! – подхватил тот. – Я совсем не защищаю его!
– Тем лучше. Вы понятие не имеете, до чего доходит его наглость. Верите ли, этот нахал смеет оспаривать у меня право на голову Гана Исландца?
– Гана Исландца!.. – резко повторил отшельник.
– Ну да! Знаете вы этого знаменитого разбойника?
– Знаю, – отвечал отшельник.
– Ну-с, каждый разбойник составляет собственность палача, не так ли? Что же теперь придумал этот адский Спиагудри? Он просит, чтобы голова Гана была оценена…
– Он просит, чтобы голова Гана была оценена? – переспросил отшельник.
– Да, он дерзнул на это, и единственно для того, чтобы тело попало в его лапы, а я лишился своих выгод.
– Какая подлость, Оругикс, решиться оспаривать то, что очевидно составляет твою собственность!
Злобная усмешка, сопровождавшая эти слова, ужаснула Спиагудри.
– Проделка тем более низкая, брат отшельник, что мне во что бы то ни стало необходимо казнить такого человека, как Ган, чтобы выйти из неизвестности и составить себе карьеру, которой не сделала мне казнь Шумахера.
– В самом деле, хозяин Николь?
– Да, брат отшельник. Приходите сюда в день ареста Гана, мы заколем жирную свинью в честь моей будущей славы.
– Охотно; но почем знать, может быть я не буду свободен в этот день? А затем, не ты ли сам только что посылал к черту честолюбие?
– Еще бы, когда я вижу, что достаточно какого-нибудь Спиагудри и прошение оценить голову, чтобы рассеять в прах самые верные мои расчеты.
– А! – подхватил отшельник странным тоном. – Так Спиагудри просит оценить голову!
Голос его производил на злополучного смотрителя такое же действие, какое производит на птицу взгляд жабы.
– Господа, – сказал он, – зачем судить так опрометчиво. Все это может быть неверно, быть может ложный слух…
– Ложный слух! – вскричал Оругикс. – Напротив, дело ясно как день. Прошение синдиков, скрепленное подписью смотрителя Спладгеста, получено уже в Дронтгейме. Ждут только решение его превосходительства генерал-губернатора.
Палач видимо знал всю подноготную, так что Спиагудри не посмел более оправдываться и в сотый раз принялся внутренно проклинать своего молодого спутника. Но каков был его ужас, когда отшельник, после нескольких минут размышление, вдруг спросил насмешливым тоном:
– Скажи-ка, хозяин Николь, какое наказание положено за святотатство?
Эти слова произвели на Спиагудри такое действие, как будто с него сорвали пластырь и парик. С тоской ждал он ответа Оругикса, который не торопясь опоражнивал свой стакан.
– Это смотря по тому, в чем состояло святотатство, – ответил палач.
– Ну, положим, поругание мертвеца?
С минуты на минуту, дрожащий от ужаса Бенигнус ожидал, что отшельник назовет его по имени.
– В былое время, – хладнокровно отвечал Оругикс, – святотатца закапывали в землю живым вместе с поруганным трупом.
– А теперь?
– Теперь наказание легче.
– Легче! – повторил Спиагудри, едва дыша.
– Да, – продолжал палач с довольным и небрежным видом артиста, говорящего о своем искусстве, – сперва каленым железом клеймят ему икры буквою С…
– А потом? – чуть не вскрикнул старый смотритель, над которым было бы затруднительно произвести эту часть наказания.
– А потом, – продолжал палач, – довольствуются его повешанием.
– Пощадите! – вскричал Спиагудри, – повесить человека!
– Что это с ним? Он смотрит на меня с видом преступника, взирающего на виселицу.
– С удовольствием вижу, – заметил отшельник, – что люди возвращаются к правилам гуманности.
В эту минуту стихнувшая буря позволила отчетливо различить ясный, прерывистый звук рога.
– Николь, – заметила жена палачу, – это погоня за каким-нибудь злодеем, это рог полицейских.
– Рог полицейских! – повторил каждый из присутствующих с разнообразным оттенком в голосе, а Спиагудри с выражением величайшего ужаса.
В ту же минуту кто-то постучался в дверь башни.
XIII
Левиг, большое селение, расположенное на северном берегу Дронтгеймского залива, примыкает к цепи низких холмов, голых или причудливо испещренных участками обработанной земли, подобно мозаичной плоскости, сливающейся с горизонтом.
Селение представляет невеселый вид. По обеим сторонам узких, извилистых улиц лепятся деревянные и тростниковые хижины рыбаков, конические землянки, где доживают остаток своих дней дряхлые рудокопы, которым сбереженная на черный день копейка позволяет отдохнуть на старости лет; легкие срубы, которые охотник за сернами кроет соломой и обивает звериными шкурами, по возвращении с охоты.
На площади, где видны теперь развалины большой башни, возвышалась тогда древняя крепость, воздвигнутая Гордою, метким стрелком, владетелем Левига и соратником языческого короля Гольфдана. В 1698 году в ней жил синдик селение, пользовавшийся самым лучшим жилищем, которое уступало лишь жилищу серебряного аиста, каждое лето гнездившегося на остроконечной колокольне церкви, подобно белому шарику на заостренной шапке мандарина.
В тот самый день, когда Орденер прибыл в Дронтгейм, в Левиге высадился незнакомец, сохранявший строжайшее инкогнито. Его золоченые носилки, не имевшие впрочем герба, его четыре рослых лакее, вооруженных с ног до головы, сразу сделались предметом любопытства и толков левигского населения.
Хозяин «Золотой Чайки», маленькой таверны, где остановился этот вельможа, тотчас принял таинственный вид и на все вопросы отвечал: «Не знаю» – таким тоном, каким говорят: я-то все знаю, но вы не узнаете ничего. Рослые лакеи были немее рыб и мрачнее отверстие шахты.
Синдик заперся сперва в своей башне, ожидая по своему сану, что незнакомец первый сделает ему визит. Однако вскоре поселяне с удивлением приметили, как он дважды тщетно пытался пробраться в «Золотую Чайку» и напрасно выжидал приветствие путешественника, сидевшего у открытого окна таверны. Кумушки заключили из этого, что незнакомец открыл синдику свой высокий сан, но ошиблись. К синдику являлся только лакей незнакомца визировать паспорт своего барина, и синдик успел рассмотреть на зеленой восковой печати пакета два сложенные накрест жезла, поддерживающие горностаевую мантию, увенчанную графской короной на щите, вокруг которого обвиты были цепи ордена Слона и Даннеброга. Этого наблюдение достаточно было для сметливого синдика, страстно желавшего добиться у главного канцлера должности синдика Дронтгеймского округа. Но он скоро разочаровался в своих ожиданиях, так как вельможа не принимал никого.
Вечером на второй день по прибытии путешественника в Левиг, содержатель гостиницы вошел в его комнату с низким поклоном и доложил о гонце, ожидаемом его светлостью.
– Пусть войдет, – сказал его светлость.
Минуту спустя, гонец вошел, старательно запер дверь и поклонившись до земли незнакомцу, в почтительном молчании ожидал, пока с ним заговорят.
– Я ждал вас сегодня утром, – промолвил вельможа, – что такое задержало вас?
– Интересы вашей милости, граф, у меня нет других.
– Что делает Эльфегия, Фредерик?
– Оне в вожделенном здравии…
– Да, да, – нетерпеливо перебил граф, – нет ли у вас чего-нибудь интереснее? Что нового в Дронтгейме?
– Решительно ничего, за исключением того, что барон Торвик вчера прибыл туда.
– Да, я знаю, он хотел посоветоваться с этим мекленбуржцем Левиным на счет предполагаемого брака. Может быть вам известен результат свидание его с губернатором?
– До моего отъезда, сегодня в полдень, он еще не виделся с генералом.
– Что! Ведь он прибыл накануне! Я не понимаю вас, Мусдемон; виделся ли он с графиней?
– Тоже нет, граф.
– Значит только вы видели его?
– Нет, милостивый граф. К тому же я не знаю его в лицо.
– Так каким же образом, если никто его не видел, знаете вы, что он в Дронтгейме?
– От его слуги, который прибыл вчера в губернаторский дворец.
– А сам он остановился где-нибудь в другом месте?
– Его слуга уверяет, что по прибытии в Дронтгейм он заходил в Спладгест, а потом переправился на лодке в Мункгольм.
Глаза графа сверкнули.
– В Мункгольм! В тюрьму Шумахера! Правда ли это? Я всегда думал, что этот честный Левин окажется изменником. В Мункгольм! Что он там забыл? Уж не за советом ли Шумахера? Или…
– Милостивый граф, – перебил вдруг Мусдемон, – еще неизвестно наверно, туда ли он отправился.
– Что такое! Да ведь вы же сами сказали сейчас? Уж не вздумали ли вы шутить со мною.
– Простите, ваше сиятельство, но я повторил вам только то, что сказал слуга барона. А господин Фредерик, который был вчера на дежурстве в башне, не видал там барона Орденера.
– Хорош довод! Да мой сын совсем не знает сына вице-короля. Орденер мог войти в крепость инкогнито.
– Совершенно справедливо, но господин Фредерик утверждает, что он не видел ни одной живой души.
Граф по-видимому успокоился.
– Это другое дело, но действительно ли мой сын уверен в этом?
– Он повторил мне это три раза; притом интересы господина Фредерика вполне отвечают интересам вашего сиятельства.
Этот последний довод окончательно успокоил графа.
– А! – вскричал он. – Я догадываюсь, в чем дело. По прибытии в Дронтгейм, барону захотелось прогуляться по заливу, а слуге показалось, что он отправился в Мункгольм. В самом деле, что ему там делать? Как глупо было с моей стороны так встревожиться. Напротив, эта непочтительность моего будущего зятя относительно старого Левина доказывает, что дружба их совсем не так сильна, как я опасался. Верите ли, любезный Мусдемон, – продолжал граф, улыбаясь, – я уж вообразил себе, что Орденер влюбился в Этель Шумахер, и на этой поездке в Мункгольм построил целую любовную интригу. Но, благодаря Богу, Орденер не так сумасброден, как я… Кстати, мой милый, что сделал Фредерик с этой юной Данаей.
Относительно Этели Шумахер Мусдемон вполне разделял опасения своего патрона и хотя боролся с ними, однако не мог так легко их преодолеть. Однако приметив веселое настроение графа, он не хотел тревожить более его беспечность, а напротив, постарался усилить ее в нем, зная, как выгодно для фаворита поддержать милостивое расположение вельможи.
– Высокородный граф, вашему сыну не повезло с дочерью Шумахера; но, кажется, другому более посчастливилось.
Граф с живостью прервал его.
– Другому! Кому же?
– Не знаю, какой-то мужик или вассал.
– Да верно ли? – вскричал граф, суровая и мрачная наружность которого просияла от радости.
– Господин Фредерик заверил в этом меня и благородную графиню.
Граф поднялся и стал расхаживать по комнате, потирая себе руки.
– Мусдемон, любезный Мусдемон, еще одно усилие и мы достигнем цели. Отпрыск дерева засох, нам остается лишь срубить самый ствол. Нет ли еще каких новостей.
– Диспольсен убит.
Физиономия графа окончательно просветлела.
– А! Посмотрите, мы станем одерживать одну победу за другой! Были при нем бумаги? В особенности железная шкатулка?
– С прискорбием вынужден сообщить вашему сиятельству, что не наши клевреты покончили с ним. Он был убит и ограблен на Урхтальских берегах; и это преступление приписывают Гану Исландцу.
– Гану Исландцу! – повторил граф, лицо которого омрачилось. – Как! Этому знаменитому разбойнику, которого мы хотели поставить во главе возмущения!
– Ему, ваше сиятельство. Но после того, что я узнал о нем, я опасаюсь, что нам не легко будет разыскать его. Я на всякий случай уже подыскал предводителя, который примет его имя и в состоянии будет заменить Гана Исландца. Это одичалый горец, высокий и крепкий как дуб, свирепый и отважный, как волк снеговых пустынь. Вряд ли, чтобы этот грозный гигант не был похож на Гана.
– Так Ган Исландец высокого роста? – спросил граф.
– Так по крайней мере описывают его, ваше сиятельство.
– Я всегда изумлялся, любезный Мусдемон, искусству, с каким вы все устраиваете. Когда же вспыхнет восстание?
– О! В самом непродолжительном времени, ваше сиятельство; быть может даже в эту минуту. Рудокопы давно уже тяготятся королевской опекой и с радостью примут мысль о восстании. Мятеж вспыхнет в Гульдбрансгале, распространится на Зунд-Моёр, захватит Конгсберг. В три дня можно поднять на ноги две тысячи рудокопов; возмущение будет поднято именем Шумахера; от его имени действуют повсюду наши эмиссары. Против мятежников мы двинем южные резервы, гарнизоны Дронтгейма и Сконгена, а вы явитесь как раз вовремя, чтобы подавить бунт, окажете новую, отменную услугу королю и освободите его от столь опасного для трона Шумахера. Вот на каком несокрушимом основании воздвигнется здание, которое увенчает брак высокородной девицы Ульрики с бароном Торвиком.
Интимный разговор двух злодеев никогда не бывает продолжителен, так как то, что остается в них человеческого, быстро ужасает адскую сторону их натуры. Когда две извращенных души открываются друг другу во всей их бесстыдной наготе, взаимное безобразие возмущает их. Преступление приходит в ужас от преступление, и два злодея, с цинизмом сообщая друг другу глаз на глаз свои страсти, удовольствия, выгоды, представляют один для другого страшное зеркало. Их собственная низость срамит их в другом; их смущает их собственная гордость, страшит их собственное ничтожество, и они не пытаются бежать, не пытаются не признавать себя в им подобном, так как их ненавистная связь, их ужасающее подобие, их гнусное сходство неустанно пробуждает в них голос, неутомимо твердящий о том их истомленному слуху. Как бы не был секретен их разговор, он всегда имеет двух неумолимых свидетелей: Бога, которого они не видят и совесть, которая дает им себя чувствовать.
Конфиденциальные сообщение Мусдемона тем более были тягостны для графа, что его клеврет беспощадно уделял патрону половину участия в совершенных или замышляемых злодеяниях. Многие льстецы предпочитают выгораживать вельмож, хотя по наружности из темных делишек, принимают на себя всю ответственность и даже часто оставляют патрону постыдное утешение, что он как будто противился выгодному для него преступлению. Мусдемон с утонченной хитростью действовал как раз обратно. Он хотел как можно реже являться в роли советника, предпочитая роль повинующегося. Он знал душу своего патрона так же хорошо, как патрон знал его душу, и он никогда не компрометировал себя, не компрометируя в то же время и графа. После головы Шумахера, первая, которую граф страстно желал видеть на плахе, была голова Мусдемона, и последний знал это, как будто сам патрон сообщил ему об этом; граф же догадывался, что желание его не тайна для Мусдемона.
Когда граф получил нужные для него сведение, ему оставалось только отпустить Мусдемона.
– Мусдемон, – сказал он, милостиво улыбаясь, – вы самый преданный, самый ревностный из моих подчиненных. Все идет отлично, и этим я обязан вашему старанию. Я делаю вас личным секретарем великого канцлера.
Мусдемон низко поклонился.
– Это еще не все, – продолжал граф, – я в третий раз буду просить для вас ордена Даннеброга; но опять таки опасаюсь, что ваше происхождение, ваше позорное родство…
Мусдемон покраснел, побледнел и, снова поклонившись, скрыл от графа свое смущение.
– Ступайте, – продолжал граф, протягивая ему руку для поцелуя, – ступайте, господин секретарь, составьте ваше прошение. Быть может, оно застанет короля в добром настроении духа.
– Даст ли его величество свое согласие, или нет, а я глубоко признателен и горжусь милостями вашей светлости.
– Поторопитесь же, мой милый, так как мне надо ехать. Необходимо также собрать точные сведение об этом Гане.
Поклонившись в третий раз, Мусдемон открыл дверь.
– Ах, да, – сказал граф, – чуть не забыл… В качестве личного секретаря напишите в мою канцелярию, чтобы прислана была отставка синдику Левига, который компрометирует свой сан в округе, пресмыкаясь перед чужестранцами, которых совсем не знает.








