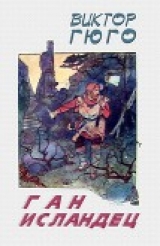
Текст книги "Ган Исландец"
Автор книги: Виктор Гюго
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
XLII
Граф Алефельд, влача широкую черную симарру из атласа, подбитого горностаем, с озабоченным видом расхаживал по комнате своей жены. На нем был полный мундир великого канцлера Дании и Норвегии, с грудью, украшенной множеством звезд и орденов, среди которых виднелись цепи королевских орденов Слона и Даннеброга. Широкий судейский парик покрывал его голову и плечи.
– Пора! Уже девять часов, суд должен открыть свои заседания; нельзя заставлять его дожидаться, потому что необходимо, чтобы приговор был произнесен ночью и приведен в исполнение не позже завтрашнего утра. Главный синдик заверил меня, что палач будет здесь до зари… Эльфегия, приказали вы приготовить мне лодку для отъезда в Мункгольм?
– Вот уж полчаса, как она ждет вас, граф, – ответила графиня, поднимаясь с кресла.
– А готовы ли мои носилки?
– Они у дверей.
– Хорошо… Так вы говорите, Эльфегия, – добавил граф, ударив себя по лбу, – что между Орденером Гульденлью и дочерью Шумахера завелась любовная интрижка?
– Слишком серьезная, уверяю вас, – возразила графиня с гневной и презрительной улыбкой.
– Кто бы мог это думать? Впрочем, я подозревал, что тут что-то неладно.
– Я тоже, – заметила графиня, – эту шутку сыграл с нами проклятый Левин.
– Старый мекленбургский плут! – пробормотал канцлер. – Ну погоди, поручу я тебя Аренсдорфу! О! Если бы только мне удалось навлечь на него гнев короля!.. Э! Да вот прекрасный случай, Эльфегия.
– Что такое?
– Вы знаете, что сегодня мы будем судить в Мункгольмском замке шестерых: Шумахера, от которого завтра в этот час надеюсь отделаться навсегда; горца великана, нашего подставного Гана Исландца, который дал клятву выдержать роль до конца в надежде, что Мусдемон, подкупивший его золотом, доставит средства к побегу… У этого Мусдемона поистине дьявольские замыслы!.. Из остальных обвиняемых трое – предводители мятежников, а четвертый какой то незнакомец, Бог весть откуда явившийся на сходку в Апсиль-Кор и захваченный нами, благодаря предусмотрительности Мусдемона. Мусдемон видит в нем шпиона Левина Кнуда, и действительно, когда его привели сюда, первым делом он спросил генерала и по-видимому сильно смутился, узнав об отсутствии мекленбуржца. Впрочем, он не хотел отвечать ни на один вопрос Мусдемона.
– Но отчего вы сами не допросили его, спросила графиня.
– Странный вопрос, Эльфегия; у меня и без того по горло хлопот с самого моего приезда. Я поручил все это дело Мусдемону, который не меньше моего заинтересован в нем. Впрочем, милая моя, этот человек сам по себе равно ничего не значит, это какой-то несчастный бродяга. Мы можем воспользоваться им, выставив его агентом Левина Кнуда, и так как он взят вместе с бунтовщиками, не трудно будет доказать преступное соумышление между Шумахером и мекленбуржцем, который если не будет отдан под суд, то по крайней мере попадет в немилость.
Графиня, по-видимому, что-то обдумывала.
– Вы правы, граф… Но эта роковая страсть барона Торвика к Этели Шумахер…
Канцлер снова хлопнул себя по лбу, но потом пожал плечами.
– Послушайте, Эльфегия, мы с вами уже немолоды, не новички в жизни, а между тем совсем не знаем людей! Когда Шумахер во второй раз будет обвинен в измене и взведен на эшафот, когда дочь его, свергнутая ниже последних подонков общества, будет запятнана на всю жизнь публичным позором отца, неужели вы думаете, что Орденер Гульденлью не распростится тотчас же с своим юношеским увлечением, которое вы, основываясь на экзальтированных словах взбалмошной девочки, величаете страстью; неужели вы думаете, что он хоть минуту станет колебаться в выборе между обесславленной дочерью преступника и знатной дочерью канцлера? Об людях, милая моя, надо судить по себе; где вы видели таких идеальных людей?
– Дай Бог, чтобы вы были правы… Однако, надеюсь вы одобрите, что я потребовала от синдика, чтобы дочь Шумахера присутствовала на процессе отца в одной ложе со мною. Мне хочется покороче узнать это создание.
– Нельзя пренебрегать ничем, что только может выяснить нам это дело, – равнодушно заметил канцлер, – но, скажите мне, известно ли, где находится теперь Орденер?
– О нем нет ни слуху, ни духу; этот достойный воспитанник старого Левина такой же странствующий рыцарь. Должно быть, он теперь в Вард-Гуте…
– Ну, наша Ульрика сумеет приковать его к месту. Однако пора, я забыл, что суд ждет моего прибытия…
Графиня остановила великого канцлера.
– Одно слово, граф. Я вчера спрашивала вас, но вы были так заняты, что не удостоили меня ответом. Где Фредерик?
– Фредерик! – печально повторил граф, закрывая лицо руками.
– Да, скажите мне, где Фредерик? Его полк вернулся в Дронтгейм без него. Поклянитесь мне, что Фредерик не участвовал в страшной резне в ущельях Черного Столба. Отчего вы изменились в лице при его имени? Я смертельно беспокоюсь о нем.
Канцлер снова принял хладнокровный вид.
– Успокойтесь, Эльфегия. Клянусь вам, его не было в ущельях Черного Столба… Притом, уже обнародован список офицеров, убитых или раненых в этой резне.
– В самом деле, – сказала графиня, успокоившись, – убито только два офицера, капитан Лори и молодой барон Рандмер, который проказничал с моим бедным Фредериком на копенгагенских балах! О! Уверяю вас, я читала и перечитывала список; но в таком случае значит он остался в Вальстроме?..
– Да, он там, – ответил граф.
– Друг мой, – сказала мать с принужденной нежной улыбкой, – сделайте для меня одну милость, прикажите вернуть Фредерика из этой отвратительной страны…
Канцлер с трудом освободился из ее объятий.
– Графиня, суд ждет меня. Прощайте, я не властен исполнить вашу просьбу.
С этими словами он поспешно вышел из комнаты.
Графиня осталась одна в мрачном раздумьи.
– Не властен! – прошептала она, – когда ему достаточно одного слова, чтобы вернуть мне моего сына! О! Недаром я считала моего мужа самым бессердечным человеком.
XLIII
По выходе из башни Шлезвигского Льва стража разлучила испуганную Этель с отцом и по мрачным, неведомым ей коридорам привела ее в темную келью, дверь которой тотчас же затворилась за нею. Напротив двери кельи находилось решетчатое отверстие, пропускавшее мерцающий свет факелов и свечей.
Перед отверстием на скамье сидела женщина в черной одежде под густым вуалем. При входе Этели она сделала ей знак сесть рядом с ней. Изумленная девушка молча повиновалась.
Глаза ее тотчас же устремились на решетчатое отверстие и мрачная величественная картина явилась пред ними.
В глубине обширной, обитой трауром комнаты, слабо освещаемой медными светильниками, привешенными к своду, возвышалась черная трибуна в виде лошадиной подковы, занимаемая семью судьями в черной одежде. Грудь одного из них, сидевшего посредине на высоком кресле, изукрашена была брильянтовыми цепями и блестящими золотыми орденами. Судья, помещавшийся вправо от него, отличался от прочих белою перевязью и горностаевой мантиею. Это был главный синдик округа. Вправо от трибуны на эстраде под балдахином восседал старец в одежде первосвященника, влево стоял стол, заваленный бумагами, в которых рылся приземистый человек в огромном парике и длинной черной одежде со складками.
Перед судьями находилась деревянная скамья, окруженная алебардщиками, державшими факелы, свет которых, отражаясь от копий, мушкетов, и бердышей, мерцающими лучами падал на головы многочисленной толпы зрителей, теснившихся за железной решеткой, отделявшей их от трибуны.
Как бы пробудившись от сна, Этель смотрела на открывшееся перед нею зрелище, сознавая, что так или иначе она причастна тому, что происходило у ней перед глазами. Какой то тайный, внутренний голос побуждал ее напрячь все свое внимание, убеждал в близости решительного переворота в ее жизни.
Сердце молодой девушки волнуемо было двумя противоположными стремлениями; ей хотелось или сразу узнать в какой степени заинтересована она происходившим у ней на глазах, или же не знать этого никогда. В последнее время мысль, что Орденер навсегда потерян для нее, внушала ей отчаянное желание разом покончить с существованием, одним взглядом прочесть книгу своей судьбы. Вот почему, сознавая, что пробил решительный час ее жизни, она рассматривала мрачную обстановку залы не столько с отвращением, сколько с нетерпеливой, отчаянной радостью.
Наконец увидела она, что председатель поднялся с своего места и именем короля провозгласил заседание суда открытым.
Низкий человек в черной одежде стал по левую руку от трибунала и тихим, но быстрым голосом стал читать длинный доклад, в котором имя отца Этели то и дело повторялось в связи с словами заговор, бунт рудокопов, государственная измена.
Этель вспомнила в это мгновение слова роковой незнакомки, которая в крепостном саду сообщила ей, что отцу ее грозит какое то обвинение. Она вздрогнула, когда человек в черном платье кончил доклад, сделав ударение на последнем слове – смерть.
С ужасом обратилась она к женщине под вуалем, к которой, сама не зная почему, чувствовала какой-то страх:
– Где мы? Что это значит? – робко осведомилась она.
Таинственная незнакомка сделала знак, приказывавший молчать и слушать. Молодая девушка снова устремила свой взгляд на залу трибунала.
Почтенный старик в епископском одеянии поднялся между тем с своего места и Этель не проронила ни слова из его речи:
– Во имя всемогущего, милосердного Создателя, я, Памфил Элевтер, епископ королевский Дронтгеймской области, приветствую уважаемое судилище, творящее суд именем короля, нашего монарха и повелителя.
Видя в узниках, предстоящих пред судилищем, людей и христиан, не имеющих за себя ходатая, я заявляю уважаемым судьям о моем намерении предложить им мою слабую помощь в жестоком положении, в котором очутились они по воле Всевышнего.
Молю Бога, да укрепит он своей силою мою дряхлую слабость, да просветит мою глубокую слепоту.
С таким намерением я, епископ королевской епархии, решаюсь предстать перед уважаемым и праведным судилищем.
С этими словами, епископ сошел с своего первосвященнического седалища и опустился на деревянную скамью, предназначенную для обвиняемых. Одобрительный шепот пронесся в толпе зрителей.
Председатель встал и сказал сухим тоном:
– Алебардщики, наблюдайте за тишиной!.. Владыко, судилище от лица обвиняемых благодарит ваше преосвященство. Жители Дронтгеймского округа, будьте внимательны, верховное королевское судилище должно произнести безапелляционный приговор. Стражи, введите подсудимых.
Толпа зрителей стихла в ожидании и страхе; только масса голов волновалась в тени, подобно мрачным волнам бурного моря, над которым готова разразиться гроза.
Вскоре Этель услышала под собою в мрачных проходах залы глухой шум и необычайное движение; зрители заволновались от нетерпение и любопытства; раздались многочисленные шаги; заблистало оружие алебардщиков и в залу трибунала вошло шесть человек, закованных в кандалы и окруженных стражею.
Этель видела лишь первого из узников, старца с седой бородой, в черной симарре – своего отца.
Почти без чувств оперлась она на каменную баллюстраду, возвышавшуюся перед скамьей; окружающие предметы закружились у ней в глазах, ей казалось, что сердце бьется у ней в ушах. Слабым голосом она могла только прошептать:
– Боже, помоги мне!
Незнакомка наклонилась к ней, дала ей понюхать соли и темь вывела из летаргического забытья.
– Ради Бога, сударыня, – проговорила Этель, оживляясь, – скажите хоть слово, чтобы я убедилась, что не адские призраки издеваются надо мною.
Но незнакомка, не обращая внимание на ее просьбу, снова повернулась к трибуналу и бедной девушке пришлось молча последовать ее примеру.
Председатель начал медленным, торжественным голосом:
– Подсудимые, вас привели сюда для того, чтобы суд разобрал степень вашей виновности в измене, заговоре, в поднятии оружие против власти короля, нашего милостивого монарха. Обдумайте теперь же ваше положение, так как над вами тяготеет обвинение в оскорблении его величества.
В эту минуту луч света упал на лицо одного из шестерых подсудимых, на молодого человека, который стоял с головой, опущенной на грудь, и как бы нарочно скрытой под длинными кудрями ниспадающих на плечи волос.
Этель содрогнулась, холодный пот выступил на ее лбу; ей показалось, что она узнала… но нет, это была простая иллюзия; освещение залы было так слабо, люди двигались в ней подобно теням, даже с трудом можно было различить лоснящееся черного дерева распятие, возвышавшееся над креслом председателя.
Однако, молодой человек, по-видимому, был в плаще, издали казавшимся зеленым; растрепавшиеся волосы его как будто имели каштановый отлив и случайный луч, упавший на его лицо… Но нет, это немыслимо, невозможно! Это страшная иллюзия, не более.
Подсудимые сели на скамью рядом с епископом. Шумахер поместился на одном краю; между ним и молодым человеком с темно-русыми волосами находились четверо его товарищей по несчастию в грубой одежде простолюдинов. Один из них выдавался над всеми своим великанским ростом. Епископ сидел на другом краю скамьи.
Президент обратился к отцу Этели.
– Старик, – спросил он сурово, – как тебя зовут, кто ты?
Старик с достоинством поднял голову.
– Было время, – отвечал он, устремив пристальный взгляд на президента, – когда меня звали графом Гриффенфельдом и Тонгсбергом, князем Воллин и князем священной империи, кавалером королевского ордена Слона, кавалером германского ордена Золотого Руна и английского – Подвязки, первым министром, главным попечителем университетов, великим канцлером Дании и…
Председатель перебил его:
– Подсудимый, суду нет дела как тебя звали и кто ты был; суд желает знать, как тебя зовут и кто ты?
– Если так, – с живостью возразил старик, – то теперь меня зовут Иван Шумахер, мне шестьдесят девять лет и я никто иной, канцлер Алефельд, как ваш бывший благодетель.
Президент по-видимому смутился.
– Я вас узнал, граф, – добавил Шумахер, – но так как видимо вы на узнаете меня, то я решаюсь напомнить вашему сиятельству, что мы с вами старинные знакомые.
– Шумахер, – сказал председатель тоном подавленного гнева, – суду дорого время.
Старый узник перебил его:
– Мы поменялись ролями, достойный канцлер. Было время, когда я вас звал просто Алефельд, а вы величали меня вашим сиятельством.
– Подсудимый, – возразил председатель, – ты вредишь сам себе, напоминая о постигшем тебя позорном приговоре.
– Может быть этот приговор позорен для кого-нибудь, граф Алефельд, только не для меня.
Старик привстал, с ударением произнося эти слова. Председатель протянул к нему руку.
– Садись и не издевайся над судилищем и судьями, обвинившими тебя, и над королем, назначившим тебе этих судей. Вспомни, что его величество даровал тебе жизнь, и ограничься теперь своей защитой.
Шумахер в ответ пожал плечами.
– Можешь ты, – спросил председатель, – сообщить что-нибудь трибуналу касательно уголовного преступление, в котором ты обвиняешься?
Видя, что Шумахер хранит молчание, председатель повторил свой вопрос.
– Так это вы мне говорите, – сказал бывший канцлер, – я полагал, достойный граф Алефельд, что это вы разговариваете с собою. О каком преступлении спрашиваете вы меня? Разве я давал когда-нибудь другу поцелуй Иуды Искариотскаго? Разве я бросил в темницу, засудил, обесславил своего благодетеля? Ограбил того, которому всем обязан? Поистине, не знаю, господин канцлер, зачем меня привели сюда. Должно быть для того, чтобы судить о вашем искусстве рубить невинные головы. Я не удивлюсь, если вам удастся погубить меня, когда вы губите государство. Если вам достаточно было одной буквы алфавита[38]38
Между Данией и Швецией действительно происходили серьезные замешательства в виду требование графа Алефельда, чтобы датский король в трактате между этими двумя государствами величался титулом rех Gоthorum, что делало датского монарха как бы владетелем шведской области Готландии. Шведы соглашались лишь на титул rех Gotorum, титул неопределенный, равносильный древнему титулу датских королей: король Готский.
На эту то букву h, причину, если не войны, то все же продолжительных и грозных пререканий, без сомнение, и указывал Шумахер.
[Закрыть], чтобы объявить войну Швеции, то для моего смертного приговора довольно будет и запятой.
При этой горькой насмешке, человек, сидевший за столом по левую сторону трибунала, поднялся с своего места.
– Господин председатель, – начал он с глубоким поклоном, – господа судьи, прошу, чтобы воспретили говорить Ивану Шумахеру, если он не перестанет оскорбительно отзываться о его сиятельстве господине президенте уважаемого трибунала.
Епископ спокойно возразил:
– Господин секретарь, подсудимого невозможно лишить слова.
– Вы правы, почтенный епископ, – поспешно вскричал председатель, – наш долг доставить возможно большую свободу защите. Я только посоветовал бы подсудимому умерить свои выражение, если он понимает свои истинные выгоды.
Шумахер покачал головой и заметил холодным тоном:
– По-видимому, граф Алефельд теперь более уверен в своих, чем в 1677 году.
– Замолчи! – сказал председатель и сейчас же обратившись к другому обвиняемому, сидевшему рядом с Шумахером, спросил: как его зовут.
Горец колоссального телосложение с повязкой на лбу, поднялся со скамьи и ответил:
– Я Ган Исландец, родом из Клипстадура.
Ропот ужаса пронесся в толпе зрителей. Шумахер, выйдя из задумчивости, поднял голову и бросил быстрый взгляд на своего страшного соседа, от которого сторонились прочие обвиняемые.
– Ган Исландец, – спросил председатель, когда волнение поутихло, – что можешь сказать ты суду в свое оправдание?
Не менее остальных зрителей Этель была поражена присутствием знаменитого разбойника, который уже с давних пор в страшных красках рисовался в ее воображении. С боязливой жадностью устремила она свой взор на чудовищного великана, с которым быть может сражался и жертвой которого, быть может, стал ее Орденер.
Мысль об этом возбудила в уме ее самые горестные предположения; и погрузившись всецело в бездну мучительных сомнений, она едва слышала ответ Гана Исландца, в котором она видела почти убийцу своего Орденера. Она поняла только, что разбойник, отвечавший председателю на грубом наречии, объявил себя предводителем бунтовщиков.
– По собственному ли побуждению, – спросил председатель, – или по стороннему наущению принял ты начальство над мятежниками?
Разбойник отвечал:
– Нет, не по собственному.
– Кто же склонил тебя на такое преступление?
– Человек, называвшийся Гаккетом.
– Кто же этот Гаккет?
– Агент Шумахера, которого называл также графом Гриффенфельдом.
Председатель обратился к Шумахеру.
– Шумахер, известен тебе этот Гаккет?
– Вы предупредили меня, граф Алефельд, – возразил старик, – я только что хотел предложить вам этот вопрос.
– Иван Шумахер, – сказал председатель, – тебя ослепляет ненависть. Суд обратил внимание на систему твоей защиты.
Епископ поспешил вмешаться.
– Господин секретарь, – обратился он к низенькому человеку, который по-видимому отправлял обязанности актуариуса и обвинителя, – этот Гаккет находится в числе моих клиентов?
– Нет, ваше преосвященство, – ответил секретарь.
– Известно ли, что сталось с ним?
– Его не могли захватить, он скрылся.
Можно было подумать, что, говоря это, секретарь старался изменить голос:
– Мне кажется вернее будет сказать: его скрыли, – заметил Шумахер.
Епископ продолжал:
– Господин секретарь, велено ли разыскать этого Гаккета? Известны ли его приметы?
Прежде чем секретарь успел ответить, один из подсудимых поднялся со скамьи. Это был молодой рудокоп, суровое лицо которого дышало гордостью.
– Я могу вам сообщить их, – сказал он громко, – этот негодяй Гаккет, агент Шумахера, – человек малорослый с лицом открытым, как адская пасть. Да вот, господин епископ, голос его сильно смахивает на голос этого чиновника, который строчит за столом и которого ваше преосвященство, кажется, назвали секретарем. Право, если бы здесь не было так темно и если бы господин секретарь не прятал так своего лица в волосах парика, я убежден, что черты его шибко напоминают черты Гаккета.
– Наш товарищ прав, – вскричали двое подсудимых, сидевшие рядом с молодым рудокопом.
– Неужели! – пробормотал Шумахер с торжествующим видом.
Между тем секретарь не мог сдержать движение боязни или негодование, что его сравнивают с каким-то Гаккетом. Председатель, который сам заметно смутился, поспешил заявить:
– Подсудимые, не забывайте, что вы должны отвечать только на вопросы трибунала, и впредь не осмеливайтесь оскорблять должностных лиц постыдными сравнениями.
– Но, господин председатель, – возразил епископ, – вопрос шел о приметах; и если виновный Гаккет представляет некоторое сходство с господином секретарем, это обстоятельство может оказаться полезным…
Председатель перебил его:
– Ган Исландец, ты имел сношение с этим Гаккетом; скажи нам, чтобы удовлетворить его преосвященство, похож ли он в самом деле на почтенного секретаря.
– Нисколько, – отвечал великан, не колеблясь.
– Видите, господин епископ, – заметил председатель.
Епископ кивнул головой в знак согласия, и председатель обратился к следующему подсудимому с обычной формулой:
– Как тебя зовут?
– Вильфрид Кеннибол, из Кольских гор.
– Ты был в числе бунтовщиков?
– Точно так, сударь, правда дороже жизни. Меня захватили в проклятых ущельях Черного Столба. Я предводительствовал горцами.
– Кто склонил тебя к преступному возмущению?
– Видите ли, ваше сиятельство, наши товарищи рудокопы сильно жаловались на королевскую опеку, да оно и немудрено. Будь у вас самих грязная хижина да пара дрянных лисьих шкур, вы тоже захотели бы лично распоряжаться своим добром. Правительство не обращало внимание на их жалобы, вот, сударь, они и решились взбунтоваться, а нас просили прийти на помощь. Разве можно было отказать в такой малости товарищам, которые молятся тем же святым и теми же молитвами. Вот вам и весь сказ.
– Никто вас не подбивал, не ободрял, не руководил мятежом? – спросил председатель.
– Да вот, господин Гаккет беспрестанно твердил нам, что мы должны освободить графа, мункгольмского узника, посланником которого он называл себя. Мы конечно обещали ему, что нам стоило освободить лишнего человека?
– Этого графа называл он Шумахером или Гриффенфельдом?
– Называл, ваше сиятельство.
– А сам ты его никогда не видал?
– Нет, сударь, но если это тот старик, который только что наговорил вам целую кучу имен, надо признаться…
– В чем? – перебил председатель.
– Что у него славная седая борода, сударь; ничуть не хуже бороды свекра моей сестры Маас, из деревушки Сурб, который прожил на свете сто двадцать лет.
Полумрак, царивший в зале, помешал видеть разочарование президента при наивном ответе горца. Он приказал страже развернуть несколько знамен огненного цвета, лежавших близ трибуны.
– Вильфрид Кеннибол, узнаешь ты эти знамена? – спросил он.
– Да, ваше сиятельство. Они розданы были Гаккетом от имени графа Шумахера. Граф прислал также оружие рудокопам, – мы, горцы, не нуждаемся в нем, так как никогда не расстаемся с карабином и охотничьей сумкой. Вот я, сударь, тот самый, которого загнали сюда словно курицу на жаркое, я не раз из глубины наших долин стрелял старых орлов, когда они на высоте полета казались не больше жаворонка или дрозда.
– Обратите внимание, господа судьи, – заметил секретарь, – подсудимый Шумахер через Гаккета снабжал мятежников оружием и знаменами!
– Кеннибол, – продолжал председатель, – имеешь ты еще что-нибудь сообщить суду?
– Нет, ваше сиятельство, исключая того, что я совсем не заслуживаю смерти. Я, как добрый брат, явился на помощь рудокопам, вот и все тут; осмелюсь также заверить вас, что хотя я и старый охотник, но никогда свинец моего карабина не касался королевской лани.
Председатель, не ответив на этот оправдательный довод, перешел к допросу товарищей Кеннибола. Это были предводители рудокопов. Старший, называвшийся Джонасом, почти слово в слово повторил признание Кеннибола. Другой, молодой человек, обративший внимание суда на сходство секретаря с вероломным Гаккетом, назвался Норбитом, гордо признался в своем участии в мятеже, но ни слова не упомянул ни о Гаккете, ни о Шумахере.
– Я дал клятву молчать, – говорил он, – и ничего не помню, кроме этой клятвы.
Председатель, то прося, то угрожая, допрашивал его, но упрямый юноша твердо стоял на своем решении. Впрочем он уверял, что бунтовал совсем не за Шумахера, но единственно для того, чтобы спасти свою старуху мать от голода и холода. Не отрицая того, что, быть может, он и заслуживает смертной казни, он утверждал, однако, что было бы несправедливо осудить его, так как убивая его, убьют в то же время его несчастную, ни в чем неповинную мать.
Когда Норбит замолчал, секретарь резюмировал вкратце преступление каждого подсудимого и в особенности Шумахера. Он прочел некоторые из мятежнических воззваний на знаменах и вывел виновность бывшего великого канцлера из единогласных показаний его соучастников, не преминув обратить внимание суда на упорное запирательство молодого Норбита, связанного фанатической клятвой.
– Теперь, – добавил он в заключение, – остается допросить последнего подсудимого, и мы имеем серьезные основание считать его тайным агентом власти, которая так плохо заботилась о спокойствии Дронтгеймского округа. Власть эта дозволила если не своим преступным потворством, то по меньшей мере своим роковым небрежением, вспыхнуть мятежу, который погубит этих несчастных и снова взведет Шумахера на эшафот, от которого уже раз избавило его великодушное милосердие короля.
Этель, от мучительных опасений за Орденера перешедшая к не менее тяжким опасениям за отца, задрожала при этих зловещих словах и залилась слезами, когда Шумахер поднялся со скамьи и спокойно возразил:
– Я удивляюсь вам, канцлер Алефельд. Должно быть, вы уже заранее позаботились и о палаче.
Несчастная девушка думала, что чаша горечи переполнилась для нее, но ошиблась.
Шестой подсудимый встал в свою очередь. Гордо и величаво откинув назад волосы, закрывавшие его лицо, он ответил на обращенный к нему вопрос председателя твердым голосом:
– Я Орденер Гульденлью, барон Торвик, кавалер ордена Даннеброга.
Секретарь не мог сдержать крика изумления:
– Сын вице-короля!
– Сын вице-короля! – повторила толпа зрителей, подобно тысяче отголосков эхо.
Председатель откинулся в своем кресле; судьи, до сих пор неподвижно сидевшие за столом, в беспорядке склонились друг к другу, подобно деревьям, колеблемым противоположными порывами ветра.
В толпе зрителей смятение было еще сильнее. Народ цеплялся за каменные карнизы, за железные решетки и все говорили разом. Даже стража, забыв наблюдать за тишиной в зале, смешала свои изумленные возгласы в общем хоре нестройных голосов.
Чья душа, знакомая с внезапными душевными порывами, поймет волнение Этели? Кто в состоянии выразить эту неслыханную смесь истерзанной радости и отрадной печали? Это беспокойное ожидание, колеблющееся между страхом и надеждою?
Он стоит перед нею, не примечая ее! Она видит своего ненаглядного Орденера, Орденера, которого считала мертвым, утраченным для себя навеки, вероломным другом, но которого любила с новой, неслыханной страстью. Он здесь; да, это он. Не обманчивый сон вводит ее в заблуждение; нет, это ее Орденер, которого, увы! Она чаще видала во сне, чем на яву! Но ангелом ли хранителем, или злым духом явился он в этом торжественном собрании? Должна ли она надеяться на него, или, напротив, опасаться за него?
Тысячи предположений разом теснились в ее уме, подавляя его подобно тому как излишняя пища тушит огонь. Все мысли, все ощущение, нами описанные, мелькнули в уме ее подобно блеску молнии в ту минуту, когда сын норвежского вице-короля открыл свое имя. Она первая узнала его и, прежде чем узнали его остальные, была уже без чувств.
Во второй раз заботливость таинственной соседки вернула ее к горькой действительности. Бледнее смерти, открыла она глаза, в которых быстро иссякли слезы. Взор ее с жадностью устремился на молодого человека, сохранявшего невозмутимое спокойствие среди всеобщего смущение и замешательства. Судьи и народ мало-помалу пришли в себя, но в ушах ее все еще раздавалось имя Орденера Гульденлью.
С мучительным беспокойством приметила Этель, что одна рука его была на перевязи, на обеих висели кандалы, она приметила, что плащ его был разорван во многих местах, верной сабли не было у пояса. Ничто не укрылось от ее заботливого взора, потому что глаз любящего существа походит на глаз матери. Не имея возможности защитить его своим телом, она как бы окружила его своею душой; и, надо сказать к стыду и чести любви, там, где находился ее отец и его преследователи, одна Этель видела одного лишь человека.
Мало-помалу в зале воцарилась прежняя тишина. Председатель решился наконец приступить к допросу сына вице-короля.
– Господин барон, – начал он смущенным тоном.
– Здесь я не господин барон. – прервал его Орденер твердым голосом. – Меня зовут Орденер Гульденлью, подобно тому как граф Гриффенфельд зовется Иваном Шумахером.
Одно мгновение председатель оставался в нерешимости.
– Прекрасно, – продолжал он. – Орденер Гульденлью, очевидно, по какому-нибудь прискорбному недоразумению вас привели сюда. Мятежники захватили вас на дороге, принудили следовать за ними, и, без сомнения, благодаря этой случайности, вас встретили в их рядах.
Секретарь поднялся со своего места.
– Уважаемые судьи, одно имя сына вице-короля Норвегии служит ему достаточным оправданием. Барон Орденер Гульденлью не может быть мятежником. Наш почтенный председатель вполне удовлетворительно объяснил прискорбное нахождение его среди бунтовщиков. Единственный проступок благородного узника состоит в том, что он раньше не объявил своего имени. Мы требуем его немедленного освобождение, отказываемся обвинять его в чем бы то ни было и сожалеем, что ему пришлось сидеть на одной позорной скамье с преступным Шумахером и его соучастниками.
– Что это значит? – вскричал Орденер.
– Секретарь отказывается обвинять вас, – сказал председатель.
– Он не имеет на то права, – возразил Орденер громким, звучным голосом, – здесь я только один подсудимый, меня одного следует судить и осудить.
Он умолк на минуту, потом добавил менее твердым голосом.
– Потому что один я виновен во всем.
– Один виновен! – вскричал председатель.
– Один виновен! – повторил секретарь.
Новый взрыв изумление охватил аудиторию трибунала. Несчастная Этель задрожала от ужаса; она не думала о том, что такое признание ее возлюбленного спасает ее отца. Она видела только гибель своего Орденера.
– Алебардщики, водворите тишину! – сказал председатель, пользуясь быть может минутой замешательства, что бы собраться с мыслями и вернуть самообладание…
– Орденер Гульденлью, – продолжал он, – что вы хотите этим сказать?
Молодой человек одну минуту находился в задумчивости, потом глубоко вздохнул и заговорил спокойно, тоном человека, покорившегося своей участи.
– Да, я знаю что меня ждет позорная смерть, хотя жизнь улыбалась мне и сулила счастливую будущность. Бог прочтет в глубине моего сердца! Только один Бог! Я должен был исполнить священный долг моей жизни; я должен посвятить ему мою кровь, быть может даже честь; но уверен, что умру без угрызение и раскаяния. Не удивляйтесь моим словам, господа судьи; в душе и судьбе человека, которых вы не в состоянии постичь, судить которых будут лишь на небе. Выслушайте же меня, и поступите по долгу совести, освободив этих несчастных и в особенности злополучного Шумахера, который в своем заточении вытерпел более, чем заслуживают преступление человеческие. Да, я виновен, господа судьи, я один виновен. Шумахер ни в чем не повинен, остальные несчастные были введены в заблуждение. Виновник возмущение рудокопов я.








