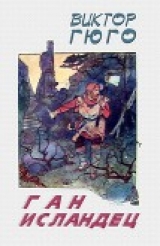
Текст книги "Ган Исландец"
Автор книги: Виктор Гюго
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
– Да, уважаемый епископ, но зачем же он сам назвал себя преступником?
– Но, господин председатель, ведь и горец, не жалея своей головы, утверждал, что он Ган Исландец. Один Бог ведает, что творится в глубине человеческого сердца.
Орденер вмешался.
– Господа судьи, так как теперь найден истинный виновник, я могу открыть вам мою тайну. Да, я ложно взвел на себя преступление, чтобы спасти бывшего канцлера Шумахера, смерть которого оставляла беззащитной его дочь.
Председатель закусил губы.
– Мы требуем от трибунала, – сказал епископ, – чтобы им провозглашена была невинность нашего клиента Орденера.
Председатель отвечал знаком согласие, и по требованию главного синдика, суд рассмотрел содержимое таинственного ящика, в котором находились только дипломы и грамоты Шумахера с несколькими письмами Мункгольмского узника к капитану Диспольсену, письмами, исполненными горечи, но не преступными, и которые неприятны были одному лишь канцлеру Алефельду.
В то время как любопытная толпа теснилась на крепостной площади, нетерпеливо ожидая казни сына вице-короля, а палач беззаботно прохаживался по помосту эшафота, суд вышел из-залы и после короткого совещание, председатель едва слышным голосом прочел приговор, осуждавший на смерть Туриафа Мусдемона и восстановлявший Орденера Гульденлью в его прежних правах и отличиях.
XLIX
Остатки полка Мункгольмских стрелков разместились в старой казарме, уединенно расположенной на обширном четырехугольном дворе внутри крепости. С наступлением ночи все двери этого здание по обычаю были заперты, в нем собрались все солдаты за исключением часовых, расставленных на башнях, и караула у военной тюрьмы, примыкавшей к казарме. В этой тюрьме самой надежной и наиболее охраняемой из всех тюрем Мункгольмского замка, находились двое осужденных, которых утром ждала виселица, – Ган Исландец и Мусдемон.
Ган Исландец был один в своей темнице. Он лежал на земле, в оковах, положив голову на камень. Слабый свет проникал сюда сквозь четырехугольное решетчатое отверстие толстой дубовой двери, отделявшей тюремную келью от соседней комнаты, откуда несся хохот и ругательства сторожей, звон опорожниваемых бутылок и стук костей, бросаемых на барабан.
Чудовище молча ворочалось в темноте, то сжимая кулаки, то корча ноги и кусая железные оковы.
Вдруг он позвал сторожа, который не замедлил появиться у решетчатого окошка двери.
– Что тебе нужно? – спросил он разбойника.
Ган Исландец поднялся на ноги.
– Я прозяб, товарищ. Лисе жестко и сыро на камнях; дай-ка сюда охапку соломы и огня, чтобы погреться.
– Изволь, – ответил сторож, – отчего не сделать маленького одолжения бедняге, которого завтра повесят, будь он самим исландским демоном. Я исполню твою просьбу… Есть у тебя деньги?
– Нет.
– Нет! У тебя, знаменитейшего вора во всей Норвегии, нет в кармане какого-нибудь несчастного дуката?
– Нет.
– Каких-нибудь мелких королевских экю?
– Нет, говорю тебе!
– Даже аскалона?
– Ровно ничего. Даже не на что купить крысьей шкуры или человеческой души.
Сторож покачал головой.
– Ну, это дело другое. Ты напрасно жалуешься, в твоей тюрьме не так холодно, как там, где ты уснешь завтра, не обращая внимание на жесткую постель.
С этими словами сторож отошел, выругав чудовище, которое снова загремело цепями, кольца которых звенели, как бы медленно ломаясь от порывистых движений.
Дубовая дверь отворилась. Вошел рослый малый в красной саржевой рубашке с потайным фонарем в руках в сопровождении сторожа. Узник тотчас же притих.
– Ган Исландец, – сказал прибывший, – я Николь Оругикс, палач Дронтгеймского округа. Завтра, на рассвете, я буду иметь честь повесить твою милость за шею на прекрасной новой виселице, сооруженной уже на Дронтгеймской площади.
– Ты в этом вполне уверен? – спросил разбойник.
Палач захохотал.
– Хотелось бы мне, чтобы ты также прямо попал на небо по лестнице Иакова, как завтра попадешь на виселицу по лестнице Николя Оругикса.
– Так ли? – спросило чудовище с зловещим взглядом.
– Повторяю тебе, что я палач здешнего округа.
– Не будь я Ганом Исландцем, мне хотелось бы быть на твоем месте, – заметил разбойник.
– Ну, я этого не скажу, – возразил палач и, потирая руки, продолжал с тщеславным видом: – Ты, однако, прав, дружище, наше дело завидное. Да!.. Рука моя знает вес человеческой головы.
– А пивал ли ты человеческую кровь? – спросил разбойник.
– Нет; но зато часто пытал людей.
– А выедал ли ты когда-нибудь внутренность еще живого младенца?
– Нет, но зато ломал кости в железных тисках дыбы: навертывал члены на спицы колеса; стальной пилой распиливал черепа, содрав с них кожу; раскалив щипцы докрасна на огне, жег ими трепещущее тело; сжигал кровь в жилах, вливая в них растопленный свинец и кипящее масло.
– Да, – сказал задумчиво разбойник, – у тебя тоже есть свои удовольствия.
– Еще бы, – продолжал палач, – хоть ты и Ган Исландец, а все же я больше спровадил на тот свете человеческих душ, не считая той, с который ты завтра простишься.
– Если только она есть у меня… Дронтгеймский палач, неужели ты действительно убежден, что можешь выпустить из тела Гана Исландца дух Ингольфа, прежде чем он вышибет твой?
Палач захохотал.
– А вот завтра посмотрим!
– Посмотрим! – повторил разбойник.
– Ну, – продолжал палач, – я пришел сюда не затем, чтоб толковать о твоей душе, мне важнее твое тело. Послушай-ка!.. После смерти твой труп принадлежит мне по праву, но закон не лишает тебя возможности заранее продать его мне. Скажи-ка, что ты за него хочешь?
– Что я хочу за мой труп? – переспросил разбойник.
– Да, только, чур, не запрашивать.
Ган Исландец обратился к сторожу.
– Скажи, товарищ, что ты возьмешь за охапку соломы и огонь?
Сторож на минуту задумался.
– Два золотых дуката, – ответил он.
– Ну вот, – сказал разбойник палачу, – ты дашь мне два дуката за труп.
– Два золотых дуката! – вскричал палач. – Это дорогонько. Два золотых дуката за дрянной труп! Нет, мы не сойдемся.
– Ну так не получишь трупа, – спокойно возразил чудовище.
– Ты попадешь на живодерню вместо того, чтобы украсить собой королевский музей в Копенгагене или кабинет редкостей в Бергене.
– Что мне за дело?
– А то, что после твоей смерти народ будет толпиться перед твоим скелетом, говоря: вот останки знаменитого Гана Исландца! Твои кости старательно отполируют, сколотят медными гвоздиками, поставят под большой стеклянный колпак, с которого каждый день заботливо станут стирать пыль. Взамен этих почестей, подумай, что ждет тебя, если ты не продашь мне своего трупа; ты сгниешь где-нибудь в живодерне, изгложут тебя черви или заклюют коршуны.
– Так что же! С живыми ведь делают тоже, маленькие точат, а большие гложут.
– Два золотых дуката! – пробормотал сквозь зубы палач. – Цена неслыханная! Если ты не сбавишь, Ган Исландец, мы не сойдемся.
– Это первая и должно быть последняя продажа в моей жизни; мне надо хоть на чем-нибудь выгадать.
– Смотри, как бы тебе не раскаяться в своем упрямстве. Завтра ты будешь в моей власти.
– Ты думаешь?
Этот вопрос произнесен был с особенным выражением, на которое палач, однако, не обратил внимания.
– Да, есть несколько способов завязывать мертвую петлю, если ты образумишься, можно будет облегчить твою казнь.
– Мне все равно, что ты станешь завтра делать с моей шеей! – с усмешкой заметило чудовище.
– Ну, хочешь получить два королевских экю? На что тебе деньги?
– А вот потолкуй с своим товарищем, – сказал разбойник, указывая на сторожа, – он просит с меня два золотых дуката за охапку соломы и огонь.
– Ты продаешь охапку соломы и огонь на вес золота! – укоризненно заметил палач сторожу. – Да где у тебя совесть! запрашивать два дуката!
Сторож возразил с досадой:
– Будь доволен, что я не запросил четырех!.. Ты сам, Николь, торгуешься как жид, отказывая несчастному узнику в каких-нибудь двух дукатах за труп, который перепродашь какому-либо ученому или доктору по меньшей мере за двадцать.
– Я никогда не платил за труп более пятнадцати аскалонов, – сказал палач.
– Да, за труп воришки или презренного жида, это возможно, – заметил сторож, – но кому неизвестна ценность тела Гана Исландца.
Ган Исландец покачал головой.
– Не суйся не в свое дело, – раздражительно вскричал Оругикс, – разве я мешаю тебе грабить и красть у заключенных одежду, драгоценности, подливать соленую воду в их жидкую похлебку, всякими притеснениями выманивать у них деньги? Нет! Я не дам двух золотых дукатов.
– А я не возьму менее двух дукатов за охапку соломы и огонь, – упрямился сторож.
– А я не продам трупа менее двух дукатов, – невозмутимо заметил разбойник.
После минутного молчание палач топнул ногой.
– Ну, мне некогда терять с вами время.
Вытащив из кармана кожаный кошель, он медленно и как бы нехотя открыл его.
– На, проклятый демон исландский, получай твои два дуката. Право, сам сатана не дал бы за твою душу столько, сколько я даю тебе за тело.
Разбойник взял две золотые монеты и сторож поспешил протянуть к ним руку.
– Постой, товарищ, принеси-ка сперва, что я у тебя просил.
Сторож вышел и, минуту спустя, вернулся с вязкой свежей соломы и жаровней, полной раскаленных угольев, которые положил подле осужденного на пол.
– Ну вот, я погреюсь ночью, – сказал разбойник, вручая сторожу золотые дукаты. – Постой на минуту, – добавил он зловещим голосом: эта тюрьма, кажется, примыкает к казарме мункгольмских стрелков?
– Примыкает.
– А откуда ветер?
– Кажется, с востока.
– Тем лучше, – заметил разбойник.
– А что? – спросил сторож.
– Да ничего, – ответил разбойник.
– Ну прощай, товарищ, до завтра.
– Да, до завтра, – повторил разбойник.
При стуке тяжелой двери, ни сторож, ни палач не слыхали дикого торжествующего хохота, которым разразилось чудовище по их уходе.
L
Заглянем теперь в другую келью военной тюрьмы, примыкавшей к стрелковой казарме, куда заключен был наш старый знакомец Туриаф Мусдемон.
Быть может читатель изумился, узнав, что этот столь хитрый и вероломный негодяй так искренно сознался в своем преступном умысле трибуналу, который осудил его и так великодушно скрыл сообщничество своего неблагодарного патрона, канцлера Алефельда. Но пусть успокоятся: Мусдемон не изменил себе. Эта великодушная искренность служит, быть может, самым красноречивым доказательством его коварства.
Увидев, что его адские козни разоблачены и окончательно разрушены, он на минуту смутился и оробел. Но когда прошла первая минута волнение, он тотчас же сообразил, что если уж нельзя погубить намеченных им жертв, надо позаботиться о личной безопасности. Два средства к спасению были готовы к его услугам: свалить все на графа Алефельда, так низко изменившего ему, или взять все преступление на себя.
Заурядный ум остановился бы на первом средстве, Мусдемон выбрал второе. Канцлер оставался канцлером, и к тому же ничто прямо не компрометировало его в бумагах, обвинявших его секретаря; затем он успел обменяться несколькими значительными взорами с Мусдемоном и тот, не задумываясь, принял всю вину на себя, уверенный, что граф Алефельд выручит его из беды, в благодарность за бывшие услуги и нуждаясь в будущих.
Мусдемон спокойно прохаживался по своей темнице, едва освещаемой тусклым ночником, не сомневаясь, что ночью дверь тюрьмы будет открыта для его бегства. Он осматривал стены старой каменной тюрьмы, выстроенной еще древними королями, имена которых не сохранила даже история, и изумлялся только деревянному полу ее, звучно отражавшему шаги. Пол как будто закрывал собой подземную пещеру.
Он приметил также большое железное кольцо, ввинченное в стрельчатый свод. К нему привязан был обрывок старой веревки.
Время шло. Мусдемон нетерпеливо прислушивался к медленному бою крепостных часов, мрачно звучавшему среди ночной тишины.
Наконец, шум шагов послышался за дверьми тюремной кельи. Сердце Мусдомона радостно забилось от надежды. Огромный ключ заскрипел, замок зашатался, цепи упали и дверь отворилась.
Вошел человек в красной одежде, которого мы только что видали в тюрьме у Гана. В руках у него был сверток веревок. Следом за ним вошло четверо алебардщиков, в черных камзолах, со шпагами и бердышами.
Мусдемон был еще в судейском костюме и парике, и при виде его палач поклонился с невольным почтением.
– Извините, сударь, – спросил он узника как бы нерешительно, – с вашей ли милостью нам придется иметь дело?
– Да, да, со мной, – поспешно ответил Мусдемон, еще более обнадеженный таким вежливым обращением и не примечая кровавого цвета одежды палача.
– Вас зовут Туриаф Мусдемон? – продолжал палач, устремив взор на развернутый пергамент.
– Да, да. Вы пришли, друзья мои, от великого канцлера?
– От него, сударь.
– Не забудьте же, по выполнении возложенного на вас поручение, засвидетельствовать его сиятельству мою искреннюю признательность.
Палач взглянул на него с удивлением.
– Вашу… признательность!..
– Ну да, друзья мои, так как по всей вероятности мне самому нельзя будет в скором времени лично поблагодарить графа.
– Еще бы, – иронически согласился палач.
– А вы сами понимаете, – продолжал Мусдемон, – что я не могу быть неблагодарным за такую услугу.
– Чорт побери, – вскричал палач с грубым хохотом, – слушая вас, можно подумать, что канцлер оказывает вам Бог весть какое одолжение.
– Это верно, что в этом отношении он отдает мне лишь строгую справедливость!..
– Положим, строгую!.. Но вы сами сознались – справедливость. В двадцать шесть лет моей службы в первый раз приходится мне слышать подобное признание. Ну, сударь, не станем терять время попусту. Готовы вы?
– Готов, готов, – радостно заговорил Мусдемон, направляясь к двери.
– Постойте, постой на минутку, – закричал палач, кидая на пол пук веревок.
Мусдемон остановился.
– Зачем столько веревок?
– Действительно ни к чему, да дело то в том, что при начале процесса я полагал, что осужденных то будет больше.
С этими словами он принялся разматывать связку веревок.
– Ну, скорее, скорее, – торопил Мусдемон.
– Вы, сударь, слишком спешите… Разве вам не требуется никаких приготовлений?
– Какие там приготовление, я уже вас просил поблагодарить за меня его сиятельство… ради Бога, поспешите, – продолжал Мусдемон, – мне хочется выйти отсюда поскорее. Далек ли наш путь?
– Путь? – переспросил палач, выпрямляясь и отмеривая несколько саженей веревки. – Путь не далек, сударь, и не утомителен. Мы все кончим, не делая шагу отсюда.
Мусдемон вздрогнул.
– Я вас не понимаю.
– Я вас тоже, – ответил палач.
– Боже! – вскричал Мусдемон, побледнев как мертвец. – Кто вы такой?
– Я палач.
Несчастный затрясся, как сухой лист, колеблемый ветром.
– Да ведь вы пришли меня выпустить? – пробормотал он коснеющим языком.
Палач разразился хохотом.
– Это правда, выпустить вас на тот свет, а там, смею уверить, никто вас не словит.
Мусдемон кинулся к ногам палача.
– Сжальтесь! Пощадите меня!..
– Чорт побери, – холодно сказал палач, – в первый еще раз обращаются ко мне с такой просьбой. Вы, может быть, принимаете меня за короля?
Несчастный, за минуту пред тем столь радостный и веселый, ползал теперь на коленях, пачкая в пыли свое платье, бился головой о пол и с глухими стонами и мольбами обнимал ноги палача.
– Ну, довольно, – остановил его палач, – никогда не видал я, чтобы судья так унижался перед палачом.
Он ногою оттолкнул несчастного.
– Моли Бога и святых, товарищ. Они скорее услышат тебя.
Мусдемон все стоял на коленях и, закрыв лицо руками, горько плакал.
Между тем палач, поднявшись на цыпочки, продел веревку в кольцо свода, вытянул ее до пола, снова продел в кольцо и завязал петлю на конце.
– Ну, я готов, – сказал он осужденному, окончив свои приготовления, – а ты распростился ли с жизнью?
– Нет, – вскричал Мусдемон, поднимаясь с полу, – это невозможно! Тут должна быть ужасная ошибка. Не может быть, чтобы канцлер Алефельд оказался таким подлецом… Я нужен ему… Не может быть, чтобы вас послали ко мне. Выпустите меня, бойтесь навлечь на себя гнев канцлера…
– Да разве ты сам не назвал себя Туриафом Мусдемоном? – возразил палач.
Узник молчал несколько мгновений.
– Нет, – вдруг вскричал он, – я не Мусдемон, меня зовут Туриаф Оругикс.
– Оругикс! – вскричал палач. – Оругикс!
Поспешно сорвал он парик, скрывавший черты лица осужденного, вскрикнул от изумления:
– Брат мой!
– Твой брат! – изумился Мусдемон с стыдом и радостью. – Так ты?..
– Николь Оругикс, палач Дронтгеймского округа, к твоим услугам, братец Туриаф.
Осужденный кинулся на шею к палачу, называя его своим дорогим, милым братцем; но эта братская встреча не растрогала бы свидетеля. Туриаф ластился к Николю с притворной боязливой радостью, но Николь глядел на него с мрачным смущением. Можно было сказать, что тигр ласкается к слону, придавившему ногой его брюхо.
– Какое счастие, братец Николь!.. Как я рад, что встретился с тобою!
– Ну, а я так не рад за тебя, Туриаф.
Осужденный, делая вид, будто не слышал его слов, продолжал дрожащим голосом:
– Без сомнения, у тебя есть жена, детки? Позволь мне обнять мою дорогую невестку, моих милых племянничков.
– Толкуй! – пробормотал палач.
– Я буду им вторым отцом… Послушай, братец, ведь я в силе, в милости…
Братец ответил зловещим тоном:
– Да, был когда-то!.. А теперь жди милости от святых, у которых ты наверно выслужился.
Последняя надежда оставила осужденного.
– Боже мой, что это значит, дорогой Николь? Встретившись с тобой, я уверен был в своем спасении. Подумай только: одно чрево выносило нас, одна грудь вскормила, одни игры забавляли нас в детстве. Вспомни, Николь, ты ведь брат мой!
– До сих пор ты об этом не помнил, – возразил мрачно Николь.
– Нет, я не могу умереть от рук родного брата!..
– Сам виноват, Туриаф. Ты сам расстроил мою карьеру, помешав мне сделаться государственным палачом в Копенгагене. Разве не ты спровадил меня в это захолустье? Если бы ты не был дурным братом, ты не жаловался бы на то, что теперь так тревожит тебя. Меня не было бы в Дронтгейме, и другой палач расправился бы с тобой. Ну, довольно болтовни, брат, пора умирать.
Смерть ужасна для злодея по тому же, почему не страшна для доброго. Оба расстаются со всем человеческим, но праведность освобождается от тела, как от темницы, а злодей теряет в нем крепость.
Осужденный катался по полу и ломал себе руки с воплями, более раздирающими, чем скрежет зубовный грешника.
– Милосердный Боже! Святые ангелы небесные, если вы существуете, сжальтесь надо мною! Николь, дорогой Николь, именем нашей матери умоляю тебя, не лишай меня жизни!
Палач указал ему на пергамент.
– Не могу, я должен выполнить приказ.
– Он не касается меня, – пробормотал с отчаянием узник, – тут говорится о Мусдемоне, а не обо мне. Я Туриаф Оругикс.
– Полно шутить, – сказал Николь, пожимая плечами, – я отлично понимаю, что дело идет о тебе. Впрочем, – добавил он грубо, – вчера ты не признал бы своего брата, Туриаф Оругикс, а потому останься для него и на сегодня Туриафом Мусдемоном.
– Братец, милый братец, – стонал несчастный, – ну, подожди хоть до завтра! Не может быть, чтобы великий канцлер подписал мой смертный приговор. Это ужасная ошибка. Граф Алефельд души не чает во мне. Клянусь тебе, Николь, не делай мне зла!.. Скоро я снова войду в милость и тогда вознагражу тебя за услугу…
– Одним только ты можешь наградить меня, Туриаф, – перебил палач, – я уже лишился двух казней, на которые сильно рассчитывал; бывший канцлер Шумахер и сын вице-короля ускользнули из моих рук. Мне решительно не везет. Теперь у меня остался Ган Исландец и ты. Твоя казнь, как ночная и тайная, принесет мне двенадцать золотых дукатов. Так не противься же, вот единственное одолжение, которого я жду от тебя.
– Боже мой!.. – глухо застонал несчастный.
– Правда, это одолжение будет первое и последнее, но за то обещаю тебе, что ты не будешь страдать. Я по-братски повешу тебя. Ну, по рукам, что ли?
Мусдемон поднялся с полу. Ноздри его раздувались от ярости, пена выступила у рта, губы стучали как в лихорадке.
– Сатана!.. Я спас Алефельда, обнял брата! А они убивают меня! Они задушат меня ночью, в тюрьме, никто не услышит моих проклятий, голос мой не загремит над ним с одного конца королевства до другого, рука моя не сорвет покрывала с их преступных умыслов! Вот для какой смерти чернил я всю свою жизнь!..
– Негодяй! – продолжал он, обратившись к брату. – Ты хочешь сделаться братоубийцей.
– Я палач, – невозмутимо ответил Николь.
– Нет! – вскричал осужденный, бросаясь, очертя голову, на палача.
Глаза его пылали яростью и наполнились слезами, как у задыхающегося быка.
– Нет, я не умру так! Не для того жил я страшной змеею, чтобы меня растоптали как презренного червя. Я издохну, укусив в последний раз; но укушу смертельно.
С этими словами он злобно схватил того, которого только что обнимал по-братски. Льстивость и ласковость Мусдемона обнаружились теперь во всей наготе. Он освирепел от отчаяния, прежде он ползал, как тигр, теперь, подобно тигру, выпрямился. Трудно было бы решить, который из братьев страшнее в минуту отчаянной борьбы; один боролся с бессмысленной свирепостью дикого зверя, другой с коварным бешенством демона.
Но четыре алебардщика, до сих пор безучастно присутствовавшие при разговоре, поспешили теперь на выручку к палачу. Вскоре Мусдемон, сильный только своей яростью, был побежден и, бросившись на стену с дикими криками, стал царапать ногтями камень.
– Умереть! Адские силы!.. Умереть, и крики мои не пробьют этих сводов, руки не опрокинут этих стен!..
Он более не сопротивлялся. Бесполезные усилие истощили его. С него стащили платье, чтобы связать его, и в эту минуту запечатанный пакет выпал из его кармана.
– Это что такое? – спросил палач.
Адская надежда сверкнула в свирепом взоре осужденного.
– Как я это забыл? – пробормотал он. – Послушай, брат Николь, – прибавил он почти дружелюбным тоном, – эти бумаги принадлежат великому канцлеру. Обещай мне доставить их ему, а затем делай со мной что хочешь.
– Ну так как ты угомонился наконец, обещаю тебе исполнить твою последнюю просьбу, хотя ты и не по-братски поступил со мною. Оругикс ручается тебе, что эти бумаги будут вручены канцлеру.
– Постарайся вручить их лично, – продолжал осужденный, с усмешкой глядя на палача, который от природы не понимал усмешек, – удовольствие, которое они доставят его сиятельству, быть может сослужит тебе добрую службу.
– Правда, брат? – спросил Оругикс. – Ну спасибо, коли так. Чего доброго, добьюсь наконец диплома королевского палача. Расстанемся же добрыми друзьями. Я прощаю тебе, что ты исцарапал меня своими когтями, а ты уж извини, если я помну твою шею веревочным ожерельем.
– Иное ожерелье сулил мне канцлер, – пробормотал Мусдемон.
Алебардщики потащили связанного преступника на средину тюрьмы; палач накинул ему на шею роковую петлю.
– Ну, Туриаф, готов ты?
– Постой, постой, на минутку! – застонал осужденный, снова теряя мужество. – Ради Бога, не тяни веревки, пока я не скажу тебе.
– Да мне и не надо тянуть веревку, – заметил палач.
Минуту спустя он повторил свой вопрос:
– Ну, готов, что ли?
– Еще минутку! Ах, неужели надо умереть!
– Туриаф, мне нельзя терять время.
С этими словами Оругикс приказал алебардщикам отойти от осужденного.
– Одно слово, братец! Не забудь отдать пакет графу Алефельду.
– Будь покоен, – ответил палач и в третий раз спросил: – Ну, готов, что ли?
Несчастный раскрыл рот, быть может, чтобы умолять еще об одной минуте жизни, но палач нетерпеливо нагнулся и повернул медную шишку, выдававшуюся на полу.
Пол провалился под осужденным, и несчастный исчез в четыреугольном трапе при глухом скрипе веревки, которая крутилась от конвульсивных движений висельника. Роковая петля с треском вытянулась, и из отверстия послышался задыхающийся стон.
– Ну, теперь кончено, – сказал палач, вылезая из трапа. – Прощай, брат!
Он вынул нож из-за пояса.
– Ступай кормить рыб в залив. Пусть твое тело будет добычей и воды, если душа стала добычей огня.
С этими словами он рассек натянутую веревку. Отрезок, оставшийся в железном кольце, хлестнул по своду, между тем как из глубины раздался плеск воды, расступившейся при падении тела и снова потекшей под землею к заливу.
Палач закрыл трап, снова нажав шишку, и когда выпрямился, приметил, что тюрьма полна дыму.
– Что это? – спросил он алебардщиков. – Откуда этот дым?
Те не знали и, удивившись, поспешили отворить дверь тюрьмы. Все коридоры были наполнены густым удушливым дымом; в испуге кинулись они к потайному ходу и вышли на четыреугольный двор, где ждало их страшное зрелище.
Сильный пожар, раздуваемый крепким восточным ветром, охватил уже военную тюрьму и стрелковую казарму. Вихри пламени вились по каменным стенам, над раскаленной кровлей и длинными языками выбивались из выгоревших окон. Черные башни Мункгольма то краснели от страшного зарева, то исчезали в густых клубах дыма.
Сторож, бежавший по двору, рассказал впопыхах палачу, что пожар вспыхнул во время сна часовых Гана Исландца, в кельи чудовища, которому неблагоразумно дали соломы и огня.
– Вот несчастие-то, – вскричал Оругикс, – теперь и Ган Исландец ускользнул от меня. Негодяй наверно сгорит! Не видать мне его тела, как своих двух дукатов!
Между тем злополучные стрелки Мункгольмского гарнизона, видя близость неминуемой смерти, столпились у главного входа, запертого наглухо на ночь. На дворе слышались их жалобные стоны и вопли. Ломая руки, высовывались они из горящих окон и кидались на двор, избегая одной смерти и встречая другую.
Пламя яростно охватило все здание, прежде чем подоспели на помощь остатки гарнизона. О спасении нечего было и думать. По счастию, строение стояло отдельно от прочих зданий; пришлось ограничиться тем, что прорубили топорами главную дверь, но и то слишком поздно, так как когда она распахнулась, обуглившаяся крыша рухнула с страшным треском на несчастных солдат, увлекая в своем падении прогоревшие полы и потолки. Все здание исчезло тогда в вихре раскаленной пыли и дыма и замерли последние слабые стоны жертв.
К утру на дворе возвышались лишь четыре высокие стены, почернелые и еще теплые, окружающие страшную груду пожарища, где еще тлелись головни, пожирая друг друга, как дикие звери в цирке.
Когда развалины несколько остыли, принялись разрывать их, и под грудою каменьев, бревен и скрученных от жара скоб нашли массу побелевших костей и изуродованных трупов. Тридцать солдат, по большей части искалеченных, вот все, что осталось от прекрасного Мункгольмского полка.
Раскапывая развалины тюрьмы, добрались наконец до роковой кельи Гана Исландца, откуда начался пожар. Там нашли останки человеческого тела, лежавшего близ железной жаровни, на разорванных цепях. Приметили только, что в пепле лежало два черепа, хотя труп был один.








