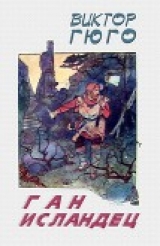
Текст книги "Ган Исландец"
Автор книги: Виктор Гюго
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
XL
– Дитя мое, отвори это окно; стекла запотели, а мне хотелось бы поглядеть на свет Божий.
– Смотрите, батюшка; скоро наступит ночь.
– Нет, солнечные лучи еще играют на холмах, окружающих залив. Мне надо подышать вольным воздухом сквозь решетку моей тюрьмы. Как ясен небосклон!
– Батюшка, гроза собирается за горизонтом.
– Гроза, Этель! Где ты видишь?.
– Батюшка, я жду грозы, когда небосклон слишком ясен.
Старик с удивлением взглянул на молодую девушку.
– Если бы в молодости я рассуждал как ты, меня бы не было здесь.
Помолчав, он добавил спокойнее:
– Ты сказала правду, но такая опытность несвойственна твоему возрасту. Не понимаю, почему твой юный ум так походит на мою старую опытность.
Этель потупила голову, как бы смущаясь этим простым и метким замечанием. Руки ее болезненно сжались, глубокий вздох вырвался из груди.
– Дитя мое, – продолжал старик-узник, – с некоторых пор я стал примечать, что ты бледнеешь, как будто жизнь уже не греет кровь в твоих жилах. По утрам ты являешься ко мне с красными распухшими веками, с заплаканными глазами, которых не смыкала всю ночь. Вот уже несколько дней, Этель, ты упорно молчишь, твой голос не пытается отвлечь меня от мрачных дум о прошедшем. Ты сидишь подле меня печальнее меня самого, хотя на твоей душе не лежит бремя пустой суетной жизни. Печаль окружает твою молодость, но она не могла еще проникнуть в твое сердце. Утренние тучи скоро исчезнут на небе. Ты в таком теперь возрасте, когда в мечтах намечают свою будущность, как бы худо ни было настоящее. Что случилось с тобой, дитя мое? Однообразие узничества защищает тебя от неожиданных огорчений. Что сделала ты? Не может быть, чтобы ты горевала о моей участи; ты должна была привыкнуть к моему несчастию, которому пособить нельзя. Правда, в разговорах моих ты никогда не слышала надежды, но это не причина, чтобы я читал отчаяние в твоих взорах.
Суровый голос узника смягчился почти до отеческой нежности. Этель молча стояла перед ним; вдруг она отвернулась с конвульсивным движением, упала на колени и закрыла лицо руками, как бы для того, чтобы заглушить слезы и рыдание, волновавшие ей грудь.
Сердце несчастной девушки разрывалось от непосильного горя. Что сделала она этой роковой незнакомке, зачем открыла она ей тайну, разбившую все мечты ее жизни? Увы! С тех пор, как узнала она, кто был Орденер, глаза ее не смыкались ни на минуту, душа не знала минуты покоя. Ночь приносила ей одно лишь облегчение: она могла плакать свободно. Все кончено! Ей уж не принадлежал тот, к которому неслись все ее мечты, которого она в скорбях и молитвах считала своим, который в сновидениях являлся ей супругом. Тот вечер, когда Орденер так нежно сжимал ее в своих объятиях, был для нее только сном, сладким сном, повторявшимся каждую ночь.
И так любовь, которую она невольно питала к отсутствующему другу, чувство преступное для нее! Ее Орденер жених другой! Кто в состоянии выразить мучение девственного сердца, когда в него змеей вползает страшное, неведомое дотоле чувство ревности? Когда в долгие часы бессонницы, разметавшись на жарком ложе, она воображала своего Орденера в объятиях другой женщины, которая красивее, богаче и знатнее ее?
– Как глупо было, – говорила она себе, – поверить, что он пошел на смерть за меня. Орденер, сын вице-короля, сын могущественного вельможи, а я не более как бедная узница, презренная дочь изгнанника. Он свободен и ушел! Ушел, конечно, для того, чтобы жениться на прекрасной невесте, на дочери канцлера, министра, гордого графа!.. Неужели Орденер обманул меня? Боже! Кто бы мог сказать, что этот голос говорит ложь?..
Злополучная Этель заливалсь слезами и снова представлялся ей Орденер, ее обожаемый Орденер, который, во всем блеске своего сана, ведет другую к алтарю, к другой обращает улыбку, составлявшую некогда все ее счастие.
Однако, не смотря на всю глубину ее невыразимого отчаяние, ни на минуту не забыла она своей дочерней нежности. Сколько геройских усилий стоило этой слабой девушке скрыть от несчастного отца свое горе. Нет ничего мучительнее, как в печали таить свою печаль, сдерживаемые слезы несравненно горче проливаемых. Только спустя несколько дней молчаливый старик приметил перемену в своей Этели, и только нежное участие его могло наконец вызвать слезы, так давно накопившиеся в ее груди.
Несколько минут отец с горькой улыбкой смотрел на свою плачущую дочь и покачал головой.
– Этель, – спросил он наконец, – ты не жила с людьми, о чем же ты плачешь?
Лишь только произнес он эти слова, благородная, прелестная девушка поднялась, перестала плакать и отерла слезы.
– Батюшка, – сказала она с усилием, – батюшка, простите меня… Это была минута слабости.
Она взглянула на него, пытаясь улыбнуться.
Она отыскала в глубине комнаты Эдду, села у ног своего безмолвного отца и, на удачу развернув книгу, принялась читать, сдерживая волнение, дрожавшее в ее голосе. Но чтение ее было бесполезно: старик не слушал ее, сама она не понимала, что читала.
Шумахер махнул рукой.
– Довольно, перестань, дитя мое.
Этель закрыла книгу.
– Этель, – спросил Шумахер, – вспоминаешь ли ты когда Орденера?
Молодая девушка смутилась и вздрогнула.
– Да, – продолжал он, – Орденера, который отправился…
– Батюшка, – перебила Этель, – что нам за дело до него? Я разделяю ваше мнение: он отправился, чтобы никогда не возвращаться сюда.
– Не возвращаться сюда, дитя мое! Я не мог этого говорить. Не знаю, но какое-то предчувствие напротив убеждает меня, что он вернется.
– Вы этого не думали, батюшка, когда с такою недоверчивостью отзывались о нем.
– Разве я выражал к нему недоверие?
– Да, батюшка, и я разделяю ваш взгляд. Я думаю что он обманул нас.
– Обманул нас, дитя мое! Если я так думал о нем, я подражал людям, которые обвиняют, не разбирая вины… До сих пор я не знал человека преданнее Орденера.
– Но, батюшка, уверены ли вы, что под его добродушием не скрывается вероломства?
– Обыкновенно люди не лицемерят с несчастным, впавшим в немилость. Если бы Орденер не был предан мне, что могло привлечь его в эту тюрьму?
– Убеждены ли вы, – слабым голосом возразила Этель, – что, приходя сюда, он не имел другой цели?
– Но какую же? – с живостью спросил старик.
Этель молчала.
Ей невыносимо было продолжать обвинять своего возлюбленного Орденера, которого прежде она так горячо защищала пред отцом.
– Я уже не граф Гриффенфельд, – продолжал Шумахер, – я уже не великий канцлер Дании и Норвегии, не временщик, который раздает королевские милости, не всемогущий министр. Я презренный государственный преступник, изменник, политическая чума. Надо иметь много смелости, чтобы без брани и проклятий говорить обо мне с теми, которые обязаны мне своими почестями и богатством. Нужна большая преданность, чтобы перешагнуть, не будучи ни тюремщиком, ни палачом, порог этой темницы. Надо иметь много героизма, дитя мое, чтобы являться сюда, называясь моим другом… Нет, я не буду неблагодарен, подобно всем людям. Этот юноша заслужил мою признательность. Не показал ли он мне своего участие, не ободрял ли меня?…
Этель с горечью слушала эти слова, которые обрадовали бы ее несколько дней тому назад, когда этот Орденер был для нее еще моим Орденером. После минутного молчание, Шумахер продолжал торжественным тоном:
– Слушай, дитя, внимательно, я хочу поговорить с тобой о важном деле. Я чувствую, что силы медленно оставляют меня, жизнь мало-помалу гаснет; да, дитя мое, мой конец приближается.
Подавленный стон вылетел из груди Этели.
– Ради Бога, батюшка, не говорите этого! Пожалейте вашу несчастную дочь! Вы тоже хотите меня покинуть? Что станется со мною, одинокой на свете, если я лишусь вашего покровительства?
– Покровительство изгнанника! – сказал отец, поникнув головой. – Вот об этом-то я и думал, потому что твое будущее благосостояние занимает меня гораздо более, чем мои прошлогодние бедствия… Выслушай и не перебивай меня. Дитя мое, Орденер вовсе не заслуживает, чтобы ты так сурово относилась к нему, и до сих пор я не думал, чтобы ты питала к нему отвращение. Наружность его привлекательна, дышит благородством; положим, что это еще ничего не доказывает, но я принужден сознаться, что заметил в нем несколько добродетелей, хотя ему достаточно обладать человеческой душой, чтобы носить в себе зародыш всех пороков и преступлений. Нет пламени без дыму!
Старик опять остановился и, устремив на дочь свой пристальный взор, добавил:
– Предчувствуя близость своей кончины, я размышлял о нем и о тебе, Этель; и если он, как я надеюсь, возвратится, я избираю его твоим покровителем и мужем.
Этель побледнела и вздрогнула; в ту минуту, когда блаженные грезы оставили ее навсегда, отец пытался осуществить их. Горькая мысль – так я могла быть счастлива! – еще более растравила ее отчаяние. Несчастная девушка не смела вымолвить слова, опасаясь, чтобы не хлынули из глаз ее душившие ее слезы.
Отец ожидал ответа.
– Как! – сказала она, наконец, задыхающимся голосом. – Вы назначали мне его в мужья, батюшка, не зная его происхождение, его семьи, его имени?
– Не назначал, дитя мое, а назначил.
Тон старика был почти повелителен. Этель вздохнула.
– Назначил, повторяю тебе; да и что мне за дело до его происхождения? Мне не надо знать его семьи, если я знаю его самого. Подумай: это единственный якорь спасения, на который ты можешь рассчитывать. Мне кажется, что, по счастию, он не питает к тебе того отвращение, как ты выказываешь к нему.
Бедная девушка устремила свой взор к небу.
– Ты понимаешь меня, Этель; повторяю, что мне за дело до его происхождения? Очевидно, он не знатного рода, потому что родившегося во дворце не учат посещать тюрьмы. Да, дитя мое, оставь свои горделивые сетования; не забудь, что Этель Шумахер уже не княжна Воллин, не графиня Тонгсберг; ты низведена теперь ниже той ступени, откуда стал возвышаться твой отец. Будь счастлива и довольна судьбой, если этот человек, какого бы он ни был рода, примет твою руку. Даже лучше, если он не знатного происхождение, по крайней мере, дни твои не будут знать бурь, возмущавших жизнь твоего отца. Вдали от людской ненависти и злобы, в неизвестности, твоя жизнь протечет не так, как моя, потому что кончится лучше, чем началась…
Этель упала на колени перед узником.
– Батюшка!.. Сжальтесь!
Он с удивлением протянул руки.
– Что ты хочешь сказать, дитя мое?
– Ради Бога, не описывайте мне этого блаженства, оно не для меня!
– Этель, – сурово возразил старик, – не шути так целою жизнью, которая лежит пред тобой. Я отказался от руки принцессы царственной крови, принцессы Гольштейн Аугустенбургской, понимаешь ли? И понес жестокое наказание за мою гордость. Ты пренебрегаешь человеком незнатным, но честным; смотри, чтобы твою гордость не постигла такая же тяжелая кара.
– О, если бы это был человек не знатный и честный! – прошептала Этель.
Старик встал и взволнованно прошелся по комнате.
– Дитя мое, – сказал он, – тебя просит, тебе приказывает твой несчастный отец. Не заставляй меня перед смертью беспокоиться о твоей будущности. Обещай мне выйти за этого незнакомца.
– Я всегда готова повиноваться вам, батюшка, но не надейтесь на его возвращение…
– Я уже все обдумал и полагаю, судя по тону, каким Орденер произносит твое имя…
– Что он меня любит! – с горечью докончила Этель. – О, нет! Не верьте ему!
Отец возразил холодно:
– Не знаю, любит ли он тебя, как обыкновенно выражаются молодые девушки; но знаю, что он вернется.
– Оставьте эту мысль, батюшка. К тому же, быть может вы сами не захотите назвать его своим зятем, когда узнаете кто он.
– Этель, он будет им, не смотря на его имя и звание.
– Но, – возразила она, – если этот молодой человек, в котором вы видели своего утешителя, в котором хотите видеть опору вашей дочери, батюшка, что если это сын одного из ваших смертельных врагов, сын вице-короля Норвегии, графа Гульденлью?
Шумахер отшатнулся.
– Что ты сказала? Боже мой! Орденер! Этот Орденер!.. Не может быть!..
Невыразимая ненависть, вспыхнувшая в тусклых взорах старика, оледенила сердце дрожащей Этели, которая поздно раскаивалась в своих неблагоразумных словах.
Удар был нанесен. Несколько мгновений Шумахер оставался недвижим, скрестив руки на груди; все тело его вздрагивало как на раскаленных угольях, его сверкающие глаза выкатились из орбит, его взор, устремленный в каменный пол, казалось, хотел уйти в его глубину. Наконец несколько слов сорвалось с его бледных губ, и он произнес слабым голосом, как бы сквозь сон.
– Орденер!.. Да, так и есть, Орденер Гульденлью. Превосходно! И так, Шумахер, старый безумец, открывай ему свои объятие, этот честный юноша готовится поразить тебя кинжалом.
Вдруг он топнул ногой и продолжал громким голосом.
– Они подсылали ко мне все свое гнусное отродье, что бы издеваться над моим бедствием и заточением! Я уже видел одного из Алефельдов, радушно принимал Гульденлью! Чудовища! Кто бы мог думать, что этот Орденер носит такое имя и такую душу! Горе мне! Горе ему!
Он упал в кресло в изнеможении; и между тем как его стесненная грудь волновалась от глубоких вздохов, бедняжка Этель, дрожа от ужаса, плакала у его ног.
– Не плачь, дитя мое, – сказал он мрачным голосом, – встань, прижмись к моему сердцу.
Он открыл ей свои объятия.
Этель не могла объяснить себе этой нежности, проявившейся в минуту гнева, как вдруг он сказал:
– По крайней мере, дитя мое, ты была дальновиднее твоего старого отца. Тебя не обманули чарующие ядовитые глаза змеи. Позволь поблагодарить тебя за ненависть, которую ты питаешь к этому гнусному Орденеру.
Девушка вздрогнула от похвалы, столь мало заслуженной.
– Батюшка, – начала она, – успокойтесь…
– Обещай мне, – продолжал Шумахер, – всегда питать это чувство к сыну Гульденлью; поклянись мне.
– Бог запрещает клясться, батюшка…
– Поклянись, дочь моя, – повторил Шумахер с запальчивостью. – Не правда ли, сердце твое никогда не переменится к этому Орденеру Гульденлью?
Этель ответила, не задумываясь.
– Никогда.
Старик привлек ее к своей груди.
– Благодарю, дитя мое; по крайней мере ты наследуешь мою ненависть к ним, если не можешь наследовать почестей и богатства, отнятых ими. Слушай: они лишили твоего старого отца сана и знатности, взведя на эшафот, они бросили меня в темницу, подвергнув мучительной пытке, как бы для того, чтобы запятнать меня позором. Гнусные люди! Мне обязаны они могуществом, которым задавили меня! О! Да услышат меня силы небесные и земные, да будут прокляты мои враги и все их потомство!
Он помолчал минуту, затем обняв бедную, испуганную его проклятиями девушку, сказал:
– Но, Этель, моя единственная отрада и гордость, скажи мне, каким образом ты оказалась прозорливее меня? Каким образом открыла ты, что этот изменник носит самое ненавистное для меня имя, желчью вписанное в глубине моего сердца? Каким образом проведала ты эту тайну?
Она собиралась с силами, чтобы ответить, как вдруг дверь отворилась.
Какой то человек в черной одежде, с жезлом из черного дерева в руках, с стальной цепью на шее, показался на пороге двери, окруженный алебардщиками, тоже одетыми в черное.
– Что тебе нужно? – спросил узник с досадой и удивлением.
Незнакомец, не отвечая на вопрос и не смотря на Шумахера, развернул длинный пергамент с зеленой восковой печатью на шелковых шнурках и прочел громко:
– «Именем его величества, всемилостивейшего повелителя и государя нашего, короля Христиерна!
Повелеваем Шумахеру, государственному узнику королевской Мункгольмской крепости, и дочери его следовать за подателем сего указа».
Шумахер повторил свой вопрос:
– Что тебе нужно от меня?
Незнакомец невозмутимо принялся снова читать королевский указ.
– Довольно, – сказал старик.
Он встал и сделал знак изумленной и испуганной Этели идти с ним за этим мрачным конвоем.
XLI
Настала ночь; холодный ветер завывал вокруг Проклятой Башни, и двери развалин Виглы шатались на петлях, как будто одна рука разом толкала их.
Суровые обитатели башни, палач с своей семьей, собрались у очага, разведенного посреди залы нижнего жилья. Красноватый мерцающий свет огня освещал их мрачные лица и красную одежду. В чертах детей было что то свирепое, как смех родителя, и угрюмое как взор их матери.
И дети, и Бехлия смотрели на Оругикса, по-видимому отдыхавшего на деревянной скамье; его запыленные ноги показывали, что он только что вернулся издалека.
– Слушайте, жена и дети! Не с дурными вестями пришел я к вам после двухдневной отлучки. Пусть я разучусь затягивать мертвую петлю, пусть разучусь владеть топором, если раньше месяца не сделаюсь королевским палачом. Радуйтесь, волчата, быть может, отец оставит вам в наследство копенгагенский эшафот.
– В чем дело, Николь? – спросила Бехлия.
– Радуйся и ты, старая цыганка, – продолжал Николь с грубым хохотом, – ты можешь купить себе синее стеклянное ожерелье и украсить им твою шею, похожую на горло задушенного аиста. Нашему браку скоро выйдет срок; но через месяц, увидев меня палачом обоих королевств, наверно ты не откажешься распить со мной еще кружку.
– В чем дело, в чем дело? – кричали дети, из которых старший играл с окровавленной деревянной кобылой, младший же забавлялся, ощипывая перья с живой маленькой птички, вынутой им из гнезда.
– Что случилось, детки?.. Задуши птичку, Гаспар, она пищит, словно тупая пила. К чему бесполезная жестокость. Задуши ее. Что случилось? Да ничего особенного, за исключением разве того, что дней через восемь бывший канцлер Шумахер, мункгольмский узник, с которым я уже встречался в Копенгагене, и знаменитый исландский разбойник Ган из Клипстадуры, быть может, оба разом попадут в мои лапы.
В тусклых глазах Бехлии мелькнуло выражение удивление и любопытства.
– Шумахер! Ган Исландец! Что это значит, Николь?
– А вот что. Вчера утром я встретил по дороге в Сконген на Ордальском мосту полк мункгольмских стрелков, с победоносным видом возвращавшихся в Дронтгейм. Я спросил одного из солдат, который удостоил меня ответом, должно быть не зная отчего красны мой плащ и повозка. Я узнал, что стрелки возвращаются из ущельев Черного Столба, где разбили на голову шайку разбойников, то есть возмутившихся рудокопов. Видишь ли, Бехлия, эти бунтовщики под предводительством Гана Исландца восстали за Шумахера и таким образом первого будут судить за возмущение против королевской власти, а второго за измену. Само собою разумеется, оба господина попадут или на виселицу, или на плаху. Так вот, только эти две славные казни принесут мне по меньшей мере по пятнадцати дукатов за каждую, не говоря уже о других менее важных…
– Да правда ли это! – перебила Бехлия. – Неужели Ган Исландец схвачен?
– Не смей перебивать меня, старая ворона, – закричал палач, – да, наконец-то знаменитый, неуловимый Ган Исландец взят живьем, а вместе с ним захвачены и другие предводители бунтовщиков, с которых мне придется по двенадцати экю за голову, не считая стоимости трупов. Да, он взят, говорю тебе, и чтобы вполне удовлетворить свое любопытство, узнай, что я сам видел как он шел в рядах солдат.
Жена и дети с любопытством придвинулись к Оругиксу.
– Так ты видел его?
– Цыц, волчата! Вы вопите, словно мошенник, уверяющий в своей невинности. Да, я сам видел его. Этот великан шел с руками, скрученными за спиной, с повязкой на лбу. Без сомнение, он ранен в голову, но пусть будет спокоен, я живо залечу ему эту рану.
Палач заключил свою страшную шутку выразительным жестом и продолжал:
– Следом за ним вели четырех его товарищей, тоже раненых. Всех их отправят в Дронтгейм, где будут судить вместе с бывшим великим канцлером Шумахером в присутствии главного синдика и под председательством нынешнего великого канцлера.
– А как выглядели другие пленники?
– Два старика, на одном войлочная шляпа рудокопа, на другом меховая шапка горца. Оба заметно приуныли. Из остальных пленников, один молодой рудокоп шел весело, посвистывая, другой… Помнишь ты, Бехлия, тех путников, которые дней десять тому назад, в бурную ночь нашли убежище в этой башне?..
– Как сатана помнит день своего падение, – ответила жена.
– А приметила ты между ними молодчика, сопровождавшего старого выжившего из ума ученого, в огромном парике?.. Помнишь, молодчик в широком зеленом плаще с черным пером на шляпе?
– Еще бы! Как теперь помню, он сказал мне: добрая женщина, у нас есть золото…
– Ну вот, старуха; если четвертый пленник не этот молодчик, так я обязуюсь душить одних глухих тетеревей. Правда, из-за пера, шляпы, волос и плаща я не мог хорошенько разглядеть его, да и голову то он повесил; но на нем была та же самая одежда, те же сапоги… ну, словом, я готов проглотить Сконгенскую каменную виселицу, если это не тот самый молодчик! Как тебе это нравится, Бехлия? Не забавно ли будет, если я, поддержав сперва жизнь этого незнакомца, теперь отправлю его на тот свет?
Палач захохотал зловещим смехом, потом продолжал:
– Ну, выпьем на радостях, Бехлия; налей-ка стакан того пивца, что дерет горло как напилок, за здоровье почтеннейшего Николя Оругикса, будущего королевского палача! Признаться, мне уж не хотелось идти в Нес вешать какого то мелкого воришку; однако я сообразил, что тридцатью двумя аскалонами пренебрегать не следует, что пока мне удастся снять голову благородному графу, бывшему великому канцлеру, и знаменитому исландскому демону, я ничуть не обесславлю себя, казня воров и тому подобных негодяев… Поразмыслив это, в ожидании диплома на звание королевского палача, я и спровадил на тот свет какого-то каналью из Неса. На, старуха, получай тридцать два аскалона полностью, – прибавил он, вытаскивая кожаный кошелек из дорожной котомки.
В эту минуту снаружи башни послышался троекратный звук рожка.
– Жена, – вскричал Оругикс, подымаясь с скамьи, – это полицейские главного синдика.
С этими словами он торопливо сбежал вниз.
Минуту спустя, он вернулся с большим пергаментом и поспешил сломать печать.
– Вот что прислал мне главный синдик, – сказал палач, подавая пергамент жене, – прочти-ка, ты ведь разбираешь всякую тарабарскую грамоту. Почем знать, может быть это мое повышение; да оно и понятно: судить будут великого канцлера, председательствовать будет великий канцлер, необходимо, чтобы и исполнителем приговора был королевский палач.
Жена развернула пергамент и, рассмотрев его, стала читать громким голосом, между тем как дети тупо уставились на нее глазами.
«Именем главного синдика Дронтгеймского округа, приказываем Николю Оругиксу, окружному палачу, немедленно явиться в Дронтгейм с топором, плахой и трауром».
– И все? – спросил палач раздосадованным тоном.
– Все, – ответила Бехлия.
– Окружной палач! – проворчал сквозь зубы Оругикс.
С минуту он с досадой рассматривал приказ синдика.
– Делать нечего, – сказал он наконец, – надо повиноваться, если требуют топор и траур. Позаботься, Бехлия, надо вычистить топор от ржавчины, да посмотреть, не запачкана ли драпировка. Впрочем, не к чему отчаиваться; может быть повышение ждет меня в награду за выполнение такой славной казни. Тем хуже для осужденных: они лишаются чести умереть от руки королевского палача.








