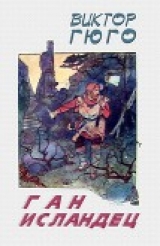
Текст книги "Ган Исландец"
Автор книги: Виктор Гюго
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Бенигнусу совсем не хотелось остаться одному внизу башни. Когда он повернулся, чтобы удержать Орденера за руку, котомка, лежавшая у него на коленях, свалилась на землю и зазвенела.
– Что это звенит у тебя в котомке? – спросил Орденер.
Этот вопрос, задевший чувствительную струну Спиагудри отбил у него всякую охоту удерживать своего спутника.
– Ну, – сказал он, не отвечая на вопрос, – если уж вы, не смотря на мои просьбы, решились взобраться на верхушку этой башни, остерегайтесь трещин лестницы.
– Хорошо, но, – снова повторил свой вопрос Орденер, – что это в твоей котомке издает такой металлический звук?
Эта нескромная настойчивость сильно не понравилась старому смотрителю Спладгеста, который от души проклинал любопытство своего товарища.
– Э! Сударь, – ответил он, – стоит вам обращать внимание на дрянное железное блюдце для бритья, которое стукнулось о камень!.. Уж если вы не хотите меня послушаться, – поспешил он прибавить, – не мешкайте и спускайтесь поскорее назад, придерживаясь за плющ, который вьется по стене. Мункгольмский маяк вы увидите на юге, между двумя скамейками Фригги.
Спиагудри ничего лучшего не мог придумать для того, чтобы отвлечь внимание молодого человека от котомки.
Скинув плащ, Орденер стал взбираться по лестнице, товарищ его следил за ним глазами, пока он не стал казаться легкою тенью, скользившей в вышине стены, вершина которой едва освещалась колеблющимся пламенем костра и неподвижным отблеском луны.
Тогда смотритель Спладгеста снова уселся у огня и поднял свою котомку.
– Ну, мой милый Бенигнус Спиагудри, – пробормотал он, – пока не видит тебя эта молодая рысь и пока ты один, поспеши разбить эту неудобную железную крышку, которая мешает тебе вступить во владение, осulis et mаnu[35]35
Глазами и рукой (лат.) (Прим. верстальщика).
[Закрыть], сокровищем, без сомнение заключающимся в этом ящике. Когда оно освободиться из своей тюрьмы, его легче будет носить и удобнее прятать.
Вооружившись большим камнем, он готовился уже разбить крышку шкатулки, как вдруг луч света, упавший на железную печать, остановил антиквария.
– Клянусь святым Виллебродом Нумизматом, я не ошибаюсь, – вскричал он, вытирая ржавую крышку. – это герб Гриффенфельда! Я чуть не сделал страшную глупость, разбив печать, быть может единственный образец знаменитого герба, разбитого рукою палача в 1676 году. Чорт возьми! Не станем трогать крышку, которая сама по себе драгоценнее сокровищ, скрытых под нею, если только, что впрочем не вероятно, там не лежат монеты Пальмиры или карфагенские медали. И так, у меня одного находится не существующий теперь герб Гриффенфельда! Надо припрятать получше это сокровище. Быть может мне удастся узнать секрет открыть этот ящик, не прибегая к вандализму. Герб Гриффенфельда! Да! Нет сомнения, вот жезл правосудие, весы на красном поле… Какая счастливая находка!
При каждом новом геральдическом открытии, которое он делал, стирая ржавчину с старой печати, с губ его срывался то крик удивление, то восторженное восклицание.
– Посредством разлагающего вещества я вскрою замок, не повредив печати. Тут без сомнение сокровища бывшего канцлера… Если кто-нибудь признает меня и, соблазнившись четырьмя экю синдика, задержит на дороге, мне не трудно будет откупиться… Таким образом, мою жизнь спасет этот благодетельный ящик…
С этими словами он машинально поднял взор. В одно мгновение ока смешная физиономия его, только что выражавшая живейшую радость, оцепенела от ужаса. Конвульсивная дрожь пробежала по членам, глаза расширились, лоб покрылся морщинами, рот остался разинутым, голос замер в гортани подобно потухающему пламени.
Перед ним по ту сторону костра стоял малорослый, скрестив руки на груди. По одежде его из окровавленных шкур, по каменному топору, по зверскому взгляду, устремляемому на него, злополучный смотритель Спладгеста тотчас же узнал страшное существо, посетившее его в последнюю ночь, которую провел он в Дронтгейме.
– Это я! – произнес малорослый с угрожающим видом. – Твою жизнь спасет этот ящик, – добавил он с страшной иронической усмешкою. – Разве здесь дорога в Токтре?
Несчастный Спиагудри пытался произнести несколько слов.
– В Токтре!.. Сударь… Милостивый господин… я шел туда…
– Ты шел в Вальдергогскую пещеру, – ответил тот громовым голосом.
Пораженный ужасом, Спиагудри собрал все свои силы, чтобы отрицательно покачать головой.
– Ты вел ко мне врага; спасибо! По крайней мере одним живым существом будет меньше. Не бойся, верный проводник, он последует за тобою.
Несчастный смотритель Спладгеста хотел было закричать, но мог испустить только какое то невнятное ворчанье.
– Зачем ты боишься меня? Ведь ты меня искал… Слушай же, не кричи, не то ты тотчас же умрешь.
Малорослый взмахнул каменным топором над головой Спиагудри, и продолжал голосом, который выходил из его груди подобно реву потока, вырывающегося из пещеры:
– Ты изменил мне.
– Нет, ваша милость, нет, ваше превосходительство, – сказал наконец Бенигнус, с трудом произнося эти умоляющие слова.
Малорослый испустил глухой рев.
– А! Ты еще хочешь обмануть меня! Напрасно… Слушай, я был на кровле Спладгеста, когда ты заключил договор с тем безумцем; дважды я давал тебе знать о себе. Мой голос слышал ты на дороге во время бури; это я нашел тебя в башне Виглы; это я сказал тебе: до свидания!..
Пораженный ужасом, Спиагудри кидал вокруг себя блуждающие взоры, как бы ища помощи. Малорослый продолжал.
– Я не хотел упустить солдат, которые преследовали тебя. Они были Мункгольмского полка, а тебя я всегда мог найти. Спиагудри, это меня видел ты в деревне Оельме в войлочной шляпе рудокопа. Мои шаги, мой голос и мои глаза узнал ты в этих развалинах; все это был я!
Увы! Несчастный был слишком убежден в этом, чтобы сомневаться. Он упал на землю к ногам своего грозного судьи и, задыхаясь от ужаса, вскричал раздирающим душу голосом:
– Пощадите!
Малорослый, скрестив руки, устремил на него налитые кровью глаза, сверкающие ярче пламени костра.
– Моли этот ящик о твоем спасении, – заметил он с страшной иронией.
– Пощадите!.. Пощадите! – повторял Спиагудри, полумертвый от страха.
– Я предупреждал тебя, чтобы ты был верен и нем. Ты изменил мне, но клянусь, ты онемеешь на веки.
Спиагудри, поняв страшный смысл этих слов, застонал.
– О! Не бойся, – продолжал малорослый, – ты не расстанешься с своим сокровищем.
С этими словами он снял с себя кожаный пояс, продел его в кольцо ящика и привязал к шее Спиагудри, который согнулся под непосильной тяжестью.
– Ну, – продолжал малорослый, – какому дьяволу поручаешь ты свою душу? Зови его скорее на помощь, не то другой демон, о котором ты и не помышлял, завладеет ею прежде него.
Старик в отчаянии, не в силах произнести ни слова, упал к ногам малорослого, знаками выражая свой ужас и мольбу о пощаде.
– Нет, нет! – произнес тот. – Слушай, верный Спиагудри, не отчаивайся, оставляя без проводника своего молодого товарища. Говорю тебе, он последует за тобою. Иди же! Ты только проложишь ему дорогу… Ну!
С этими словами, схватив несчастного в свои железные тиски, он вынес его из башни, как тигр, уносящий длинную змею.
Минуту спустя, громкий крик огласил развалины, смешавшись с страшным взрывом хохота.
XXIII
Между тем отважный Орденер, рискуя раз двадцать свалиться с шаткой лестницы, добрался наконец до вершины толстой круглой стены башни.
При его неожиданном появлении черные столетние совы, спугнутые с развалин, разлетелись в стороны, устремив на него свой пристальный взор; круглые камни, катясь под его ногами, падали в бездну, ударяясь о выступы скал с глухим, отдаленным шумом.
В другое время Орденер принялся бы осматривать пропасть, глубина которой увеличивалась ночной темнотой. Взгляд его, обозревая огромные тени на горизонте, темные контуры которых едва белелись на притуманном блеске луны, пытался бы различать пары от скал и горы от облаков; в его воображении ожили бы все эти гигантские образы, все эти фантастические виды, которые при лунном свете воспринимают горы и туманы. Он прислушивался бы к смутному говору озера и леса, смешивающемуся с резким свистом сухой травы, волнуемой ветром у его ног, среди расселин скалы. Его ум одарил бы языком эти мертвенные голоса, которые издает природа в ночной тишине, когда все на земле засыпает.
Между тем, в эту минуту, хотя сцена, явившаяся взору Орденера, невольно взволновала все его существо, иные мысли толпились в его голове. Едва нога его ступила на вершину стены, взоры его устремились к югу и невыразимый восторг овладел им, когда приметил он меж хребтами двух гор блестящую точку, сверкавшую на горизонте, подобно красной звезде.
То был Мункгольмский маяк.
Истинные радости жизни недоступны тому, кто не в состоянии понять счастие, охватившего все существо молодого человека. Сердце его забилось от восторга; сильно вздымающаяся грудь едва дышала. Устремив неподвижный пристальный взор на звезду, он взирал на нее с умилением и надеждой. Ему казалось, что этот луч света в глубокую ночь исходивший из жилища, в котором таилось его блаженство, несся к нему из сердца Этели.
О! Нельзя сомневаться, что иной раз, не взирая на время и пространство, души могут таинственным образом беседовать между собою. Тщетно реальный мир воздвигает преграды между двумя любящими сердцами; живя идеальной жизнью, они свидятся и в разлуке, соединятся и в смерти. Что значит разлука телесная, физическое расстояние для двух существ, неразрывно соединенных единомыслием и общим стремлением.
Истинная любовь может страдать, но никогда не умрет.
Кто не стоял сотни раз в дождливую ночь под окном, едва освещенном во мраке? Кто не ходил взад и вперед перед дверью, кто радостно не блуждал вокруг дома? Кто поспешно не сворачивал с дороги, чтобы следовать вечером по извилинам глухой улицы за развевающимся платьем, за белым покрывалом, нечаянно примеченным в тени? Кому неизвестны эти волнение, тот никогда не любил.
Глядя на отдаленный Мункгольмский маяк, Орденер погрузился в задумчивость. Печальное, ироническое довольство сменило в нем первый восторг; тысячи разнообразных ощущений столпились в его взволнованной груди.
– Да, – говорил он себе, – долгий, томительный путь должен совершить человек, чтобы наконец приметить точку счастия в беспредельной ночи… Она там!.. Спит, мечтает, быть может думает обо мне… Но кто поведает ей, что ее печальный, одинокий Орденер стоит теперь во мраке на краю бездны?.. Ее Орденер, который имеет от нее только локон на груди и неясный свет огня на горизонте!..
Взглянув на красноватый отблеск костра, разведенного в башне, отблеск, пробивавшийся наружу через трещины в стене, он продолжал:
– Кто знает, может быть она равнодушно смотрит из окна своей тюрьмы на отдаленное пламя этого очага…
Вдруг громкий крик и продолжительный взрыв хохота послышались ему, как бы выходя из пропасти, лежащей у его ног; он поспешно обернулся и приметил, что внутренность башни опустела.
Беспокоясь за старика, он поспешил спуститься, но едва успел пройти несколько ступеней лестницы, как слуха его коснулся глухой шум, подобный тому, который производит тяжелое тело, брошенное в воду.
XXIV
Солнце садилось. Горизонтальные лучи его отбрасывали на шерстяную симару Шумахера и креповое платье Этели черную тень решетчатого окна.
Оба сидели у высокого стрельчатого окна, старик в большом готическом кресле, молодая девушка на табурете у его ног. Узник, казалось, погружен был в мечты, приняв свое любимое меланхолическое положение. Его высокий, изрытый глубокими морщинами лоб опущен был на руки, лица не было видно, седая борода в беспорядке лежала на груди.
– Батюшка, – промолвила Этель, стараясь всячески рассеять старца, – сегодня ночью я видела счастливый сон… Посмотрите, батюшка, какое прекрасное небо.
– Я вижу небо, – отвечал Шумахер, – только сквозь решетку моей тюрьмы, подобно тому, как вижу твою будущность, Этель, сквозь мои бедствия.
Голова его, на мгновенье поднявшаяся, снова упала на руки. Оба замолчали.
– Батюшка, – продолжала робко молодая девушка минуту спустя, – вы думаете о господине Орденере?
– Орденер? – повторил старик, как бы припоминая о ком ему говорят. – А! я знаю о ком ты говоришь. Ну что же?
– Как вы думаете, батюшка, скоро он вернется? Он уже давно уехал. Уж четвертый день…
Старик печально покачал головой.
– Я полагаю, что когда мы насчитаем четвертый год его отсутствие, то и тогда его возвращение будет столь же близко как теперь.
Этель побледнела.
– Боже мой! Неужели вы думаете, что он не вернется?
Шумахер не отвечал. Молодая девушка повторила вопрос тревожным, умоляющим тоном.
– Разве он обещал возвратиться? – раздражительно осведомился узник.
– Да, батюшка, обещал! – смущенно ответила Этель.
– И ты рассчитываешь на его возвращение? Разве он не человек? Я верю, что ястреб может вернуться к трупу, но не верю, что весна вернется в конце года.
Этель, видя, что отец ее снова впал в меланхолическое настроение духа, успокоилась. Ее девственное, детское сердце горячо опровергало мрачные мудрствование старца.
– Батюшка, – сказала она с твердостью, – господин Орденер возвратится, он не похож на других людей.
– Ты думаешь, молодая девушка?
– Вы сами знаете это, батюшка.
– Я ничего не знаю, – сказал старик. – Я слышал человеческие слова, возвещавшие деяние Божии.
Помолчав, он добавил с горькой улыбкой.
– Я размышлял об этом и вижу, что все это слишком прекрасно, чтобы быть достоверным.
– А я, батюшка, уверовала, именно потому, что это прекрасно.
– О! Молодая девушка, если бы ты была той, которой должна была бы быть, графиней Тонсберг и княгиней Воллин, окруженной целым двором красивых предателей и расчетливых обожателей, такая доверчивость подвергла бы тебя страшной опасности.
– Батюшка, это не доверчивость, это вера.
– Легко заметить, Этель, что в твоих жилах течет кровь француженки.
Эта мысль неприметно навела старика на воспоминания; он продолжал снисходительным тоном:
– Те, которые свергнули отца своего ниже той ступени, откуда он возвысился, не могут, однако, отнять у тебя право считаться дочерью Шарлотты, принцессы Тарентской; ты носишь имя одной из твоих прабабок, Адели или Эдели, графини Фландрской.
Этель думала совсем о другом.
– Батюшка, вы обижаете благородного Орденера.
– Благородного, дочь моя!.. Какой смысл придаешь ты этому слову? Я делал благородными самых подлых людей.
– Я не хочу сказать, что он благороден от благородства, которым награждают.
– Разве ты знаешь, что он потомок какого-нибудь ярлы или герзы[36]36
До тех пор пока Гриффенфельд не положил основание дворянскому сословию, древние норвежские вельможи носили титул hers (барон) или jаrl (граф). От последнего слова произошло английское earl (граф).
[Закрыть]?
– Батюшка, я знаю об этом не больше вас. Может быть, – продолжала она, потупив глаза, – он сын раба или вассала. Увы! короны и лиры рисуют и на бархате каретной подножки. Дорогой батюшка, я хочу только повторить за вами, что он благороден сердцем.
Из всех людей, с которыми встречалась Этель, Орденер был наиболее и в то же время наименее ей известен. Он вмешался в ее судьбу, так сказать, как ангел, являвшийся первым людям, облеченный за раз и светом, и таинственностью. Одно его присутствие выдавало его природу и внушало обожание.
Таким образом, Орденер открыл Этели то, что люди скрывают пуще всего – свое сердце; он хранил молчание о своем отечестве и происхождении; взгляда его достаточно было для Этели, и она верила его словам. Она любила его, она отдала ему свою жизнь, изучила его душу, но не знала имени.
– Благороден сердцем! – повторил старик. – Благороден сердцем! Это благородство выше того, которым награждают короли: оно дается только от Бога. Он расточает его менее, чем те…
Переведя взор на разбитый щит, узник добавил:
– И никогда не отнимает.
– Не забудьте, батюшка, – заметила Этель, – тот, кто сохранит это благородство, легко утешится в утрате другого.
Слова эти заставили вздрогнуть отца и возвратили ему мужество. Твердым голосом он возразил:
– Справедливо, дочь моя. Но ты не знаешь, что немилость, признаваемая всеми несправедливой, иной раз оправдывается нашим тайным сознанием. Такова наша жалкая натура: в минуту несчастия возникают в нас тысячи голосов, упрекающих нас в ошибках и заблуждениях, голосов, дремавших в минуту благополучия.
– Не говорите этого, дорогой батюшка, – сказала Этель, глубоко тронутая, так как дрогнувший голос старца дал ей почувствовать, что у него вырвалась тайна одной из его печалей.
Устремив на него любящий взор и целуя его холодную морщинистую руку, она продолжала с нежностию:
– Дорогой батюшка, вы слишком строго судите двух благородных людей, господина Орденера и себя.
– А ты относишься к ним слишком милосердно, Этель! Можно подумать, что ты не понимаешь серьезного значение жизни.
– Но разве дурно с моей стороны отдавать справедливость великодушному Орденеру?
Шумахер нахмурил брови с недовольным видом.
– Дочь моя, я не могу одобрить твоего увлечение незнакомцем, которого, без сомнение, ты не увидишь более.
– О! Не думайте этого! – вскричала молодая девушка, на сердце которой как камень легли эти холодные слова. – Мы увидим его. Не для вас ли решился он подвергнуть жизнь свою опасности?
– Сознаюсь, сперва я, подобно тебе, положился на его обещания. Но нет, он не пойдет и потому не вернется к нам.
– Он пойдет, батюшка, он пойдет.
Эти слова молодая девушка произнесла почти оскорбленным тоном. Она чувствовала себя оскорбленною за своего Орденера. Увы! В душе она слишком уверена была в том, что утверждала.
Узник, по-видимому не тронутый ее словами, возразил:
– Ну, положим, он пойдет на разбойника, рискнет на эту опасность, – результат, однако, будет тот же: он не вернется.
Бедная Этель!.. Как страшно иной раз слова, сказанные равнодушно, растравляют тайную рану тревожного, истерзанного сердца! Она потупила свое бледное лицо, чтобы скрыть от холодного взора отца две слезы, невольно скатившиеся с ее распухших век.
– Ах, батюшка, – прошептала она, – может быть в ту минуту, когда вы так отзываетесь о нем, этот благородный человек умирает за вас!
Старик сомнительно покачал головой.
– Я столь же мало верю этому, как и желаю этого; впрочем, в чем, в сущности, моя вина? Я оказался бы неблагодарным к молодому человеку, так точно, как множество других были неблагодарны ко мне.
Глубокий вздох был единственным ответом Этели; Шумахер, наклонившись к столу, рассеянно перевернул несколько страниц Жизнеописание великих людей, Плутарха, том которых уже изорванный во многих местах и исписанный замечаниями, лежал перед ним.
Минуту спустя послышался стук отворившейся двери, и Шумахер, не оборачиваясь, вскричал по обыкновению:
– Не говорите! Оставьте меня в покое; я не хочу никого видеть.
– Его превосходительство господин губернатор, – провозгласил тюремщик.
Действительно, старик в генеральском мундире, со знаками ордена Слона, Даннеброга и Золотого Руна на шее, приблизился к Шумахеру, который привстал, повторяя сквозь зубы:
– Губернатор! Губернатор!
Губернатор почтительно поклонился Этели, которая, стоя возле отца, смотрела на него с беспокойным, тревожным видом.
Прежде чем вести далее наш рассказ, быть может не лишне будет напомнить в коротких словах причины, побудившие генерала Левина сделать визит в Мункгольм.
Читатель на забыл неприятных вестей, встревоживших старого губернатора в XX главе этой правдивой истории. Когда он получил их, первое, что пришло ему на ум – это необходимость немедленно допросить Шумахера; но лишь с крайним отвращением мог он решиться на этот шаг. Его доброй, великодушной натуре противна была мысль потревожить злополучного узника, и без того уже обездоленного судьбою, которого он видел на высоте могущества; противно было выведывать сурово тайны несчастия, даже заслуженного.
Но долг службы перед королем требовал того, он не имел права покинуть Дронтгейм, не увозя с собой новых сведений, которые мог доставить допрос подозреваемого виновника мятежа рудокопов. Вечером накануне своего отъезда, после продолжительного конфиденциального совещание с графинею Алефельд, губернатор решился повидаться с узником. Когда он ехал в замок, его подкрепляли в этой решимости мысли об интересах государства, о выгоде, которую его многочисленные личные враги могут извлечь из того, что назовут его беспечностью, и быть может о коварных словах великой канцлерши.
Он вступал в башню Шлезвигского Льва с самыми суровыми намерениями; он обещал себе обойтись с заговорщиком Шумахером, как будто никогда не знавал канцлера Гриффенфельда, решился забыть все воспоминание, переменить на этот случай свой характер и с строгостью неумолимого судьи допросить своего старого собрата по милостям и могуществу.
Но едва очутился он лицом к лицу с бывшим канцлером, как был поражен его почтенной, хотя и угрюмой наружностью, тронут нежным, хотя и гордым видом Этели. Первый взгляд на обоих узников уже на половину смягчил его строгость.
Приблизившись к павшему министру, он невольно протянул ему руку, не примечая, что тот не отвечает на его вежливость.
– Здравствуйте, граф Гриффенф… – начал он по старой привычке, но тотчас же поправился, – господин Шумахер!..
Он замолчал, довольный и истощенный этим усилием.
Воцарилась тишина. Генерал приискивал достаточно суровые слова, чтобы достойно продолжать свое вступление.
– Ну-с, – сказал наконец Шумахер, – так вы губернатор Дронтгеймского округа?
Генерал, несколько изумленный вопросом того, которого сам пришел допрашивать, утвердительно кивнул головой.
– В таком случае, – продолжал узник, – у меня есть к вам жалоба.
– Жалоба! Какая? На кого? – спросил благородный Левин, лицо которого выразило живейшее участие.
Шумахер продолжал с досадой:
– Вице-король повелел, чтобы меня оставили на свободе и не тревожили в этой башне!..
– Мне известно это повеление.
– А между тем, господин губернатор, некоторые позволяют себе докучать мне и входить в мою темницу.
– Быть не может! – вскричал генерал. – Назовите мне, кто осмелился…
– Вы, господин губернатор.
Эти слова, произнесенные надменным тоном, глубоко уязвили генерала, который отвечал почти раздражительно:
– Вы забываете, что коль скоро дело идет о долге службы королю, власти моей нет границ.
– Кроме уважение к чужому несчастию, – добавил Шумахер, – но людям оно незнакомо.
Бывший великий канцлер сказал это как бы самому себе. Но губернатор слышал его замечание.
– Правда, правда! Я не прав, граф Гриффенфельд, – господин Шумахер, хочу я сказать; я должен предоставить вам гневаться, так как власть на моей стороне.
Шумахер молчал несколько минут.
– Что-то в вашем лице и голосе, господин губернатор, – продолжал он задумчиво, – напоминает мне человека, которого я когда-то знал. Давно это было; один я помню это время моего могущества. Я говорю об известном мекленбуржце Левине Кнуде. Знали вы этого сумасброда?
– Знал, – ответил генерал, не смутившись.
– А! Вы его помните. Я думал, что о людях вспоминают только в несчастии.
– Не был ли он капитаном королевской гвардии? – спросил губернатор.
– Да, простым капитаном, хотя король очень любил его. Но он заботился только об удовольствиях и не имел и капли честолюбия. Вообще это был странный человек.
Кто в состоянии понять такую непритязательность в фаворите.
– Тут нет ничего непонятного.
– Я любил этого Левина Кнуда, потому что он никогда не беспокоил меня. Он был дружен с королем, как с обыкновенным человеком, словом, любил его для своего личного удовольствие, а ничуть не для выгод.
Генерал пытался перебить Шумахера; но тот упрямо продолжал, по духу ли противоречие, или же потому, что пробудившиеся в нем воспоминание были действительно ему приятны.
– Так как вы знаете этого капитана Левина, господин губернатор, вам, без сомнение, известно, что у него был сын, умерший еще в молодости. Но помните ли вы что произошло в день рождение этого сына?
– Еще более помню то, что произошло в день его смерти, – сказал генерал, дрогнувшим голосом и закрывая глаза рукою.
– Однако, – продолжал равнодушно Шумахер, – это обстоятельство известно немногим и прекрасно рисует вам всю причудливость этого Левина. Король пожелал быть восприемником дитяти при крещении; представьте себе, Левин отказался! Мало того, он избрал в крестные отцы своему сыну старого нищего, который шнырял у дворцовых ворот. Никогда не мог я понять причины такого безумного поступка.
– Я могу вам объяснить, – сказал генерал. – Избирая покровителя душе своего сына, этот капитан Левин полагал, без сомнение, что у Бога бедняк сильнее короля.
Шумахер после минутного размышление заметил:
– Ваша правда.
Губернатор пытался было еще раз завести речь по поводу своего посещение, но Шумахер снова перебил его.
– Прошу вас, если вы действительно знали этого мекленбуржца Левина, позвольте мне поговорить о нем. Из всех людей, с которыми мне приходилось иметь дело во время моего могущества, это единственный человек, о котором я вспоминаю без отвращение и омерзения. Если даже причуды его граничили иной раз с сумасбродством, все же немного сыщется людей с такими благородными качествами.
– Ну, не думаю. Этот Левин ничем не отличался от прочих. Есть много личностей гораздо более достойных.
Шумахер скрестил руки и поднял глаза к небу.
– Да, таковы они все! Попробуй только похвалить перед ними человека достойного, они тотчас же примутся его чернить. Они отравляют даже удовольствие справедливой похвалы, к тому же столь редко представляющееся.
– Если бы вы знали меня, вы не стали бы утверждать, что я стараюсь очернить ген… то есть капитана Левина.
– Полноте, полноте, – продолжал узник, – вам никогда не найти двух человек столь же правдивых и великодушных как этот Левин Кнуд. Утверждать же противное значит клеветать на него и непомерно льстить этому гнусному человеческому роду!
– Уверяю вас, – возразил губернатор, стараясь смягчить гнев Шумахера, – я не питаю к Левину Кнуду никакого недоброжелательства…
– Полноте. Как бы ни был он сумасброден, людям далеко до него. Они лживы, неблагодарны, завистливы, клеветники. Известно ли вам, что Левин Кнуд отдавал копенгагенским госпиталям больше половины своего дохода?..
– Я не знал, что вам это известно.
– А, вот оно что! – вскричал старик с торжествующим видом. – Он надеялся безнаказанно хулить человека, полагая, что мне неизвестны добрые дела этого бедного Левина!
– Ничуть…
– Уж не думаете ли вы, что мне также неизвестно, что он отдал полк, назначенный ему королем, офицеру, который ранил его на дуэли, его, Левина Кнуда, только потому, что, как он говорил, тот был старше его по службе?
– Действительно, до сих пор я считал этот поступок тайной…
– Скажите пожалуйста, господин дронтгеймский губернатор, разве от того он менее достоин похвалы? Если Левин скрывал свои добродетели, разве это дает вам право отрицать их в нем? О! Как люди похожи один на другого! Осмеливаться равнять с собою благородного Левина, Левина, который, не успев спасти от казни солдата, покушавшегося на его жизнь, положил пенсию вдове своего убийцы!
– Да кто же не сделал бы этого?
Шумахер вспыхнул.
– Кто? Вы! Я! Никто, господин губернатор! Уж не потому ли уверены вы в своих заслугах, что носите этот блестящий генеральский мундир и почетные знаки на груди? Вы генерал, а бедный Левин так и умрет капитаном. Правда, это был сумасброд, который не заботился о своих чинах.
– Если не сам он, так за него позаботился милостивый король.
– Милостивый?! Скажите лучше справедливый! Если только так можно выразиться о короле. Ну-с, какая же особенная награда была дарована ему?
– Его величество наградил Левина Кнуда выше его заслуг.
– Скажите пожалуйста! – вскричал старый министр, всплеснув руками. – Быть может этот доблестный капитан был произведен за тридцатилетнюю службу в маиоры, и эта высокая милость пугает вас, достойный генерал? Справедливо гласит персидская пословица, что заходящее солнце завидует восходящей луне.
Шумахер пришел в такое раздражение, что генерал едва мог выговорить эти слова:
– Если вы станете поминутно перебивать меня… вы не дадите мне объяснить…
– Нет, нет, – продолжал Шумахер, – послушайте, господин губернатор, сначала я нашел в вас некоторое сходство с славным Левиным, но ошибся! Нет ни малейшего.
– Однако, выслушайте меня…
– Выслушать вас! Вы скажете мне, что Левин Кнуд не был достоин какой-нибудь нищенской награды…
– Клянусь вам, вовсе не о том…
– Или нет, – знаю я, что вы за люди – скорее вы станете уверять меня, что он был, как все вы, плутоват, лицемерен, зол…
– Да нет же.
– Но кто знает? Быть может он, подобно вам, изменил другу, преследовал благодетеля… отравил своего отца, убил мать?..
– Вы заблуждаетесь… я совсем не хочу…
– Известно ли вам, что он уговорил вице-канцлера Винда, равно как Шеля, Виндинга и Лассона, троих из моих судей, не подавать голоса за смертную казнь? И вы хотите, чтобы я хладнокровно слушал как вы клевещете на него! Да, вот как поступил он со мною, хотя я делал ему гораздо более зла, чем добра. Ведь я подобен вам, так же низок и зол.
Необычайное волнение испытывал благородный Левин в продолжение этого странного разговора. Будучи в одно и то же время явно оскорбляем и искренно хвалим, он не знал, как ему отнестись к столь грубой похвале и столь лестной обиде. Оскорбленный и растроганный, то хотел он сердиться, то хотел благодарить Шумахера. Не открывая своего имени, он с восторгом следил, как суровый Шумахер защищал его против него же самого, как отсутствующего друга; одного лишь хотелось ему, чтобы защитник его влагал менее горечи и едкости в свой панегирик.
Однако внутренно, в глубине души, он более восторгался бешеной похвалой капитана Левина, чем возмущен оскорблениями, наносимыми Дронтгеймскому губернатору. Глядя с участием на павшего временщика, он позволил ему излить его негодование и признательность.
Наконец Шумахер, истощенный долгими жалобами на человеческую неблагодарность, упал в кресло в объятие трепещущей Этели, с горечью промолвив:
– О, люди! Что сделал я вам, что вы заставили меня познать вас?
До сих пор генерал не имел еще случая приступить к важной цели своего прибытие в Мункгольм. Отвращение взволновать узника допросом вернулось к нему с новой силой; к его страданию и участию присоединились еще две серьезные причины: взволнованное состояние Шумахера не позволяло губернатору надеяться, что он даст ему удовлетворительное разъяснение вопроса, а с другой стороны, вникнув в сущность дела, прямодушный, доверчивый Левин не мог допустить, чтобы подобный человек мог оказаться заговорщиком.
А между тем, имел ли он право уехать из Дронтгейма, не допросив Шумахера? Эта неприятная необходимость, связанная с званием губернатора, еще раз превозмогла его нерешительность, и он начал, смягчив по возможности тон своего голоса.








