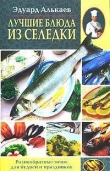Текст книги "Звезды и селедки (К ясным зорям - 1)"
Автор книги: Виктор Миняйло
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Но Нина Витольдовна не сказала больше ничего, что могло бы удовлетворить жгучее любопытство Евфросинии Петровны. И тот внутренний жар, который превратил мою любимую жену в настоящую женщину, угас. Она шумно вздохнула в блюдечко, что держала у самого лица, и мне подумалось, что моя женушка просто не воспитана. Но это конечно же было далеко не так...
Нина Витольдовна прекрасно знала мою жену и перевести разговор на что-нибудь иное уже не могла.
Вполне лояльно, с милой улыбкой она поведала, что Виктор Сергеевич на службе чувствует себя хорошо, что председатель уездного исполкома его уважает, вполне на него полагается. И даже совсем доверительным тоном, который не оставлял и тени сомнения в ее супружеской преданности, рассказала, что власть предполагает увеличить посевную площадь, а для этого Виктор Сергеевич склоняет культурных хозяев ввести у себя четырехполье. И, кроме того, власть (в этом слове звучали и уважение, и опаска) хочет увеличить также и урожайность, и на Виктора Сергеевича и в этом возлагают большие надежды.
– Он так много сейчас работает!.. И днем и ночью – по селам... И все разыскивает культурных хозяев, которые приняли бы участие в сельскохозяйственной выставке. Нет, вы только подумайте, повсюду еще голод, банды, а здесь какие-то выставки! Я так боюсь за него! Все, правда, знают, что он не коммунист, но на службе-то у них!
– Все мы, Нина Витольдовна, на службе у народа, – сказал я. – И это, пожалуй, единственное наше спасение от одичания. Ибо интеллигент, который утратил интерес к жизни и перестал общаться с людьми, опускается до уровня примитива.
Нина Витольдовна опустила глаза и даже съежилась, – вероятно, вспомнила страстную матерщину и свирепый кнут, которыми опрощенный муж приучал ее к сельской работе.
Мы засиделись чуть ли не до полуночи. Даже моя жена, любившая ложиться спать пораньше, в этот вечер была возбуждена и говорлива, и стоило только Нине Витольдовне попытаться встать, Евфросиния Петровна клала руку ей на локоть – вот послушайте еще... я не досказала... еще два слова... Ваня, проси же и ты Нину Витольдовну!..
Но все имеет свои границы – даже женское многословие. И наконец моя жена начала целоваться с Ниной Витольдовной, и это было так мило и даже аппетитно, что мне подумалось: "Отчего это женщины так любят друг друга, вместо того чтобы обратить свою благосклонность к мужчинам, которые вынуждены вот так стоять в сторонке и, склонив голову долу, только любоваться их пылкой любовью, до того пламенной, что порою из милых уст так и сочится сладостный яд..."
И еще подумал я про себя: "Боже ты мой, скольких красивых женщин лишается бедный мужчина, взявший в жены одну похуже!" Но эта мысль, конечно, не касается моей любимой жены...
И еще подумал я тайком: "Уж лучше было бы, если б женатые жили где-нибудь на необитаемом острове..." А затем пришло в голову еще и такое: "Как хорошо, что люди до сих пор не научились читать чужие мысли..."
И сестринские поцелуи, и нежные пожатия рук продолжались, скажу я вам, достаточно долго. (За это время, если на то пошло, мужчина сделал бы значительно больше.) Но вот наконец-то мне великодушно разрешили проводить Нину Витольдовну до самого ее дома. Я представляю, какой гордостью наполнилась душа моей любимой жены, которая отважилась на этот рискованный психологический эксперимент. И я возгордился – вот ведь как на меня полагаются!..
Но это я, конечно, в шутку. На самом деле глубоко представлял всю важность своего поручения – я, подержанный уже парубок, да к тому же с простреленной рукой, должен оберегать от множества опасностей наибольшую ценность – чужую жену. А опасность эта подобна опасности, подстерегающей солдата, стоящего на посту и охраняющего открытую амфору с тридцатипятилетним вином!
То ли от того, что было прохладно, то ли от возбуждения голосок Нины Витольдовны дрожал.
Небо затянуло облаками. Тоненький серп месяца едва просвечивался сквозь них. Стояла влажная, словно ватная тишина. Раздраженно шипели листьями подсолнечники, которых мы касались плечами, проходя тропинкой к пруду. И мы умолкли, будто боялись, что кто-то идет за нами следом (я знаю кто!) и прислушивается. Мы должны были заговорить где-то на плотине, и это будут постные слова, какими люди отгораживаются друг от друга и сами от себя.
Тропинка повела нас в ольховые заросли. Вот пройдем еще шагов сто, а там чистый луг вдоль полотна узкоколейки.
Нина Витольдовна шла впереди, и это было не просто данью правилам хорошего тона, но и потому, что я знал – дети и женщины больше остерегаются опасности сзади.
Упругая луговая земля заглушала наши шаги, и я слышал только учащенное дыхание Нины Витольдовны, – она, очевидно, немного боялась.
И вдруг она резко остановилась, повернулась ко мне, и я наткнулся на ее предостерегающе протянутую руку. Женщина стояла так близко, что видны были ее затененные глаза, округлившиеся от страха. Я хотел было спросить что, мол, случилось, но она, будто угадав мое намерение, зажала мне рот мягкой ладошкой. Боже мой, почему я не поцеловал эту ладошку – без разрешения, по-воровски, нахально, самоуверенно, – ведь такой возможности больше никогда, никогда не представится!.. И от терпкого сожаления я едва не всхлипнул, а сердце у меня заухало так громко, словно ломилось в двери.
– Там... кто-то... – указала Нина Витольдовна пальцем через плечо и невольно припала к моей груди.
Я затаил дыхание, но потом спохватился, резко выдохнул воздух и приказал себе дышать ровно – дыхание мужчины всегда должно оставаться спокойным.
– Вроде бы кто-то идет, – послышался голос за кустами.
– Да нет, тебе показалось.
– Говорю вам – шли.
Нина Витольдовна властно потянула меня в кусты. Мы были осторожны, казалось даже – бестелесны. Пригнувшись за густым кустом, услыхали, как мимо нашего укрытия кто-то пробежал. Минуту спустя он же возвратился назад, время от времени разводя ветви руками.
Я благодарил бога милосердного, что Нина Витольдовна была в сером платье.
– Так что? – спросил голос.
– Да вроде ничего.
– Я же говорил.
Те голоса я, кажется, узнаю. Один густой, недовольный, грубо-властный. Второй – голос молодого парня, немного испуганный, скрипучий. Мне кажется, это...
– Аж боязно стало, – признался молодой.
– "Боязно, боязно"!.. – передразнил старший. – Усе вам боязно! Вот как схватят вас заразы за горло по-настоящему, куды тада ваш испуг денется!
– Да уже хватают... – мрачно, со злостью бросил парень. – Вон Ригор так насел, что не дыхнуть. Прошла не прошла жатва, а продналог давай, и в волость с ними поезжай; и на трудгуж глину вози, и на ночь его, собаку, принимай, и... и... Все хозяева крепко это понимают, один только мой батя – "совецка власть, да совецка власть, да землю дали, да уремья такое настало...".
– Ладно, Полищука... – старший понизил голос, и последних слов его мы не услышали. – Его нада... – И снова пониженным тоном: – Понял?
– Вот это правильно, – сказал парень. – Вы, батько, такие умные, такие осторожные!..
– Гм! – самодовольно хмыкнул старший. – Ну, ето харашо. Передай хозяям, пускай надежду не теряют. Да еще скажешь, чтоб, ето самое, завезли куда нада два мешка паляниц, пуд сала да с полдюжины жареных гусей. И бочоночек перваку. Слыхал? Да еще пару добрых коней выставили совместно.
– Ой, что вы?! – испугался парень. – Это ж кони!..
– Знаю. Так мы, ето, за народ жизни не жалеим, а вы за коней трясетесь?! Сколько ужо мы их загнали? А сколько заразы поубивали их под нами! Думать нада!
– Но как? Паспорта записаны на лошадей? Чуть что – сразу же подозрение!
– А вы, дурные, не знаете, где, ето, взять? Они вас за глотку, а вы их!
– Боязно. Изловят мужики и...
– Ето вже ваше дело, – равнодушно произнес старший. – А кони чтоб были. С вуздечками. И патронов чтоб, ето, натрусили с полмешка.
– За патронами дело не станет, – озабоченно сказал парень. – Если б одни патроны!..
– Ну вот. Я сказал.
Долго молчали. Потом снова парень:
– Если б оно знатье...
– Говорю тебе – не сумлевайтесь. Нам, ето, продержаться год, ну два. Пока государства соберутся с силою. Да и народ поможет. Вот посмотрите как выворотят ети заразы кожух, поприжмут всех, так тут такое заварится! А тада – и Англия, и Польша... Главное, говорю, держаться уместе. Да не давать разводить заразам ячейки... Да, ето, скрозь нада своих людей иметь. И в етом кенесе*, и в сельсовете, и в куперации, одним словом – скрозь.
_______________
* К Н С – "Комитет незаможных селян" – комбед.
Снова перешли на приглушенный разговор. Минут через пять старший сказал громко:
– Так ты, ето, запомнил?
Парень пробурчал что-то неразборчивое.
– Ну так бывай. Я поехал.
Меня так и подмывало закричать из своего укрытия: "Ату! Ату! Отдай, собака, штаны! Отдай самовар! Отдай..."
Минуту спустя послышалось короткое приглушенное ржание жеребца. Мягко зачмокали копыта по вязкому лугу, заекала селезенка коня, перешедшего на частую рысь.
Мы с Ниной Витольдовной стояли и ждали. Парень крадучись прошел мимо нас.
Меня так и тянуло выглянуть ему вслед. И хотя по голосу я, как мне кажется, узнал его, но все же хотелось убедиться окончательно.
Нина Витольдовна всем телом повисла на моей руке. Я чувствовал, как ее всю трясло от страха.
Я был настолько озабочен, что едва не выругался от досады.
И пока я довольно-таки грубо освобождал руку, пока вышел на тропинку, парень скрылся за поворотом. Бежать? Услышит, а тогда... что? Или бросится бежать, или в упор из обреза... Да-а!..
– Ну вот, Нина Витольдовна! – сказал я жестко. – Вы что-нибудь понимаете?
Женщина понурившись молчала.
– Я знаю, кто они. Вы и не поверите. Тот, что на лошади, Шкарбаненко. А его сообщник...
– Но вы же не видели его, – тихо сказала Нина Витольдовна.
– Ну так что ж?
– И ваши предположения юридической силы не имеют.
– Но вы-то слышали, о чем шла речь?
– Ну, знаю, что это бандиты. Но кто они – ни вы, ни я не видели. И слава богу. Ибо если бы мы имели возможность узнать их... то вряд ли тогда люди узнали бы нас.
– А верно, – сказал я. – В таких случаях они не милуют.
Мы постояли еще тихо минут десять. Потом осторожно, почти на цыпочках, поминутно озираясь и прислушиваясь, двинулись дальше. Нина Витольдовна прижималась плечиком к моей груди. Но сейчас это совсем меня не волновало.
И, только выйдя из кустов на чистый луг, когда рядом заблестели рельсы на железнодорожном полотне, мы немного успокоились.
А когда увидели желтый огонь фонаря на стрелке и дошли до будки, где жил начальник станции Степан Разуваев со своим выводком, почувствовали себя почти счастливыми.
От узкоколейки было рукой подать до плотины. Понурые старые вербы над прудом полощут свои темные косы, шум воды в шлюзе – как все это мило сердцу! Мы привыкли к этому, как к чему-то живому. И мы почувствовали себя спасенными, невредимыми, живыми. И так стало радостно, что я пошутил:
– Нина Витольдовна, вы живы? Бьется ли у вас еще сердце?
И эта милая женщина прекрасно меня поняла, потому что надавала шлепков моей невинной руке своей нежной, разумной ручкой.
И вот я, как тот солдат на посту, сдал свою смену с честью. Драгоценная амфора снова перешла во владение крутого нравом хозяина. Виктор Сергеевич давно уже прибыл из какого-то села и улегся спать, так и не дождавшись жены. Он долго бурчал и совсем невоспитанно почесывал волосы на груди, пока Нина Витольдовна, оскорбленно прищурившись, проходила в хату. Потом Бубновский сырым голосом спросил меня, когда наши мужики начнут косовицу.
– Должно быть, завтра или послезавтра.
Для порядка мы еще немного помолчали. Виктор Сергеевич откровенно зевал.
– Бывайте.
– Счастливо, – проскрипел он.
Домой я возвращался в обход, селом.
Дорога жгла мне подошвы. Успеть бы рассказать все жене. А там уже пускай внезапная пуля ударит в грудь. Но нужно, чтобы осталось мое слово!..
Никто не преградил мне пути, даже ночной обход не встретил меня.
В нашей хате тоже все уже спали.
С пылким нетерпением стучал я ногтем в окно. И конечно же первой меня услыхала моя любимая жена.
Я влетел в сени, обнял Евфросинию Петровну за талию и поцеловал в плечо.
Она сказала недовольно:
– Разнежился возле чужой, так и своя милой стала?
О господи, никогда эти женщины не смогут стать полноценными людьми!
Я сказал:
– Мамочка, со мной такое приключилось!.. Вот послушай!
– У мужчин вечно приключения. Только мы, несчастные женщины, можем обходиться без приключений...
Я запротестовал:
– Если это так, мамочка, то с кем же тогда мужчины разделяют приключения?
На это моя любимая жена изрекла:
– С Магдалинами разными, с... – Последнее слово шлепнулось, как промасленный блин, брошенный на тарелку.
Я понял, что моя любимая жена не имеет ни малейшего желания выслушивать мои приключения.
Я поплелся в свою боковушу и тоже улегся спать. Долго не мог сомкнуть глаз, ворочался с боку на бок, кряхтел. Потом считал в уме и не помню уже, на которой сотне сбился со счета...
Наутро, еще и свет не занялся, пошел искать Полищука. Застал его в сельсовете – он готовил какие-то документы для поездки в волость.
На улице стояла подвода. И кто бы, вы думали, был кучером? Вот, ей-богу, не угадаете!..
Только я поднял на него глаза, как холодная истома подступила к сердцу.
Это Данько Титаренко в солдатских галифе и в опорках на босу ногу стоял опершись локтем на полудрабок. Картуз держался на кудрях где-то на затылке. Парень беззлобно и мило улыбался, сверкая ястребиными глазами.
Как зачарованный, я не сводил с него взгляда.
Он был чертовски воспитан, этот Данько Котосмал. Как только я поравнялся с подводой, он учтиво снял картуз и поклонился.
– Добрый день, Иван Иванович! Что, и вы собрались в волость?
Меня так заворожил его чистый взгляд, что я даже не ответил на приветствие. И кажется, рот приоткрыл от этой святой невинности.
И тут же подумал: "А может, и не он?" И поймал себя на том, что ненавижу его какой-то непостижимой биологической яростью. Даже скулы свело.
И подумал я еще: "Может, и не он. Может, это ненависть моя нашептывает на него? Может, и пожар не его рук дело? Разве может таким взглядом смотреть людям в глаза садист, поджигатель и бандит?"
И еще одна мысль мелькнула: "Неужели у такого отца может быть т а к о й сын?"
Вспомнил я и слова Нины Витольдовны Бубповской, перед святой чистотой которой благоговею: "...ваши предположения юридической силы не имеют..."
Конечно, всех этих слов, написанных мною только что, не было в моем сознании. Потому что знаю по собственному опыту, что человек мыслит не словами. Но как бы там ни было, а думал я именно об этом.
– А-а, – обрадовался Ригор Власович, завидев меня. – Так что там с читальней?
– Не закончили, Ригор Власович. Еще бы на один день...
Председатель разочарованно пожевал губами. Постучал пальцами по столу.
– На следующей неделе созовем еще раз. И бедный класс, и живоглотов. А с сегодняшнего дня вы, Иван Иванович, вместе со своими учительницами разберите библиотеку Бубновского. Там все в конюшне, в маштарке*. Ключ я вам сейчас дам. Вы сами знаете, что нужное, а что вредное для пролетариату. Только вот сумнение меня берет: товарищ Ленин запретил и "ять" и "ер". Как тут быть?
_______________
* М а ш т а р к а – кладовая в конюшне, где хранится упряжь и фураж.
– Ничего, Ригор Власович. Товарищ Ленин пока что и сам читает старые книги. Это я точно знаю. Нам инспектор уездного культпросвета говорил.
Ригор Власович пристально посмотрел на меня, как бы взвешивая мою искренность.
– Вам я верю.
Я выразительно моргнул на дверь в другую комнату.
– Вот что, – сказал Полищук, – ты, Федор, пиши себе, а мне надо посоветоваться с Иваном Ивановичем. – И подтолкнул меня к двери своего кабинета.
Слушал Ригор Власович с невозмутимым лицом.
– Так, – сказал он, – так... Узнали обоих?
– Шкарбаненко, – ответил я.
– А второй живоглот?
Я долго молчал, потом вздохнул.
– Не видел.
На этот раз надолго замолчал Полищук.
– Ох, смотрите, Иван Иванович. Иногда полправды лучше полной. Если ее, ту, полную правду, не высказать совсем... – И взглянул мне прямо в глаза.
– Не знаю, не знаю, Ригор Власович... Пускай уж особый отдел... А я чего не видел, того не знаю!
– В особом отделе-то не святые сидят! Которые видют и невидимое.
– Вот то-то и оно, что не святые, потому я и не говорю, лишь бы только сказать...
– Гм! – покрутил головой Ригор Власович. – Стало быть, что в лоб, что по лбу – все равно больно... Эх, интеллигенция!.. Попозже и вы, Иван Иванович, сами уразумеете, что такое – классовая борьба!
– Конечно, вам виднее, Ригор Власович... – сказал я с особенной интонацией.
Полищук понял. Лицо его приобрело землистый цвет. Он снова посмотрел мне в глаза.
– Над кем смеются, те в люди выходят, Иван Иванович!
Я улыбнулся.
– Ну ладно, – сказал Полищук, – спасибо и на этом... Но обидно мне, Иван Иванович: не во всем вы стоите за бедный класс!
Теперь обиделся я.
– Ну, знаете, Ригор Власович... – И, не попрощавшись, вышел.
На пороге сельсовета почувствовал раскаяние и, если бы Полищук позвал меня, я, может, и вернулся бы...
Данько Котосмал лежал на подводе навзничь, накрыв лицо картузом. Небольшая и крепкая его фигура казалась воплощением ленивой силы и грубой красоты.
"А может, и не он..." – снова подумал я. Но мысль эта не принесла мне успокоения, не сняла тяжести с души.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, где автор рассказывает, как Яринку Корчук
поставили пред свершившимся фактом
В ту ночь Яринку мучил полоз. Вот так: вроде сидит она у окна, а на печи притаился он. И стоит только девушке забыться, как гад тянется с печи через всю хату прямо к лицу. Девушка с омерзением жмурится – и змея моментально прячется за дымоходом. Завороженная его изумрудными глазами, Яринка не может тронуться с места, вся она точно окаменела, и знает, что должна непрерывно помнить о своем враге, чтобы тот внезапно не ударил ее своей мерзкой ледяной головой. А думать о нем – еще большая мука. И видит Яринка свою мать на лежанке. Она прядет, подложив под себя доску с прилаженной к ней куделью, и веретено вертится, как волчок, опускаясь до самого пола.
Но мать смотрит только на бесконечную нить в своих пальцах.
"Мама, спаси меня!.." – мысленно умоляет Яринка, потому как и губы не разжать от извечного страха.
А мать не слышит ее призыва. И снова и снова тянется к девушке полоз, и снова отгоняет она его своей ненавистью... А нить все течет и течет из материнских пальцев, бесконечная, как чужая жизнь...
И все же какая-то милосердная сила освободила Яринку от чар.
Был рассвет, как все летние рассветы. Черными молниями проносились ласточки перед окном, пищали их птенцы в гнездах, блеяли овцы в хлеву, кротко мычала корова, кудахтали куры. А в хате было тихо. И хотя реденькие сумерки еще затягивали серой кисеей образа, отчего смуглые лики святых вызывали в Яринке еще больший страх, однако она знала – время уже позднее. И удивляло то, что не звякает дойница и мать не покрикивает на корову "стой, негодница", не клохчут куры, прокравшись в сени, не слышно напевного и степенного голоса наймита Степана. Будто во дворе и людей не было.
И Яринке от мысли о полозе, от того, что с икон пристально, с молчаливым укором, смотрели на нее круглые глаза святых, что мать так и не пришла освободить ее от злых чар, снова стало жутко.
Но вдруг Яринка услышала голос матери. Она еле слышно пела в кухне свою любимую песню.
Тихо, тихо Дунай воду несет,
Еще тише девка косу чешет...
И тогда Яринка соскочила с постели и в одной сорочке кинулась к матери. Порывисто распахнула дверь, на миг остановилась. Мать подметала комнату – глиняный пол был весь усеян рябинками разбрызганной изо рта воды.
Мать обернулась к ней, и лицо ее показалось Яринке веселым и лукавым. Будто собиралась сказать дочке что-то очень приятное. Девушка обняла мать за талию и с какой-то злой нежностью прижалась к ней всем телом.
– Ой, мамочка моя!..
Ее подмывало рассказать матери о своем страхе, о полозе, который мучил ее всю ночь, упрекнуть мать за то, что она не спасала ее от гадины. Но потом сообразила, что не следует говорить об этом, и даже отругала себя мысленно – вот дурная я, ведь мама ни сном ни духом не ведала об этом противном полозе! И Яринка только сказала:
– Ой, какие вы, мама, какие вы!..
И от слов этих смутилась София, опустила глаза, и Яринка заметила глубокие синие тени под глазами матери, и, жалея ее, дочь разгладила пальцами эти синие круги.
– Ой, что это вы, мама, больны? Или плакали?
София еще сильнее застеснялась, пробормотала что-то вполголоса и сама обняла Яринку. И так стояли они, обнявшись, и покачивались медленно, счастливые оттого, что существуют на свете одна для другой.
– А где ж наймит?
– Ш-ш! – приложила мать палец к губам. – Дядька Степан спит...
Девушка повела глазами по хате, удивляясь, почему не видит наймита на обычном месте, на лавке, и, только случайно взглянув на постель матери на нарах, увидела там Степана, который укрылся от мух рядном с головой. И синяя молния сверкнула в глазах Яринки, когда она посмотрела на мать.
Но на этот раз мать не опустила глаза. Мало того, – в ее взгляде засветилась тихая угроза, упрямство и еще что-то настолько жестокое и непримиримое, что у Яринки мороз пробежал по спине.
София это, очевидно, почувствовала, ибо прошептала виновато:
– Пошли, что ль, в ту комнату... – И, придерживая дочку за талию, легонько, но настойчиво, повлекла ее к двери.
– До-о-ченька моя! – сказала мать протяжно и трагично, словно жалуясь, точно оплакивая свою судьбу и одновременно как бы утешаясь чем-то. – До-о-ченька моя-а-а! Не суди свою мать – ибо грех!
– А как же наш тата? – сквозь зубы сказала Яринка. – Они еще, может, придут!.. – И зарыдала без слез – злостно, одним только прерывистым дыханием-стоном, всем дрожащим телом, своей страстной ненавистью, которая обезобразила ее лицо.
– Не придет наш батя никогда... – глухо промолвила София и перекрестилась. – Мир праху его и в вышних покой! Не придет наш тата, доченька, семь лет прошло, как нет его. Если б был, то и безногий, а дополз бы до своего порога... А нам с тобою хозяин нужен, мужской глаз да рука твердая...
– А без него мы разве бедовали? Дяди мои разве не помогали нам?
– В печенках у меня сидит эта помощь твоих дядек! – в сердцах сказала София. – За ту их помощь у меня аж плечи трещат на отработках, дядьки твои такие добрые да ладные, что и сорочки с себя не пожалеют, только бы с тебя потом содрать сорочку вместе со шкурой!.. Да и не монашка я, обета такого не давала. Хотя, может, и поздно, но хочу счастья изведать!
– А я? А я? – крепко зажмурив глаза, закричала в отчаянии Яринка.
София зажала ей рот ладонью.
– Чш! – почти с ненавистью зашипела. – Цыц, дурная! Как подрастешь, узнаешь, где правда. Ты все о себе... для своей пользы... своего покоя... а мать пусть мучается всю жизнь, пусть сердце ее леденеет... – И София сама разрыдалась.
И они стояли и плакали, ропща друг на друга. И обе понимали: правда в их словах обоюдная и обида каждой одинаково весома. И это, возможно, в какой-то мере примирило их хотя бы временно.
Постепенно стихал плач, вздыхали глубоко, обиженно, а затем и вовсе умолкли. Смотрели каждая в какое-то местечко на стене, уйдя в свои мысли, которые словами не выскажешь, ушами не услышишь, которые щемят душу.
Потом София сказала негромко и спокойно:
– Выйду я за него замуж, что б ты там ни говорила. Татом можешь его не звать, а отцом чтоб считала. Любить не приневолю, а уважать должна. Запомни, что сказала. Вот так! – закончила она твердо. И вышла из комнаты.
Яринка выбежала следом за ней. В первой комнате, где спал Степан, она нарочно опрокинула пустое ведро и хлопнула дверью так, что вокруг арцабы* осыпалась глина.
_______________
* А р ц а б а – короб дверного проема (укр.).
Степан рывком стянул с себя рядно, бессмысленно оглядывая комнату. Потом широко улыбнулся Софии.
– Приснилось – на фронте артиллерия бьет...
– Вставай ужо. Поздно... – мягко, но озабоченным тоном произнесла София. – Я и так тебя не будила – пусть, думаю, поспит... Ты же так наработался... – улыбнулась она.
– А верно, копны четыре смолотил, – Степан слегка подморгнул ей. – И еще бы обколачивал!
– Всего стожка за раз не вымолотишь. Умаешься.
– Да, но стремиться к этому надо!
Он сидел на краю постели и позевывал, разводя руки.
– Иди сюда! – приказал с ласковой угрозой. – Кому говорю?
София подошла. Медленно, с материнской снисходительностью. Степан, поднявшись, обнял ее и спрятал голову у нее на груди. Зажмурился, долго молчал.
– Ты пахучая, – сказал наконец. – И красивая. И сладкая.
– А ты глупенький.
Минуту спустя София мягко освободилась из объятий, потом потрепала его короткие волосы.
– О мужчины, мужчины! – произнесла тоном матери, мудрой и снисходительной.
Он снова потянулся к ней. София отступила.
– Яринка войдет.
Степан отпрянул и стал одеваться с торопливостью солдата после побудки.
– Готов. – И, подкравшись к ней, воровски поцеловал в шею.
– Н-ну! – шутя замахнулась София. – Как оса на сладкое!
Вошла в хату Яринка, обожгла Степана взглядом – горячим, черным и настороженным.
Степан улыбнулся смущенно и как-то глуповато.
София заметила их немой разговор, но притворилась, что это ее не интересует.
– Доченька, бычка сегодня не пускай с коровой, вчера, окаянный, все вымя ежом* поколол. Сегодня доиться не давала. Нарубишь ему картошки помельче и засыплешь грисом**.
_______________
* Е ж – колючий намордник, надеваемый теленку, чтобы корова не подпускала его к вымени.
** Г р и с – пшеничные отруби.
– Ладно, – сквозь зубы процедила Яринка. – Вы все бы на меня взвалили.
– Аль тяжко?
– На черта оно мне. Чужое.
– Ты помни, о чем говорили! – с угрозой, понятной лишь им, сказала София.
– Уже позабыла! – сухим, как кремень, взглядом полоснула ее Яринка.
София со Степаном быстро пообедали и спустя каких-то полчаса поехали на поле. Сегодня они изрядно запоздали.
Мать не успела прибрать постель на нарах. Яринка взглянула на тугие подушки, с вмятинами от двух голов, на рядно, которым мать укрывалась с ним, и ей почему-то стало неимоверно стыдно. И вспомнила Марию Гринчишину на возу с Фаном, и мурлыкающий голос парубка: "Ой, не спится, не лежится", и свое, загнанное в самую глубину сознания, жгучее, затаенное от всех и самой себя любопытство – "а что оно, что оно?".
И что странно: девушка могла представить Степана на месте Фана, а себя – Марии, а вот мать... Нет, не могла она ёжиться и отбиваться от жадных рук Степана. Мать ее лежала спокойно, неприкосновенная и святая!.. Но зачем она пустила к себе Степана, она же не Мария, которая боится одна спать на возу!..
И Яринка, крепко зажмурившись и закусив губу, заплакала.
Потом, икая, долго тряслась в нервной лихорадке.
– Ну, погодите! – встряхнула головой.
Где-то в конце улицы заиграл рожок пастуха.
Яринка вытерла ладонями слезы и побежала к хлеву. Открыла кошару. Пучеглазый, со стеклянным взглядом, баран прыгнул через высокий порог. За ним поочередно слепо прыгали овечки. Ягненок, в самозабвении присосавшийся к вымени матки, тянулся за нею до самого порога, споткнулся, перевернулся, и по нему семенили все остальные ярки и ягнята.
Ворота Яринка еще не открывала. Нагнув голову, баран выжидательно стоял у забора, терпеливо и важно. Овечки метались, блеяли, сбившись в единый живой кожух. И казалось, что под этим вывернутым кожухом бегают и шалят дети.
Как только голова сельской отары, неся на себе пепельно-серую тучу пыли, поравнялась с ее двором, девушка открыла ворота, и овцы, едва не сбив ее с ног, выкатились на улицу. Так же вовремя выпустила Яринка и корову.
Лыска долго стояла в воротах, вертела головой и ревела, зовя теленка. Яринка стегнула ее хворостиной, и корова, сердито взметнув рогами и отмахнувшись хвостом, присоединилась к стаду.
За час с небольшим девушка управилась по хозяйству и побежала к теткам. Надеялась застать хотя бы одну, рассказать о своей обиде, а те найдут управу и на мать и на того бродягу Степана.
Во дворе дядьки Олексы Яринка застала одного только деда Игната. Он горбился на солнцепеке в драном соломенном бриле и в валенках. Хата была заперта, – видимо, не полагались на дедову бдительность.
В холодочке под кустом георгина стоял глиняный горшочек, прикрытый ржаной горбушкой. Над хлебом вился рой мух. Вероятно, и стерег дед Игнат этот самый горшочек с кашей от мух и собак.
Дед казался Яринке вечным. Ведь вон сколько живет она на свете, но всегда помнит его таким. Всегда в валенках и в бриле. В одних и тех же широченных штанах, подпоясанных очкуром, с мотней чуть ли не до колен. И та же самая пожелтевшая дремучая борода, из которой выглядывает, точно луковица, желто-сизый нос, и небольшие выцветшие голубые глаза, и еще губы, похожие цветом на окорок, который продержали в рассоле недели две перед тем, как повесить вялиться в трубу.
Дед был большим чудаком. Лет ему уже... а и вправду, сколько же? Никто не знал. Спрашивали самого деда.
– Годы – не грльоши, и дурак тот, кто их сцитает! – сердито бубнил дед. – Кто сцитает, сколько прльозил, тот рльано сконцается. И сколько б ни прльозил, так того, цто остается, никогда целовеку не хватает...
Яринка, да не только она, а и старые люди побаивались деда из-за его мудреных пророчеств. Вот придут, мол, времена, что брат пойдет на брата, а сын на отца своего. И бога, мол, забудут, и праведные кости повыкидывают из могил на глумление детишкам. И ходить будут между стогов без маковой росинки во рту. И разверзнется геенна огненная и... и... – всего того страшного и не удержишь в голове. И стоит только Яринке завидеть где-либо деда Игната, так ей мерещится, как дети на выгоне играют в лапту человеческими костями...
Года два назад похоронил дед Игнат младшего, своего семидесятилетнего сына, деда Савку, и доживает теперь свой век у внука – дядьки Олексы. Зимою лежал на печи, а летом покашливал на солнышке. И здоровьем, не сглазить бы, был еще ничего – зимой до получасу мог высидеть за клуней. Вот только истома какая-то одолевала его, – "крузение головы", как говорил сам дед Игнат. Поэтому и не любил ни шуму, ни гомону. Когда во дворе дядьки Олексы собирается молодежь поиграть и потанцевать, тогда дед Игнат выходит на открытое место, втыкает в землю свою клюку и, развязав очкур, присаживается за палкой на корточки.
Как завидят девчата деда Игната, вот так примостившегося, подымается визг и вся девичья компания чуть ли не кувырком летит через перелаз. За девчатами и парубки, посмеиваясь и незлобно ругая деда.
– Зачем это вы, деда, не разогнуло б вас, девок нам распугали?
– Тьфу, нецистые создания, и как они скрозь дереву видют?