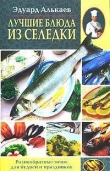Текст книги "Звезды и селедки (К ясным зорям - 1)"
Автор книги: Виктор Миняйло
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
– Ну, это уж как сход крикнет! Наро-о-од!
– А, тут хоть караул кричи – властя на своем поставят! Комнезамы гавкнут, прости господи, и все. На свое повернут, а им, каэнесам, хоть в десять рук. Все одно нечем вспахать. Только бы у хозяев уродило, чтоб подешевле взять для комиссаров!
– Ну, это уж вы, Тилимон Карпович, не с того боку кабана смалите! Власть теперь народная. Что народ скажет – то и делают!
– Народ! Одна пролетария да вшивые комнезамы!
– Ну, Тилимон Карпович, и комнезамы тоже люди! Я вон тоже в комнезамах, а чем хуже вас?
– Да-а, гусь – не про вас будь сказано – свинье не товарищ!
– А с гусака перья общипывают, Тилимон Карпович! Вон вас не только ощипали, но и крылышки подрезали!.. Чтоб высоко не взлетали!
– Заразы, прости господи, вот что! – Тилимон Карпович валится животом на кобылу, дрыгает ногами, кряхтит с облегчением, усевшись, и бросает через плечо: – Общипывайте, общипывайте! Примем тернии до конца!.. Да только вон Польша да Англия! А это надо брать в унимание! И у них землю поделят. Ха-ха-ха! В штыре руки!.. Н-но! Чтоб тебе комнезамы, прости господи, копыта объели!..
А снежок все сеялся и сеялся. И забелело поле, тихое и безлюдное, и следы уже позамело. Спит заснеженный мир...
А село еще не спало. И хотя в большинстве хат света не было – что у лавочника Миколы Фокиевича, что в кооперации керосин в одну цену, – улицы полны гомона и смеха: девки и парубки ходили группками, боролись, барахтались – мала куча, играли в снежки, а некоторые, вытащив из сараев санки своих меньших братишек, спускались с горы на лед.
Этой забавы поначалу стыдились те, кто помладше, а когда увидели, что и парубки и девки постарше не стыдятся лететь вверх тормашками в снег, налетая санками друг на друга, так и "лягушата" стали присоединяться к галдящему обществу.
– Фи! – сказала Яринка Марии Гринчишиной, стоя неподалеку. – Что они, рехнулись? Иль им не стыдно? Эге, вон уж и женатые одурели! Вон Приськин Ульян к девкам мостится! Дядька-а, – закричала она двадцатилетнему Ульяну, женившемуся только что под покров, – вам Приська усы выдерет!..
– Только раз! И зарекусь! Как монах сказал.
– Девки-и! – не унималась Яринка. – Переверните деда Ульяна! Да снегу за ворот ему! Чтоб держался своей бабки Приськи!
Вдруг она затрясла плечами, стала вырываться – кто-то сзади крепко охватил ладонями ее голову.
У Яринки заколотилось сердце. Она знала этого неведомого, кого должна была сейчас назвать, чтобы он освободил ее. Но она не желала, не могла произнести это имя – этим выдала бы, будто думала об этом человеке, ждала его.
– Пусти, нечистая сила! – резким голоском сердито кричала она, стараясь отбиться кулачками. Но тот, кто держал ее, уклонялся, и это вправду сердило ее.
– Мария, Марушка! Толкани эту сатану промежду плеч! На черта он мне сдался! Буду я ему угадывать!..
Мария насмешливо взглянула на нее:
– Вот еще мне! Не зна-ает она! Вот как полезет за пазуху, сразу угадаешь!
Как подсказала чертова девка, потому что руки, державшие Яринкину голову, вдруг легли на ее кожушок, пальцы скользнули, стараясь стиснуть, смять.
– А-ай! – вскрикнула Яринка и правым локтем ударила назад на уровне своей головы. – Данько, зараза! – со слезами в голосе крикнула она. – Я маме скажу!
– Батьке... скажи... – прокряхтел Данько. Ослабевшие руки его опустились.
Девушка порывисто обернулась и расширенными от возмущения и обиды глазами посмотрела на Данька, который нагнулся и сгребал ладонью снег.
Когда он выпрямился, Яринка увидела на его раскрасневшемся лице струйку крови, что стекала из носа на подбородок.
– Ну и дурной лягушонок! – сказал он, морщась от боли и смывая снегом кровь.
Девушка прикрыла глаза ладошкой – не от страха, что он ее ударит, просто не могла видеть кровь.
– А что? – в голосе ее слышались слезы. – Чего ты как басурман? Чего рукам волю даешь? Вон в Половцы иди, там по тебе плачут! Небось и дети плачут! – сказала она немного злорадно и ревниво.
– Дурная, ну и дурная... Шуток не понимает... Шальная... В старых девах поседеешь... Ну что я тебе такого сделал? – сказал он уже примирительно. – Так все ж девки любят, когда их тормошат.
– Так это те... твои... А я... меня не трогай!
– Ух ты! – сказал он немного насмешливо, немного удивленно. – А все же, слышь... не сердись. Я сердитых не люблю... Потому как и сам сердитый!.. Да нет, я веселый!.. – И сбил шапку на затылок, открывая свои смоляные, пенистые, как овечья шерсть, кудри. – Ой, девки! Сейчас я вас прокачу на санках! – Заметив, что Яринка хочет отойти, он обратился к Марии: – Марушка, скажи этой шальной!.. А я мигом.
Мария назидательно через плечо Яринке:
– И чего б это я дергалась?.. Это ж Данько!
– Только и счастья мне!
– Дурная! Все девки сохнут по нем! Да и тебе он приглянулся!
– Еще чего! – надув губы, Яринка сделала вид, что обиделась. А сама подумала: "Отчего только его так не любит дядька Степан?.."
Данько тем временем выхватил у одного парубка веревку от саней. Парубок вспылил, оба схватили друг друга за грудки. Данько что-то прошипел своему противнику, а дивчина, которая была с тем парубком, настойчиво тянула своего дружка за рукав.
– Да черт с ним, чтоб ему, Котосмалу, пусто было! Пошли домой! Меня батька ругать будут!..
Парни еще потрепыхались, как утомленные дракой петухи, и Данько, уверенный в своей грубой силе, не торопясь поплелся по глубокому снегу к своим девчатам.
– Вот видите, – произнес, скромно похваляясь, – и санки выпросил!
– Видали, как ты просил! – сказала Яринка вроде осуждающе, хотя ей было и приятно, что Данько чуть не подрался с парубком за санки, собственно, за нее. Она возгордилась, и хотя не было еще в ее душе расположения к этому гайдамаку, но все же нужно было чем-то поддержать его усердие.
– А не перекинешь? – спросила уже весело. – Марушка, а может, съедем? Один только разик? – И, не ожидая ее согласия, села на санки.
Данько подтолкнул Марию наперед, а сам примостился позади Яринки.
– Мне нужно править.
Потом встал, упираясь руками в сиденье, разогнал сани, прыгнул на них коленями и, будто для того чтоб не упасть, охватил Яринку за грудь.
У девушки замирало сердце от чувства падения, от свиста встречного ветра, глаза запорошило снегом, и она совсем обошла вниманием настырность парня. Дыхание ей спирало. Она показалась сама себе маленьким комочком, который катится куда-то в пропасть.
– Го-го-го! – орал Данько, и от этого становилось еще страшнее, слышался в этом крике топот тысяч конских копыт, будто татарская конница мчалась у нее за спиной и вот-вот ее догонят, сомнут, раздавят, исчезнет белый свет, а душа ее в этом маленьком комочке все будет катиться и катиться вниз...
Вдруг ее покачнуло вперед. Данько навалился на нее и Марию, и все они кувырком опрокинулись в снег.
И Яринка завизжала от страха и радости, от ощущения молодости, теперешней своей беспомощности и в то же время силы, что кипела в ней. Может, впервые завизжала не по-детски, а призывно и смело – по-девичьи. От радости, что даже в этом непривлекательном для слуха визге проявляет себя ее молодая душа.
Визжала, конечно, и Мария. Гоготал, захлебываясь, Данько. Серая шапка его затерялась, а в пенистых кудрях было полно искристой снежной пыли.
Данько помог подняться сначала Яринке. Отряхивал ее от снега, словно приглаживая, и девушка чувствовала что-то нехорошее в этом, стыдное для нее, но сейчас ей было так весело, что она дразнила его своим спокойствием, гордилась своим юным телом, которое грубо и хитро ласкала сквозь плотные одежды его ладонь. И вместе с гордостью в ней закипала злость на самое себя.
Марию Данько отряхнул своей шапкой, найдя ее, полную снега, в навороченном санками сугробе.
И как парубок ни просил девок спуститься еще раз, Яринка, недовольная собой, закапризничала – не хочу, ей-ей, не хочу, хоть убей... Кроме того, в глубине души она понимала силу своего сопротивления, что сможет угомонить даже этого настырного задиру.
– Пойдем, Марушка, домой.
– А что? А что? – заглядывал ей в глаза Данько.
– А то! – важничая, надула Яринка губы. – Потому!
Она высоко подняла голову, избегая его взгляда, а в глазах ее каждый мог прочитать приблизительно следующее: "Мне, может, и весело было, но не хочу я знаться с тобой, вот и все".
И, взяв Марию под руку, она, вроде не замечая Данилу, не спеша повела подругу в гору к дороге.
Раздосадованно посвистывая, Данько поплелся за ними.
– Девки, а девки! – негромко звал он. – Подождите! Что же мне бежать за вами?
– Кому надо, так побежит! – насмешливо прогундосила Мария.
– А то и на четвереньках приползет! – добавила Яринка.
– Н-ну! – пропустил сквозь зубы Данько. И тихо, чтоб не услышала Яринка: – Лягушонок! Головастик! – Но продолжал идти, не сводя взгляда с коротенького кожушка Яринки.
Догнал девчат лишь на дороге. Рванулся вперед, врезался между ними грудью, обнял обеих за плечи.
– Эх, девки-маковки, красные розы!..
– Убери руки! – резким голоском приказала Яринка. И оттого, что не послушался, прибавила гневно: – Вешайся на половецких!
– Так нет там таких! Поняла? Нет таких пригожих... как Марушка. – Он захохотал: – Что, схватила?!
– Иди ты ко всем чертям! – густым голосом молвила Мария. – Он еще и зубы скалит!
– Глянь, смеется! – возмутилась и Яринка, хотя и забилось сердечко от хитрой Даниловой похвалы. – Смеется!.. А самого все коты обмяукали! И вороны обкаркали! И утки обкакали! – И залилась счастливым смехом.
Сейчас девушка могла себе позволить и большее.
Парубок деревянно засмеялся, и в смехе том послышалась угроза. Но девушка не боялась его.
Дошли до Яринкиной хаты.
– Доброй ночи, Марушка! – с лукавой усмешкой в голосе сказала Яринка и ткнула в ладонь Марии белую свою рукавичку.
– Постой, – заторопился Данько, – надо Марушку проводить.
– Сама дорогу знаю.
– Нет, я сказал – надо! – И парубок, взяв под локоть Яринку, с силой потянул ее за Марией.
Девушка смолчала.
Возле Марушкиного перелаза благодарная Яринка обняла подругу и, смешно выпятив губы, поцеловалась с ней.
– А со мной? – подкатился Данько.
– Целуйся со своим Рябком! А то с половецкими перестарками! Ишь чего захотела овечка – ленточки!
Мария пошла к хате не оглядываясь.
Данько с нежно-яростной силой вцепился в руку Яринки, прижался к ее боку.
– Вот теперь ты уже не выкрутишься! Поняла?
У притихшей Яринки сердечко вырывалось из груди.
– Говорили дядько Степан – выглядывать будут, – сказала она на всякий случай.
– "Не боится казак Савва ни грому, ни тучи, ладно в кобзу играет, до Савихи идучи!.." – хрипловато запел Данько.
Затем, завораживая ее ястребиными глазами, крадучись просунул руку между пуговицами ее кожушка. И когда, зажатая железной хваткой, Яринка затрепыхалась, зашипела (кричать стыдилась), было уже поздно – пальцы его упруго сжимались.
– Пус-с-сти-и! – хриплым шепотом умоляла Яринка.
– Цыц, пакостная! – так же шепотом успокаивал Данила девушку.
– Я ма-аме скажу-у! Зараза! Котосмал! Гадкий! Противный!
– Вот так, так! Говорила, балакала, рассказывала, аж плакала!..
Обессиленная своим сопротивлением, какой-то непонятной горячей силой, что проникала в нее от руки Данилы, девушка увяла и только бесслезно всхлипывала.
– Ну, вот так бы и давно! Дурная! Все девки любят! Одна ты... ну, лягушонок, да и только!.. – И, порывисто наклонив ей голову, впился губами в ее холодные, влажные, немного выпяченные уста. И еще раз, и еще...
После этого девушка совсем перестала сопротивляться. Все тело ее словно одеревенело и было полно непонятного тревожного ожидания. Ожидания чуда или большой беды. И она уже не чувствовала рядом с собою парубка сила, что лилась из его руки, растворила ее в нем.
Ей вдруг стало страшно, и она забормотала, обращаясь скорее к себе, чем к нему:
– А пошел бы ты в Половцы! Там те девки... Те девки!.. Не тронь меня... противный... – И зажмурилась от чувства блаженного огня, что растапливал ее невесомое тело.
– Глупышка! Не бойся! Не трону. Я к тебе сватов зашлю!.. Вот только скажу отцу...
– Гадкий, противный...
Безболезненный огонь охватил ее всю, и она истекла куда-то в голубой простор, как растаявший весною снег. Но кулак ее машинально молотил Данилу по спине.
– Отстань. Все равно гадкий!..
ГЛАВА ВОСЬМАЯ, в которой Иван Иванович поступается моральными
принципами ради будущих родственников и во имя знаменитого
трубочиста
Порядочная по размерам кладовая, что служила для хранения всяческого хлама: клееные-переклееные карты, венские стулья без ножек, сломанные парты, целая куча травы для веников, все нужное и ненужное, что я заботливо сохранял до худших времен, – все может случиться на этом свете! – эта кладовка стала пристанищем для моих будущих родственников свахи Нины Витольдовны и длинноногой невестушки Кати.
Ядзя не оставила своей работы в школе, и потому я велел ей вынести все в сарай – уже до лучших времен, когда все это богатство пойдет на топливо. Приказал еще выскрести пол, обмазать стены. Ядзя сделала все это с большой охотой, потому что не разделяла моей приверженности к старине. Вероятно, на службе у пана ксендза она привыкла к благородному расточительству.
Позвал я Остапа Гринчишина, который славился своим непревзойденным умением чистить сажу и даже класть печи.
Правда, все они после него страшно дымили, но Остап разбивал своих критиков такими соображениями (обслюненная цигарка во рту): "На то она и печь... пых-пых... чтоб дымила. Огня без дыму... не бывает. Опять же от дыму... пых-пых... утепление в хате... Опять же, када не будешь топить... то и дыму не будет... А када топить будешь... пых-пых... – Здесь Гринчишин надолго задумывался, как получше высказать свою глубокую мысль. – Одним словом... мастерство усякое... магарыч любит..."
Эту мысль Остап высказал и мне.
– А сколько запросите?
– Пять рублев... Када без магарыча.
– А если с магарычом?
– Магарыч... пых-пых... он тож... Када мастер черт знает что... сам домой идет... ежли с понятием... пых-пых... под руки ведут... а када совсем с головой... и на телеге отвозят... на соломе... пых-пых...
– Ну, если со свинским... то есть с панским магарычом?
– Три рубли.
Я подсчитал в уме: две бутылки рыковки – выпьет! – один рубль шестьдесят копеек, полфунта сала – съест! – двадцать копеек, кислая капуста и синий лук в счет не идут, итак, всего – один рубль восемьдесят копеек. Есть все же выгода поставить магарыч, и, главное, печь не будет дымить. Здесь мне нужно было поступиться моральными принципами, потому что Остап со своим недюжинным умом способен был и на пакости. Одной бабке, которая без почтения отнеслась к магарычу, великий мастер тайком вмуровал в печку бутылку со ртутью, накидал в нее гвоздей, осколков стекла и едва не доконал старуху: каждый вечер начинался в хате настоящий ад – с воем и скрежетом зубовным. Бабка вынуждена была снова звать Гринчишина, и он, отослав ее к батюшке заказать молебен, сам выжил из печки того домового, на этот раз с магарычом...
Так вот, привезли глины и песку, мы со школьниками из руин бывшей воловни Бубновских набрали кирпичей, и знаменитый печник принялся за работу. Подручными его были Ядзя и в свободное время – я.
Великому каменщику нравилось также любоваться своей работой. Каждый кирпич он долго взвешивал в руке, даже поплевывал на него, как рыбак на червяка, наконец укладывал на раствор, покачивал туда-сюда, нежно пристукивал рукоятью кельмы, разглядывал кирпич в ряду, склонив голову то на одно, то на другое плечо, переминался с ноги на ногу, как старый вдовец возле дивчины, которая должна стать его второй женой, потом степенно опускался на скамью и скручивал новую цигарку.
– Будто здесь и был... Када кладешь кирпич... пых-пых... нада знать, куда класть его... Ежли мастер с головой... пых-пых... то кладет куда надо...
Когда ж, бывало, стенка обвалится, хлопнет себя по бедрам: ну, ты гляди – как не было!..
Мы с Ядзей из уважения к его мудрости стояли в это время возле него смирно, как солдаты на молитве, держа в руке по кирпичу, и ужасно переживали свою бездеятельность.
Через две недели печка с духовкой и плитой была готова. Оштукатурив ее, великий мастер с час сидел на скамье возле топки и пускал туда дым из самокрутки. Это должно было убедить нас, что тяга есть.
Из-за его "знаменитости" мы с Ядзей не решались зажечь в печке хотя бы жгут соломы.
Наконец настала торжественная минута, когда известного печника посадили за стол.
Мудрейшие мысли стал излагать мастер после третьего стакана.
– Када пьешь... нада иметь понятие... Када мастер с головой, то он знает три правды. Что можно сделать сегодня... так подожди до завтра. А то, что можно выпить завтра... так лучше выпить сегодня. А ежли горилка мешает работе... так брось ее... работу...
После пятого стакана знаменитый мастер запел:
– Го-йой! Го-йой!.. Йо-йой!.. Тундылили, тундылили... ме-о-оду!
А потом начал безутешно плакать:
– Ежли мастер... ма-астер... у-гу... гу-гу... с понятием... гу-гу-гу...
Тут мы поняли, что великий печник достиг наивысшей мудрости. Я и мои домашние вынесли его на рядне, уложили на двуколку и благополучно сдали Гринчишихе, которая от радости не знала, куда его положить.
– Ну, Иван Иванович, да и спасибо ж вам великое! Дай боже и вам вот так! – благодарила умиленная женщина.
Я скромно заметил:
– Ежли мастер с головой...
– ...а не свинья... – добавила Евфросиния Петровна.
На этом мы и распрощались со счастливой семьей. Деньги, понятно, отдали Гринчишихе. Она зажала их в кулак и сразу повеселела.
– Ну, ничего, – сказала она, – такую умную голову хмель глупее не сделает!
Через день или два Нина Витольдовна перебралась с Катей в новое жилье. Перевели туда и старого Бубновского, который очень обрадовался этому и бормотал:
– Ниночка благо'одная женщина... да, благо'одная!..
– Вот и началась наша новая жизнь, Катенька! – с достоинством и грустью сказала Нина Витольдовна, осматривая голые стены.
Катя смотрела на нее большими синими глазами – с недетской мудростью, со страхом утраты матери, с невыплаканным горем, с ранней чисто женской солидарностью.
– Мы будем жить, мамочка... Я так тебя люблю!..
...Я так вас люблю, мои будущие родичи, прекрасная моя сваха, богоданная моя невестушка!..
В тот вечер мы с Евфросинией Петровной пришли на новоселье к нашим родственникам. Я с энтузиазмом раздувал самовар старым сапогом – и галантность моя была весьма кстати: у Нины Витольдовны и без того глаза были воспалены, словно кто-то бросил в них горсть раскаленной золы.
Мы пили настоящий китайский чай, купленный в кооперативной лавке (частной торговли мы, учителя, по моральной обязанности, не поддерживали), с коржиками, которые испекла Евфросиния Петровна – хрустящие, вкусные, в форме плоского мещанского сердечка. Моя невестушка пила чай так тихо – ни причмокнет, ни подует, – сама благовоспитанность, и я стал побаиваться за своего Виталика: каково-то ему придется с такой женой-комильфо. И еще заметил я в своей невестушке – она начинает мило картавить: видимо, мама ее, пережив неудачу с обучением деревенских Ванек и Одарочек, начала приучать к французскому свою доченьку.
Ну что ж, Виталику придется выслушивать строгие порицания на языке Декарта и Вольтера. Но я уверен, что он не будет оправдываться страстными русскими идиомами, которые обезоруживают и доводят до слез даже жен со знанием пяти иностранных языков.
Я уверен, что сын простого сельского учителя будет благороднее своего тестя-дворянина.
Не знаю, чем закончит Виктор Сергеевич Бубновский. Или полным "опрощением", что приведет его в нередеющие ряды алкоголиков, к чиновнической утрате личности, или в кружок замаскированных и озлобленных контрреволюционеров? В последнее я мало верю – нет в его душе ни одного твердого убеждения, которое определенным образом дает право на уважение к заядлому монархисту.
Куда пойдет он, лишенный даже воспоминания о семейном уюте, где найдет друзей, которые заменили бы ему покладистую синеокую женщину, мать его ребенка?
Где приклонит голову, что так рано поседела от жгучих душевных ран уязвленного дворянского самолюбия? Ибо уже и проклятия в адрес своего бывшего сословия, болезненно-веселое самобичевание не приносят ему утешения, и он все реже прибегает к ним. Наоборот, если он и причисляет себя к пролетариям (все отобрали, все!), то только с добавлением "люмпен".
Так разлагается личность...
А может, и на него снизойдет дух божий, и он, как тысячи других интеллигентов, болезненно, с мукой великой, осознает смысл своего жизненного назначения и начнет по-настоящему служить своему народу после того, как осмыслит, что падение его сословия – не мировая трагедия, а великая справедливость революций, которые сметают и уничтожают господствующую элиту, в какие бы тоги она ни рядилась?
Кто знает...
Только очень мне не хотелось бы, чтобы моя маленькая невестушка имела какие-то основания – со страха за свое будущее, из простой мещанской подлости или даже из идейных побуждений – отречься от своего беспутного отца...
Я уже приметил моду на отречения и считаю это величайшей подлостью всех времен, начиная с Галилея...
В тот самый вечер я наблюдал не только своих будущих родственников, но и свою любимую супругу. Да, она была настоящей женщиной...
Еще с того дня, когда Бубновская с дочкой поселились у нас, отношение Евфросинии Петровны к ней заметно изменилось. Не только по праву старшинства, но и по положению замужней матроны, Евфросиния Петровна давала понять разведенной и потому запятнанной супружеской неверностью Нине Витольдовне о своем преимуществе.
Но это было, как всегда, не от силы, а от страха.
Я уже давно заметил, что замужние женщины очень боятся своих разведенных сестер, – ведь каждая разведенная становится более привлекательной для мужчин, становится вроде девственницей, тоскливой мечтой. Да еще когда твоей подруге, скажем, не сорок два, а тридцать пять лет...
И даже если твой муж и неспособен вроде постоять в поединке с соблазнительной молодостью, все равно опасность существует, потому что таким... таким... только и нужно, чтобы прикрыть свою аморальность хотя бы видимостью повторного брака. Одинокая разведенная женщина точно так же презираема среди своих сестер, как и старая дева...
Вы слышите, женщины, кто разводится с пьяницами и развратниками, с мужьями, избивающими вас, с садистами? Хорошенько подумайте, и не раз, прежде чем покинуть богоданного мужа!..
Как-то я было заикнулся: "Катя, доченька моя...", так моя любимая женушка сразу с кротостью голубицы поправила меня:
– Ваня, ты не можешь называть так нашу милую гостюшку, ведь у нее есть родной отец!
Ну, как не согласиться с такой железной логикой!.. И с тех пор я обращаюсь так: "Катя, детка..." И Евфросиния Петровна внимательно прислушивается, не добавлю ли я: "детка моя". Ох, как боится она, чтобы эта девчушка не стала ребенком моим!..
А Нина Витольдовна будто не замечала ядовитого меда, струившегося с уст ее верной подруги.
А когда моя любимая жена, немного вспотевшая от крепкого и горячего чая, влажными глазами еще раз окинула убогую комнатку Нины Витольдовны и сказала: "И все же у вас здесь так мило!" – хозяйка улыбнулась грустно и извиняющимся голосом проговорила:
– Буду рада каждый день видеть вас своей гостьей! Ведь мы так близки!
И я понял, что этим она опередила мою жену, которая хотела бы сказать первой:
– Буду рада каждый день видеть вас своей (не "нашей"!) гостьей. Ведь мы такие близкие (соседи!)...
Одним словом, они поладили и исключили меня из своего сообщества. Ведь обстоятельства изменились – Нина Витольдовна была теперь разведенной женщиной!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, в которой автор сообщает, как Степан Курило
дарит своей "полюбовнице" не янтарное монисто и не золотые сережки и
как важное государственное мероприятие вызывает недовольство Софии
Курилихи
С тех пор как Степан признал свою падчерицу дочкой, а она его отцом, в семье Софии как будто ничего не изменилось.
Да и что может измениться во взаимоотношениях людей, которые целый день заняты тяжелой работой, а долгими ночами думают о заботах завтрашних?
Ежедневно, управившись со скотиной, Степан домолачивал в клуне оставшиеся снопы. Рожь и пшеницу обмолотили, пока Степан лежал в госпитале (София частенько бубнила, как дорого это обошлось – и Титаренко за молотилку плати, и обеды для работников готовь – целого поросенка начисто съели! – и для магарыча горилку покупай!..).
Оставалось управиться с просом и гречкой.
После больницы Степан еще не вошел в силу. Смолотит снопов сорок – и рубаху хоть выкручивай. Но работал – никто за него делать не будет – да еще и чувствовал себя виноватым, что в горячую пору оставил хозяйство без рук.
По ночам долго кашлял, мерз под кожухом рядом с женой, а когда та заметила, как ему неможется, посоветовала спать на печи.
Степан с удовольствием последовал ее совету, ведь с тех пор, как они погрызлись из-за Яринки, уже и телом своим София перестала волновать его.
А может, это была слабость? В другое время это встревожило бы Степана. А сейчас ему было все равно. Пускай себе жинка неспокойно поскрипывает досками топчана, ворочаясь с боку на бок от невысказанных желаний, пускай снятся ей скоромные сны.
Она не была постылой, но ушло из души что-то дорогое, и в сердце поселился холод. А тоска охватила такая лютая, что холод этот разливался по всему телу.
И только тогда оживал Степан, когда перед глазами была Яринка, становилось вроде легче дышать и тоска уже не холодила, а грела его.
А то, что София не спускала с него пристального взгляда и в глазах ее он замечал сдерживаемую злость, уже не побуждало его искать призрачного утешения в ее объятиях.
Стал он молчаливый и понурый. Сдерживал в себе каждое слово, что могло выявить его чувства, его тоску и отчаяние.
Возвращалась с улицы Яринка в коротеньком своем кожушке с кожаными пуговицами, такая опрятная и свежая, приносила запах мороза, холодные розы на щеках, острый и тревожный блеск в глазах – не спрашивал, а где это, доченька (доченька!), была, кого видела, не задевает ли тебя тот ястреб степной, разбойник? А хотелось спросить, ох как хотелось!.. Даже дыхание перехватывало! Но боялся проявить свою ненависть, чтоб не накликать на себя еще большую... Боялся ее глупой молодости, Софииной ревности, самого себя боялся.
В эти минуты он проклинал и Софию, и забитого седовласого попа, обвенчавшего их, и даже Яринку, которая стала причиной его неукротимой муки, укорял за святую ее нетронутость.
Все раздумывал, куда ему податься со своею тоской. Кому высказать ее, кому?
Мамо, спаси меня, с ума схожу!.. Батько родной, вытяни кнутом – для науки! Брат мой, оббей об меня костяшки, спусти дурную кровь!..
Не отзовутся – кто мертвый, а кто далекий.
Пойти бы к Ригору – он такой же бобыль несчастный, как и я...
Да нет, у него все ясно и просто – семь патронов, мировая революция и ненависть к "живоглотам"! Нет, не поймет Полищук, не поплачешь перед ним хотя бы один только раз! – чтобы душу промыть.
К Ивану Ивановичу, учителю? Это же всего-навсего через двор... Ох, чересчур он праведный... А понимают ли праведные грешных?.. Увидит Степан в его очках только два тревожных зрачка – два маленьких своих отражения да еще осуждение, которого не скрывал учитель с самой его женитьбы на Софии. "Мил человек, куда ж ты попал? Почему не пришел ко мне посоветоваться, прежде чем стать на рушник? Почему все вы ждете от меня совета только после того, как горе ваше сделалось непоправимым?.. Я не бог, а слабый человек, у которого, может, тоже своя большая беда!.."
Вывозил как-то на поле навоз, встретил Василину Одинец. Отвернулись друг от друга: он от стыда – обещал похлопотать за нее, помочь, да так и не собрался из-за своих хозяйских забот, она же – не могла простить ему стыда своего, его хозяйского злого благодеяния.
Решил для себя – зайду. Подумал: может, поймет... И еще подумал: горем своим поймет, своим одиночеством поймет его одиночество, тоской своей голодной постигнет его грусть. Только искренне нужно, искренне, чтоб не спугнуть хозяйской снисходительностью... Искренне нужно, искренне...
Вечером София рано улеглась спать. Степан побродил по хате, сказал вполне естественным голосом:
– Пойду в сельсовет. Послушаю про землеустройство... Списки посмотрю. Да, может, и новость какая...
И, не ожидая ответа, вышел. В сенях на лестнице нащупал мешок, тихо зашел в кладовку.
Из плетеного короба нагреб пуда два гречки. Так же тихо прикрыл кладовку, поставил у двери мешок, прислушался. Потом взвалил его на плечи и, стараясь не звякнуть щеколдой, вышел во двор. И, все еще не переводя дыхания, пошел по улице.
"Если встретится кто – спросит". И подбирал уже ответ – злой, дерзкий, чтобы каждый почувствовал в нем хозяина: "А тебе что за дело? Куда хочу – туда иду".
А мешок – не Василине, даже не ее сухорукой матери, а детворе. Потому как дети не виноваты, что их мать вдовая. Они-то при чем, что чужой дядька идет к их матери поведать о своей тоске, – единственной душе, которая горем собственным может понять чужое.
Даже самому дивно – у кого ищешь утешения? Ну, кто она тебе? Маленькая женщина, похожая на девчушку-подростка, складная, с черными кудельками, что выбиваются из-под платка? Такой он видел ее тогда.
Нет, не к ней он идет – к своей сестре. К исстрадавшейся младшей сестре.
Уже у самой хаты Василины встретилась ему какая-то женщина в широком белом кожухе – прижимала сложенными руками запахнутые полы к животу, пристально всматривалась в него.
– Что, узнали? – спросил злобно.
– Да вроде нет... Добрый вечер...
– Бывайте здоровы!
Он уже был возле перелаза, а женщина все еще стояла поодаль, всматривалась.
– Смотри, смотри, чтоб тебе белый свет не видеть, так-перетак! довольно громко сказал он.
Женщина быстро направилась прочь. Через минуту ее фигура едва виднелась в вечерних сумерках.
Степан подошел к темному окну. Постучал. Сердце колотилось громко, тревожно, как у вора-новичка.
"Чего ты пришел сюда?"
"Да я и сам не знаю".
"Выгонят".
"Так тебе и надо!"
Спустя несколько минут, показавшихся ему целой вечностью, в сенях завозились, послышался голос:
– Кто это к ночи?
– Откройте.
Молчание.
– Откройте, говорю. Без умысла я.
Опять тишина.
Потом заскрежетал засов, дверь приоткрылась.
– Не стойте, Василина, на холоде. Идите в хату. Я сейчас.
Постояв еще немного, он нырнул в темноту, где пахло промерзлой капустой и мышами. Сбросил мешок в сенях, вошел в хату. Под ногами зашелестела солома.
– Добрый вечер вам.
Не ответили. Женщина искала в печурке спички. Медленно, затуманивая стекло, разгорался фитиль в пятилинейной лампе.