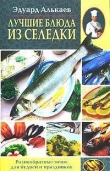Текст книги "Звезды и селедки (К ясным зорям - 1)"
Автор книги: Виктор Миняйло
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
Степан стоял в ожидании. Наконец женщина обернулась, узнала. Удивленно заморгала. Она была такой же, какой он видел ее тогда на поле. Маленькая, худенькая, с небольшими округлыми руками, с широкими бедрами. То ли зевала, то ли вздыхала.
– Должно быть, спросите, чего пришел?
– Сами скажете.
С печи свесила голову мать – смотрела на Степана пристально, ревниво и враждебно.
– Садитесь, коли пришли, – вздохнула Василина. И не торопясь обмахнула скамью у стола.
– Я пришел... – начал Степан. И подумал: "А зачем пришел?" Долго молчал. Вздохнув, продолжал: – Пришел, чтоб поговорить про пенсию.
Василина молча махнула рукой. Потом с равнодушной настороженностью:
– А я подумала – не за этим. Для чего ж ходят к солдаткам ночью?
– Так случилось. Ей-богу.
Женщина пожала плечами.
– Садитесь, говорю. – Она зябко поежилась. – У хозяев днем всегда заботы.
– Ой, забо-о-ота! – сокрушенно протянул Степан. "Ну чего я пришел?.." – Вы думаете, как сытый, так и счастливый? – поморщился он. И понял: не то сказал. "Голодный сытого не понимает..." – "У каждого своя судьба и свой мир широкий..." – произнес он из Шевченко.
Василина тоже села. Сжала колени, сложила руки на груди. Смотрела на него удивленно, враждебно, с какой-то опаской.
– Там я принес гречки немного... Смелете детям на блины... иль на кулагу...
– А за что ж эта гречка?
– Н-ну!
– Дурная! – отозвалась старуха с печи. – Как они уже дают, то бери. Пани какая!.. – Помолчала и добавила: – А там, может, и отработаешь Сопии.
– Я сам принес.
– Ну вот видите, – кивнула на него Василина, – это им нужно отрабатывать!
– Ну чего уж вы?.. Ну – чего? Я от чистого сердца.
– Вишь, – приподнялась на локте старуха. – Они ж говорят!.. Помоги слезть, – обратилась она к дочери.
– Да лежите там!
– Ну, так я про пенсию... У Ригора вы были?
– Была, была! – старуха с печи. – Сказал, что бумага какая-то не такая. А может, и такая.
– А какая ж у вас бумага?
Василина неохотно поднялась и достала из-за иконы сверток в пожелтевшей газете. Положила перед ним на стол.
Были там детские метрики, какие-то квитанции. А вот и бумага со штампом – размытые буквы, сверху фиолетовая пятиконечная звезда.
– "Красноармеец Никифор Федотович Одинец... одна тысяча девятьсот двадцатого года... в районе Пинска... пропал без вести. Командир батальона... комиссар... начштаба..." – прочитал Степан. – Ох, сколько ж нашего брата потопилось в тех болотах! – вздохнул он.
Помолчали.
– А в уезд вы не ездили?
Василина махнула рукой.
– Ну, так я поеду. К самому военкому.
Василина пожала плечами. Потом понурилась, закрыла глаза ладонью. Степан понял – плачет.
– Ходил, воевал, голову сложил... а Прищепы всякие хазяйничают... а хозяева мне по ночам... гречку носят... А пропади оно все пропадом! – она отняла ладонь от лица и снова прищуренно взглянула на Степана. – Совецка власть... так для кого ж она?! Для одних только хозяев?!
– Н-ну! Я добьюсь правды!
– Бейтесь, бейтесь!.. – сказала Василина с легкой насмешкой, но уже без злости.
– Так я заберу бумагу?
– Как хотите.
Снова молчание.
– Хоть бы рубля три новыми... – вздохнула старуха.
– Да на вашу семью – рублей семь...
– Ого! Если б семь, так месяцев за пять и корову купили б!
– Верно. За тридцать пять – сорок и купите. Еще и хорошую. А если телку, то и за двадцать.
– Ну, дай вам бог здоровья!
– Надо получше все разузнать... – осторожно сказал Степан. Помолчав, вдруг обратился к Василине: – Вот вы спросили б, зачем я пришел... И сам не знаю... Оттого, видать, что тяжко мне. Оттого, может, что вы только беду знаете... вот и поняли б...
– Чужую беду рукой разведу, а свою... – это снова старуха с печи. А мысль о гречке не оставляла ее. – Василина, а пересыпь-ка из ихнего мешка, не то Сопия им такую взбучку устроит!..
Степану стало не по себе.
– А-а!.. Что ж я – не хозяин?..
Нахмурив брови, Василина взяла со стола каганец и вышла в сени. Через несколько минут вернулась, подала Степану скатанный мешок. Пробормотала:
– Спасибо. Только не носите больше.
– Ну, я еще приду. Тяжко мне, тоска!..
– Богу молитесь.
– Бог тут не поможет.
Женщина зажмурилась, ушла в себя.
– Вот так бы сидел и сидел!.. – сказал Степан, поднимаясь.
Подошел к Василине, протянул руку. Брови ее изломились. Вдруг всхлипнула – один только раз! – тяжело вздохнула и протянула ему ладошку дощечкой. Рука у нее была горячая, сухая и шершавая.
– Нам спать пора.
– Ухожу, ухожу... Доброй ночи!
– Бывайте здоровы! – попрощалась старуха с печи.
С мешком под мышкой, поскрипывал сапогами, а щеки пылали – кто-то оговаривает! Все раздумывал: "Зачем пошел? Платить за свое горе гречкой?.."
Когда вошел в хату, Яринка за столом кончала ужинать. В задумчивости шевелила губами – с кем-то, очевидно, разговаривала мысленно. Румянец жег ее лицо.
София не спала.
– Так что там в сельсовете? Должно, одни комнезамы? О чем говорят?
– Да... о разном.
Яринка взглянула на него испуганно и удивленно.
– А-а... – хотела она что-то сказать и опустила глаза.
– Завтра еду в уезд. Может, надо чего?
– А чего это поедешь? – подняла голову София.
– Дело есть! – сказал он жестко.
Почувствовав, что он ищет ссоры, София притихла. В другой раз ответила бы на вызов, но сейчас ей нужен был совет Степана относительно Яринки. Голова гудела от мыслей. Ой, куда ни кинь – всюду клин. И отсюда горячо, и оттуда печет... И возле себя девку нельзя оставлять, и выдавать... И без того десятину отмахнут... Разве что подождать... землеустройства их? Расспросить бы Степана... Нет, пожалуй, не стоит. Ой, нельзя! И нет спокойствия ни в доме, ни на улице.
Кузьма Дмитриевич Титаренко, встречая, доброжелательно покашливал, хихикал, осторожно намекал:
– Слыхали, Сопия, с весны опять переделивать будут – на души. Четырехполка. Каждый хозяин только и думает, где этих душ набрать... Парубков надо женить... Опять же, кажная тварь должна плодиться... Вот гадство, как жизня встроена!.. Хе-хе... Думает и мой Данько засылать сватов... Имею, говорит, свой антерес... А я ему... хе-хе... отчего ж, ежели девка хозяйская... Ну, значца, Сопия, значца, так... надо идти... хе-хе... Вот гадство, уремья настало!..
И хотя София понимала, что со Степаном творится что-то худое, не могла сдержаться, чтоб не спросить про самое наболевшее:
– Ну, а как там... чтоб оно провалилось... это землеустройство?
Он посмотрел на нее со злорадством.
– А ты и так уже знаешь – по десятине на душу. А остальное... – И резко махнул рукой, как отрубил.
И хотя София слышала об этом, ночами не спала, хотя от обиды грудь сжимало, сейчас даже всхлипнула:
– Ой! Так и от нас отрежут!
– Пожалуй! – с наигранным равнодушием кинул он.
– А ты и рад! Потому...
Он знал, что именно София должна была сказать.
– Наймиту лишняя работа ни к чему.
– ...Потому... был бы ты хозяин... так и у тебя сердце болело бы!
– А у тебя душа болит за тех, у кого детей куча?
– А кто нищие, пусть не плодятся!
– Или вовсе не живут!..
Яринка со страхом поглядывала то на мать, то на отчима. И не знала, чью сторону взять.
– А иди лучше спать, – сказала мать дочери. – Надо рано вставать да прясть. Не малая уже, на улицу ходишь.
– Приданое наживай! – сказал Степан.
– А ты как думал? Иль она ленивой матери дочка?..
Яринка быстренько и молча, словно виноватая в чем, улеглась. Разделся и Степан.
Супруги не спали. Вздыхали, пыхтели, ворочались с боку на бок.
– Послушай... а сколько от нас отберут... если Яринка выйдет замуж?
У Степана перехватило дыхание. Чтобы не выдать себя, крякнул, закашлялся.
– Две десятины останется, да еще усадьба, как была... Десятина – мало тебе?
Снова умолкли, и каждого опутывали мысли, как липкая паутина.
– Надо подождать... – тяжело вздохнула София. И опять надолго замолчала: все прикидывала, взвешивала.
– А как выйдет замуж, отдельный номер в сельсовете дадут?
Голос ее прозвучал в холодной пустоте.
И, уже засыпая, сказала разбитым голосом:
– Куда ни кинь, всюду – клин! – И всхлипнула от жалости к себе. – Вот гадство, время настало!..
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, в которой Иван Иванович Лановенко утрачивает
моральные принципы на этот раз из соображений карьеристических
В тот день в классах было торжественно и тихо. Даже "галерка" здоровые парни лет по четырнадцати-пятнадцати, с темными усиками, по которым плакала хорошо направленная бритва, – сидели важно и если отпрашивались с уроков, то не для того, чтоб поскользить на подковах, а только покурить.
В классах пахло пирогами с горохом и капустой. Этим толстым и румяным, как "солнышко"* со сложенными ножками, пирогам осталось жить до второй перемены.
_______________
* С о л н ы ш к о – так называют дети божью коровку.
В детских глазах каждый учитель читал ироническую снисходительность, характерную для бунта сильных: вот погодите, мы вам сегодня такое выкинем!
До начала уроков, или, как мы сейчас говорим, лекций, устроено было общее собрание учеников – вся стриженная ступеньками и повязанная платочками школа. Я долго говорил о вредности религиозных предрассудков. Призывал школьное общество не верить поповским сказкам о рождестве, не ходить по селу с зажженной звездой, чтобы случаем не поджечь хаты. О колядках и речи быть не может – это древний языческий обычай, и совсем не следует болтаться под чужими окнами и попрошайничать.
Наши учительницы стояли, стыдливо опустив глаза, и стыдливость их отдавала запахами запеченной в тесте ветчины, домашних колбас и вишневой наливки.
И когда я думал об этом, у меня не только сводило скулы от предчувствия острого запаха подкрашенного бураком тертого хрена, но и было мне понятно, что и мои школьники чувствуют в моем дыхании все эти запахи и, кроме того, запах настоянной на лимонной корочке горилки.
Одним словом, еще не закончив своего доклада, я уже внутренне сгорал от стыда, но меня спасало только то, что за моими плечами стеной стоял Ригор Власович, который сегодня олицетворял собою отделение церкви от государства и школы.
После меня он тоже произнес короткую речь:
– Стало быть, детвора, Иван Иванович, как дважды два, доказал всем вам, что никакого Иисуса Христа не было и быть не может. И никакую богородицу не следует исполнять, потому как от этого только вред. И чтоб я не видел, как ходят с тою, не нашей звездой. А вы, гражданка Стшелецка, получше натопите печи, потому как дети завтра будут учиться. Всем понятно?
Дети зашумели, загалдели – всем было понятно.
В тот день на лекциях я старался еще более углубить антирелигиозные знания учеников.
Прохаживаясь между рядами парт, я показывал своим гусятам-школярам рисунки, на которых были изображены казни и пытки еретиков – и огненные мучения, и пытки водой, и дыба, и "испанский сапог". Но сегодня детское воображение почему-то не воспринимало всего этого ужаса, никому не было больно. Больше того, за моей спиной скептики обращались друг к другу шепотом, предназначенным для моих ушей:
– Э, это только рисуют!.. И тато, и дед сказывали, что в нашем селе, сколько они помнят, так только один поп крестом дрался. Да и то, если допечь.
После углубленной лекции я отвечал на вопросы детей.
Павлик Титаренко, сминая угол книжки, с наигранной скромностью во взгляде и голосе спросил:
– Вот вы говогите – бога нет. А почему в пгошлую пятницу мои бабушка кгест на небе видели?
– Так бабушка твоя, Павлик, уже лет десять и свечки не видит!
– А газве я говогю, что видят? Вот ничего не видят, а кгест увидели! – И победно плюхнулся на скамью.
– А мои дед говорили, – баском отозвался кто-то с галерки, – вот идут они как-то у речки и трубку прикуривают. А темно – хоть глаз выколи. Но никак огня не высекут. "А чертяка б тебя высек!" А оно как секанет их каменюкой по голове, аж искры из глаз посыпались. А была то – нечистая сила! Во!
– А с моих батьки однажды ночью, когда они пьяные по кладбищу шли, мертвецы сапоги стащили. Батька только портянки домой принесли!
– А за моими мамой что-то ночью гонялось. Обогнало – да перед самыми глазами как поднимется вихрем!..
Ну и ну! И никаких моих опровержений никто и слушать не хотел – это ж тато сказали! это мама рассказывали! это дед от своих бабушки слышали!..
Я только мужественно оборонялся. На глупость нападать трудно...
Окончились все лекции. Панна Ядзя пооткрывала все форточки в классах. Я помогал ей передвигать длиннющие и тяжелые парты. Святая дева, топая опорками и дразня меня, старого, белыми точеными икрами, в святом неведении мыла пол.
Я долго не уходил из классов. Задерживало меня здесь не только любование святой девой, но и грустная привычка к помещению, в котором прошла большая часть моей жизни. В комнатах пахло влажной овчиной, цвелым хлебом и острым морозцем. Пахло хвоей: это Ядзя, не спрашивая моего согласия, – а я притворился, что не замечаю ничего, – украсила все портреты скрещенными сосновыми ветками. Пахло неуловимыми запахами древнего праздника – то ли медом, то ли свежими калачами.
Закрывали школу торжественно, с тихой радостью, затаенным смятением. Ведь завтра отпускаю своих гусят на каникулы. Прочищали дорожку до крыльца, будто ждали почетного гостя. И все это ради традиции, которая уже отживала свое.
Я был торжественным и грустным. Человечество с радостью принимает новые праздники, но трудно расстается со старыми. А я тоже был человеком. Только мне было тяжелее – я должен быть во всем последовательным...
На обед к нам пришла Ядзя. Хату вмиг озарила ее золотая, зеленовато-голубая краса.
Евфросиния Петровна не знала, где ее и посадить, чем угощать.
Святая дева была полна расположения не только к людям, которые некогда дали ей пристанище, но и к угощению, что стояло перед ней. Она не ела, а причащалась. Евфросиния Петровна даже покрикивала на нее. Ядзя поднимала свои зеленовато-синие глаза со страхом и стеснительностью. Немного коротковатая верхняя губа ее открывала рядок жемчуга.
Весь вид ее был как у телушки, обреченной на жертву богу, покорность судьбе, неведение, инстинктивное чувство трагического таинства.
Когда, по нашим расчетам, ангел уже насытился, я, не имеющий возможности разговаривать с нею на личные темы в школе, – там я был лишь заведующим, а она – сторожихой и уборщицей, и виделись мы редко, у себя дома на правах хозяина с трепетом в голосе спросил ее:
– Ну, как тебе, Ядзя, на новом месте?..
И мы с женою затаили дыхание.
На лице нашей девоньки отразилось замешательство.
– Проше... проше... бардзо добже... – И вдруг заморгала ресницами, а потом крепко зажмурилась.
У меня самого появилась резь в глазах.
Если перевести на литературный язык ту смесь польских и украинских слов, которой Ядзя старалась объяснить теперешнее свое положение, то это звучало бы так:
"Деточки те такие ангелочки... Правда, замазанные... часто выбегают босые в сени и на снег... приходится очень следить... Но они меня любят, как бог свят, любят... Взберутся мне на спину и прыгают – тетка Ядзя, покатайте нас!.. Но только хлоп тот, хозяин мой, ой, какой же он коварный!.. Так смотрит на меня, так смотрит!.. Пан Езус не велел так смотреть на бедных девушек... И еще придурковатый какой-то – встанет ночью, выйдет, а потом, как лунатик, никак не может попасть на свою кровать..."
Вот как оборачивается твое душевное благородство, губастый парубок, Ригор Власович!..
Но поднимется ли у тебя рука с наганом – наказать обидчика, ведь он тоже из "бедного класса"!.. Как видишь, Ригор Власович, на селедку молятся и бедняки!..
И что вам посоветовать, глупые дети мои? Как помочь вашему общему горю, как помочь вам найти или забыть друг друга?
Чем исцелить вашу жгучую тоску, перебить полынную горечь во рту, чем приправить еду, чтобы она не казалась такой противной, как заставить вас прожить хотя бы минуту без того, чтобы не думали друг про друга?
Мне знакомо это состояние, – ведь я живу почти рядом со своим недосягаемым счастьем, со своей близкой бедой!..
Но вам все же легче. Вы – молодые, творите глупости, но никто не может помешать вам поумнеть. А вот мне, мудрому, никак нельзя поглупеть! Вам можно кричать друг про друга на весь мир, а мне невозможно проговориться ни единым словом – даже прошептать золотое имечко!..
Нина Витольдовна пришла к нам уже вечером. Она конечно же была гостьей моей жены, потому что я уже не имел права приглашать ее к нам.
Наши женщины осторожно смаковали вишневую наливку, потом так же, с не меньшей осторожностью, поражая друг друга воспитанностью, пили чай со сливками и с теми самыми сдобными коржиками, в виде сердечка и кленовых листочков, которые были предметом гордости моей хозяйки.
На моих глазах происходил процесс сближения двух начал – святой добродетели и женской легкомысленности, которые олицетворяли каждая из дам.
Мед, струившийся из уст моей любимой супруги, так и капал на стол, и мне казалось, что он прожигает не только белую скатерть, но и само дерево под ней.
Евфросиния Петровна учила свою младшую подругу, как жить на свете.
Будем же благодарны всем тем, кто рассматривает нашу жизнь не в стихийном процессе развития природы, а в выполнении множества обязанностей, выдуманных такими достойными людьми, как моя жена.
Я задыхался от грусти. Я умирал от одиночества. Кому поведать печаль мою? Почему чувства, которые возвышают нас над животными, почти всегда приносят человеку страдания?
Евфросиния Петровна по святым своим обязанностям творила жестокое добро.
– Милочка, Нина Витольдовна, вам непременно нужно подать хотя бы малейшую надежду Виктору Сергеевичу! Это будет с вашей стороны благородно. Вы только подумайте, как воспринял ваше опрометчивое решение свет!..
– Какой свет, мамочка, ты имеешь в виду? – поинтересовался я. – Ты, очевидно, намекаешь на наше интеллигентное общество?
Евфросиния Петровна вытаращила на меня глаза.
– Конечно!
– Ну, тогда считай, что речь идет про полсвета или половину интеллигентного общества. Ибо вторая половина, то есть твой раб, придерживается других взглядов!
Я знал, что именно могла сказать моя любимая жена.
"Ты, как все мужчины, готов оправдывать распущенность".
"А в чем же она?"
"Ну, в том, что Нина Витольдовна... ну... понимаешь..." – И жена моя едва заметно покачала бы головой, и во взгляде ее я прочитал бы чистоту женщины, которая, по своему желанию, спит не одна, а с законным мужем.
Но Евфросиния Петровна была на удивление выдержанной матроной:
– Вся трагедия в том, что Катя осталась без отца!
– А я по папе не скучаю! – вдруг сказала Катя и склонила головку на плечо, будто хотела показать кому-то язык.
Взволнованная Нина Витольдовна еще больше смутилась и замахала на дочку руками:
– Катя, ты невозможная! Как ты смеешь вмешиваться в разговор старших?!
– А как это старшие, – надула губки эта невозможная девчушка, – как это старшие смеют вмешиваться не в свои дела?
Евфросиния Петровна даже вскрикнула. Заметно побледнела. Цвет глаз приобрел стальной оттенок. Стреляющий палец медленно, но неуклонно поднимался на уровень чернявой головки дерзкой девчушки. Но выстрела не последовало. Возле самых наших окон послышались скрип снега, смущенное и одновременно дерзкое покашливание, и измененными голосами мальчишки выкрикнули хором:
– Добрые хозяева, позвольте поколядовать!
Все мы оцепенели от ужаса. Не ждал я от своих гусят такой дерзости!
Я терял мужество. Готов был плестись на дрожащих ногах в сени, поднять крючок и впустить в свою учительскую обитель шумную толпу с шестиконечной звездой.
А они только и ждали этого!
Я слышал, как они спорили и нетерпеливо, но легонько дергали дверь. Им важно было навеки запятнать наши непорочные учительские биографии. Им нужно было увидеть на нашем столе и ветчину, и домашние колбасы!..
Назавтра все село потешалось бы: "Ишь, как что, так они на религию!.. А сами в рождество – колбасы да мясо!.. Детей учат!.."
Евфросиния Петровна вселила в меня мужество своим пальцем. Но и это не помогло. За окнами откровенно смеялись над нами.
Добрый вечер, люди!
Пан хозяин,
Радуйся!
Ой, земля, возрадуйся,
Сын божий
Родился!
И где они такому научились?! Ведь Евфросиния Петровна только и пела с ними: "Мы – кузнецы, и дух наш молод..."
А тут такое:
Застелите столы,
Да все келимами
Радуйся!
Ой, земля, возрадуйся...
И эти шаловливые детские голоса были настолько красивы своей неосознанной верой в добро, такие чистые от земного зла, что так и сияли, светились голубым!
И тогда на нас сошло другое оцепенение – не страх за нашу учительскую репутацию, не страх осуждения, а ощущение немыслимой эмоциональной силы в таких, казалось бы, простых словах:
Ой, земля, возрадуйся...
И может, впервые за нашу совместную жизнь непреклонная моя жена, со сталью во взгляде и стреляющим пальцем, громко и непритворно зарыдала:
Ой, земля-а-а... земля... ой...
Ой, земля, возрадуйся!
Ой, земля, возрадуйся! Ой!.. Ой!..
и упала грудью на стол, уткнувшись головой в руки, – так растрогало и потрясло мою жену запоздалое известие школьников о рождении в семье плотника мальчика, который выучился на бога.
О счастливые мои потомки! Пусть сердца ваши каждый раз переполняются радостью, не стыдитесь слез умиления, как только родится на свет ребенок будущий страдалец и мученик, который, может статься, будет вашим защитником и заступником, может, богом, а своим рождением – останется человеческим дитятей!
Тихо плакала святая дева, плакала синеокая женщина, которая самой красою своей обречена быть несчастной.
О, как мне хотелось сказать ей слово, что по силе равнялось бы тому стону народной души:
Ой, земля, возрадуйся!..
Но мне нельзя было быть даже несчастным!
Уже отзвучало детское пение. А мы все сидели молчаливые и задумчивые.
У каждого перед глазами была собственная жизнь, которая складывалась из коротких бледных воспоминаний, и каждый из нас вслушивался: не зазвучит ли в нем потрясающе грустный мотив: "Ой, земля, возрадуйся!.."
Нет, не было в них ни больших потрясений, ни великой печали, которую можно было бы оставить потомкам – песнею ли, легендой ли. И от этого каждый из нас чувствовал себя таким одиноким, таким обманутым в своих ожиданиях, что не хотелось и жить – все равно доживешь свое и не оставишь после себя ни памяти, ни песни, ни печали.
Но нужно жить, мои дорогие, чтобы не оборвалась ниточка рода человеческого – серебряная струна, которая рокочет миру божьему песней.
Так тихо и грустно справляли мы сочельник шестого января тысяча девятьсот двадцать третьего года.
Конечно, на рождество школа опустела. Пришло лишь несколько детей бедняков, которым дома праздновать было нечем.
По два-три ребенка в классе – и сидели они за партами испуганные и вроде виноватые. И очень обрадовались, когда я объявил, что ввиду сильного мороза (!) школа сегодня не будет работать.
Евфросиния Петровна от великой своей щедрости пригласила всех сегодняшних старательных учеников домой, и каждому досталось по пирожку с творогом и по три конфетки.
А по улицам торжественно, парами, а то и целыми семьями, шло гостить к родичам село – в желтых и белых кожухах, в бараньих шапках, краснощекое от мороза и горилки, щебечущее село в толстых шерстяных платках и сапожках на высоких подборах, с корзинками из подкрашенной лозы, с младенцами под полой кожуха, со строго поджатыми морщинистыми губами и серебряными крестиками на плоской груди.
И будут выпиты не одна бутылка казенки, не одна бутыль желтого житного самогона, съедена не одна ржавая селедка, и будут припомнены не одна соседская кривда, проломлена не одна голова, и не один сгорит от алкоголя, а будут говорить – помер от горячки, но удивительнее всего то, что в какую-то минуту просветления, с далекими глазами, устремленными в грядущее и прошлое, – заведут женщины серебристыми дискантами и сопрано, а одуревшие от горилки мужчины, на миг протрезвев, подтянут баритонами и басами:
Ой, земля, возра-а-адуйся,
Ой, земля, возрадуйся!
Сы-ы-ын бо-о-ожий
Роди-и-ился-я-а!..