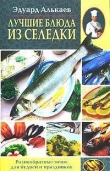Текст книги "Звезды и селедки (К ясным зорям - 1)"
Автор книги: Виктор Миняйло
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Ну, а какова моя роль в этом?
Я уже говорил как-то – не вмешиваюсь в жизнь, не творю историю. Ошибаются люди, когда считают себя способными на это. В историю может войти разве что один Спартак, один Кай Юлий Цезарь, один Нерон. Легче всех, правда, пролазят в историю нероны...
Так разве изменится что в третьей группе, если там "класкомом" будет не Титаренко Павлик, а кто-нибудь из бедняков?..
Или посмотрим на это с другой стороны. Мы, учителя, как и врачи-педиатры, не имеем права отказать ребенку в помощи на том только основании, что он не бедняцкого происхождения. Мы не можем исключать его из жизни, которая только и воспитывает гражданина. Ребенок ничего не изменит своим глумливым "Пголетагия!", а жизнь, окружение повлияют на него, да еще как! Так незаметно, так определенно, так неизбежно, как день приходит за днем, как течет сама жизнь. Вот увидите! Вот увидите!..
Вот что я думаю о моих неоперившихся гусятах.
А из головы не выходит Виталик, мой сын.
Скоро и он приедет на каникулы.
Через наше село, как вы знаете, проходит узкоколейная железная дорога. Крестьяне редко ездят по ней – дороговаты еще билеты. Особенно если ехать с багажом.
Виталик приедет поездом. Дважды в сутки прибывает к нам чумазая "кукушка" с четырьмя или пятью зелеными вагонами. Встречает ее на платформе низенькая и плотная жена начальника станции, а рядом трое белокурых, как и мать, детишек держатся за пояс ее не очень чистого фартука.
И встречает, и провожает поезда одна начальница, потому как начальник Степан Разуваев большей частью спит непробудным сном. Бывает, правда, что и просыпается. Тогда идет в село, а вскоре приезжают мужики с бутылью пригорелого самогона, а уезжая, накладывают на телегу старые шпалы, ни много ни мало – сколько лошадям под силу. И начальник запирается в служебной комнатенке, долго сидит задумавшись за столом, потом грохает кулаком и стакан за стаканом тянет и тянет, пока не заснет, рассыпав по столу свою желтую шевелюру. И пьет он, если хотите знать, не от безответственности, а, наоборот, от избытка ответственности. Ибо по штату он и начальник, и дежурный по станции, и телеграфист, и стрелочник, и дорожный мастер, и путевой обходчик, и десятник, и весовщик, – он уже и забыл, сколько всяких обязанностей принял на себя, когда попал сюда на службу. И от чувства своей важности и незаменимости он утратил, как говорят, перспективу и растерялся. И вот уже год или два жена его Феня ждет, пока разберется муж в сложном сплетении своих обязанностей, и неумело, но честно переводит стрелки, подметает перрон, принимает поезда, отругивается от начальства по телефону, нанимает женщин из села для ремонта пути, каждый день осматривает его, отпускает грузы из кладовой, со старшим сыном Степкой-сорванцом ездит на ручной дрезине на мост, приглядывает за тремя меньшенькими и черной козой.
Так же будет добрая Феня (написал бы и "фея", если бы ее формы не были столь пышны) встречать и тот поезд, которым должен приехать мой сын.
Будет пыхтеть "кукушка", набирая в тендер воду, помощник машиниста будет поить олеонафтом теплые подшипники из клювастой масленки, застревая в дверях с плетеными корзинами и мешками на плечах, приседая для прыжка на платформу, будут ругаться толстые торговки, и, наконец, зажатый между двумя чужими мешками, выглянет на свет божий Виталик со счастливым и потным веснушчатым лицом.
Расталкивая людей, я побегу к вагону и протяну руки, чтобы ссадить его, как маленького, со ступенек. Он смутится от этого и только обопрется рукой о мое плечо, спрыгнет, шлепнув подошвами сандалий о плотную и жирную от смазки землю.
Поцелую его в отросшие каштановые волосы на макушке, возьму из вспотевшей руки баульчик, он обнимет меня за талию, и так, неудобно, но довольные друг другом мы пойдем огородами к родному дому.
И, заранее гордясь им, я будто бы встревоженным нетерпеливым тоном скажу ему:
"Ну, хвались, сынок?"
А он, якобы не расслышав и продолжая игру, будет стараться рассказывать о том, как тесно было в вагоне. И, только выйдя на ровную гладенькую тропинку, нагнется, поднимет веточку и выведет ею на теплой земле:
"Очхор".
"О-о! – скажу я. – Так тебя надо поздравить!.." – И прижму его к груди, а он будет прятать лицо от радостной стыдливости. Потому как это "очхор" означает "очень хорошо", то есть оценку, которую в дореволюционной школе обозначали наивысшим цифровым баллом.
Вы, друзья, можете понять меня, не очень-то образованного сельского учителя, что закончил учительскую семинарию, а гимназический курс кое-как сдал экстерном, что значит иметь сына, который и в новой, трудовой школе заслужил за год это "очхор". Мы – маленькие люди, и наше тщеславие небольшое. Нас вполне устраивает кусок ржаного хлеба, свобода иметь детей, свобода любить их и гордиться ими, до тех пор, пока они не станут принадлежать другим. И если услышим похвалу за наши успехи, пусть даже одно скупое слово, – мы уже считаем, что стоит жить и работать. И забираем то слово с собой в могилу.
А те из нас, кому не посчастливилось при распределении общественной ласки, могут гордиться только своими детьми.
Я не стану таить гордость за сына только в себе. Каждый день меня так и будет подмывать поделиться с кем угодно своей радостью.
Меня, как всегда, будут останавливать крестьяне и спрашивать, что там пишут в газетах, кто там грозится идти войной на нас, когда подешевеет товар, а я буду гнуть свое: вот приехал, мол, сын, и вы знаете, такой стал умница, учителя не нахвалятся, все у него "очхор"!..
Для меня это большой праздник. Узнает о Виталике и Виктор Сергеевич Бубновский, бывшего помещика сын, который закончил Петровскую академию и готовился приложить приобретенные знания в хозяйстве своего отца, действительного статского советника в отставке.
В этом, как вы догадываетесь, Виктору Сергеевичу не повезло. Хотя после революции самого действительного статского советника никто и пальцем не тронул, однако имения он лишился. Сровнялись с землей двойные канавы, отделявшие от крестьянских наделов его шестьсот с чем-то десятин, разбрелись по бедняцким дворам лошади и волы – разбежался и инвентарь. Правда, и до сих пор еще стоят во дворе два здоровенных паровых трактора, – как их утащишь – пудов шестьсот никому не нужного железа.
Старый Бубновский, некогда высокий и тучный, в золотом пенсне и с седыми усами с подусниками, опускался так быстро, как и бывшее его хозяйство, – худел и горбился, таял на глазах, постепенно утрачивая свой звучный голос, а затем и память. В последнее время частенько сидел на завалинке возле хаты, которую выделила ему с сыном община, и, насупив кустистые бело-голубые брови и шевеля губами, рассматривал свое сокровенное, завернутое в не очень чистый платок: какие-то медальончики, какие-то кольца, какие-то камеи. Это было все его богатство.
Как-то так случилось, что с приходом деникинцев старик не искал с ними контактов. Должно быть, понимал бывший царский служака, что песенка их спета и что судьба его полностью будет зависеть от благосклонности односельчан.
И с петлюровцами тоже не знался, так как глубоко презирал "мазеповцев" и "сепаратистов". Вот за это, очевидно, и получил он "хоромы", где жил некогда его старший скотник.
Виктор Сергеевич свое новое положение воспринимал с неистовым самобичеванием.
"Так вам и надо, гнусные рабовладельцы, это вам кара небесная и людская! – бранил он себя. – Это вам за унижения и муки народные, это вам воздаяние за Екатерину и Салтычиху!.."
Не знаю, искренним ли было покаяние или своеобразной гордыней. Но с каким прямо-таки садистским наслаждением ходил он теперь босиком с закатанными штанинами, высокий и похудевший, с острым носом и орлиными глазами! Как кряхтел он, налегая на рукояти плуга, с каким упоением материл тихую свою жену Нину Витольдовну, которой никак не давалась тяжелая крестьянская работа! Как рыдала бывшая институтка над впервые связанным ею снопом и хотела лишить себя жизни, когда раздражительный муж стегнул ее кнутом за неумелость в работе!
Я понимаю Нину Витольдовну. Даже непреклонно-демократическая жена моя Евфросиния Петровна жалела ее. Мы оба понимали отчаяние несчастной женщины и даже не осуждали за заметную синюю полосу на ее прекрасной белой шее, оставшуюся после того, как перепуганный Виктор вытащил жену из петли.
Она должна была жить. На этом сходились мнения не только наши с женой, но и самой Нины Витольдовны – после трезвых раздумий. Иначе где сможет приклонить голову ее дочь Катя – длинноногая девчушка в коротеньком платьице и с бантом в растрепанных волосенках?
Кате десятый год. Она в третьей группе трудовой школы. У нее нет гувернантки и учителя музыки. Она ходит вприпрыжку, научилась свистеть в два пальца. Очень обижается, когда ее дразнят "паненкой", сначала плачет, а потом бросается драться. Руки у нее длинные и худые, но движения удивительно плавные. Готовя какую-нибудь проказу, опускает глаза долу и закусывает нижнюю губу.
Виктор Сергеевич обожает Катю и боится ее. Наверно, считает себя виноватым перед ней за то, что не может нанять для нее гувернантку и учителя музыки. Так я думаю.
И должно быть, для того, чтобы снова и снова ранить свою гордыню, в порыве самоунижения готовит и ей судьбу жертвы – ждет, пока подрастут дети, чтобы выдать Катю за нашего Виталика. Вы слышите, дочь бывшего помещика, дворянина должна войти в семью сельского учителя!
Я понимаю его и снисходительно улыбаюсь. Да, Виктор Сергеевич, вам окажут честь – и вы породнитесь с народом!..
Нина Витольдовна воспринимает мужнину игру за чистую монету. Она действительно уважает нашу семью, искренне любит Виталика и, возможно, видит в нем добрую душу, которой, уходя из жизни, сможет передать свое самое драгоценное – дочь.
Вероятно, и Кате внушили мысль о необычном значении для нее личности Виталика, и она относится к нему с каким-то болезненным, игриво-деспотичным любопытством.
Но Виталику подчеркнутое внимание со стороны будущей дворянской тещи и ее бесцеремонной дочки явно не по вкусу. Иначе как паникой его состояние не назовешь. Что это – инстинкт свободолюбия, присущий каждому мужчине, или так называемый классовый инстинкт, или, может, осознание неминуемой влюбленности? Кто его знает? Но, заметив, как подпрыгивает голенастая девчушка в коротеньком расклешенном платьице перед своими родителями по тропинке, что ведет к нашему дому (а это бывает летом частенько, когда заканчивается косовица на лугах, а хлеба в поле еще не дозрели), Виталик убегает в бурьян и не отзывается до тех пор, пока окончательно не убедится, что будущей его супруги и след простыл. Беда мне с ним, да и только!..
И для того чтобы немного подразнить будущего свата, при первой же встрече, а она произойдет скоро, так как Виктор Сергеевич все время ищет разрядки своему самоунижению в нашей семье, я обязательно похвалюсь ему успехами сына. И может, намекну, что Виталику предстоит большое будущее: политического деятеля, например, – он хорошо успевает по обществоведению, или писателя – так хорошо декламирует Шевченко и Лермонтова, сам пишет стихи, ученого – у него светлый и пытливый ум. И я буду важничать перед ним не потому, что Катя учится хотя и пристойно, но не блестяще, а потому, что в этом проявится мой, так сказать, классовый эгоизм.
Ибо для того, чтобы мой сын вышел в люди, уже не нужно благоволение и покровительство либерального пана Бубновского.
Статский советник был в своем кругу большим оригиналом. Кроме винокурни и крахмально-паточного завода построил в селе церковь с усыпальницей для своей семьи, церковноприходскую школу и ремесленное училище. На собственные средства посылал лучших учеников в министерское двухклассное, а одного-двух способнейших – в гимназию, а то и в университет. Нашего односельчанина Булавенко Петра с большими трудностями устроил в юнкерское, и тот через несколько лет стал "вашим благородием". Очень способным проявил себя, чертов сын, войну начал штабс-капитаном, а в семнадцатом был уже подполковником. В чине полковника поддерживал гетмана Скоропадского, а потом куда-то за границу подался.
Так вот теперь, повторяю, сын мой свободен не только от зла господина Бубновского, но и от его доброты.
Однако плебейская моя классовая гордость не распространится на Катю. Дети – прежде всего дети. Я хочу уберечь ее от преемственности патологического самоуничижения ее отца, от фаталистической покорности Нины Витольдовны. Живи, дитя, счастливо и открыто, тебе будет легче, чем Павлику Титаренко, которому сынки богатеев уже вдолбили в голову пренебрежение к "пролетарии". И я искренне хочу видеть тебя своей дочкой, чистота твоя будет щитом от извечного зла твоего сословия. Оперяйся, чистый гусенок мой, синеглазая прыгунья, маленькая задира!..
Евфросиния Петровна и Ядзя тоже готовятся к торжественной встрече Виталика. Подоткнув подолы, месят глину, обмазывают стены, сметают паутину, белят хату. Может, наносят с Раставицы татарника, а то, чего доброго, пойдут к Софии Корчук и нарвут барвинка и любистка. А я терпеть не могу любисткового духа, он напоминает мне сладковато-тошнотворный трупный запах, въевшийся в память еще с фронта.
Но я подчинюсь (как всегда).
А попробуй-ка не подчиниться! Сведет свои брови-мечи Евфросиния Петровна – гроза надвигается! – а затем грянет гром. Даже ангелоподобная Ядзя, черти б ее забрали, и та пропоет что-нибудь по-польски шипящее, учтиво-въедливое. И покачает головой – какие, мол, эти мужчины придурковатые, хотя в глазах ее цвета недозрелых слив будет отражаться ангельская доброта.
Приедет Виталик и...
Вот, пожалуй, и все о гусятах.
А еще нужно было бы и про гусей.
Вспомнил вот о Софии Корчук, так надо и о ней написать.
Недели две назад ездила Евфросиния Петровна с нею в город, так София привезла оттуда больного красноармейца.
Подкормила его, поставила на ноги, и остался он у нее батраком, наймитом. Красивый парень – лет двадцати пяти или семи. Чернявый, лицо чистое, брови дугами, остренький прямой нос, улыбчивые глаза, речь неторопливая, но веселая. Небольшой, а, видать, сильный человечина.
Ой, сдается мне, быть здесь пожару – от соломы и дрова займутся!..
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, где автор рассказывает, как София Корчук
угощала председателя сельсовета
– Яринка, эй, кончай заплетаться да отнеси солдату поесть. На леваду, слышь!
Облизывая от усердия губы, девушка стягивала лентой кончик косы. Склонила голову, разглядывая свое изображение в зеркале, сбросила с плеч косынку, которой прикрывала воротник, когда причесывалась, вытрясла косынку и потом только сказала:
– Долго он там будет косить? Уже третий день.
София взглянула на дочь, хотела что-то сказать, но сдержалась. Она была согласна с дочерью, но наймита считала своей собственностью и, не воспринимая еще дочь ровней, как всякая хозяйка, не могла позволить хулить свою собственность.
– Не твое дело, – наконец пробурчала она. – Косит, ну и пускай косит. – Почувствовав неловкость перед дочкой за свою резкость, объяснила: – Он еще сил не набрался.
София завязала в платок четыре вареных яйца, краюху хлеба, кринку молока, подала дочери.
– Подождешь там немного, сойдет роса, переворошишь вчерашний укос.
Яринка вышла во двор, взяла в повети грабли с вилами и, обойдя Кудланя, что бросился к ней из будки поиграть, направилась через огород на леваду. Молодые подсолнечники толкали ее кулачками и, шурша, лизали предплечья шершавыми языками листьев. Яринка ежилась и была очень сердита. Перепрыгнула неширокую канаву, что отделяла огород от покоса, и стала осторожно окунать ноги в росистую прохладу едва заметной тропинки в высокой траве, белых и розово-синих цветов клевера, роскошных листьев весеннего чистяка. При этом она пристально смотрела под ноги – очень боялась ужей и гадюк. И обрадовалась, когда наконец за кустами увидела наймита – он стоял перед новой полосой и отдыхал, опершись на косовище.
Он тоже заметил Яринку, несколько раз махнул косой, но потом равнодушно отвернулся и даже сел на траву.
"Боится..." – подумала Яринка, и ей стало от этого приятно.
– Дя-а-адько! Пора завтракать!..
И, все еще остерегаясь змей, она запрыгала по покосу, но теперь с сознанием того, что ей, в случае чего, помогут.
– Ох!.. – запыхавшись, села рядом с ним. – Так боюся гужей!..
– Не "гужей", а ужей! – засмеялся он. – Да чего их бояться? За пазуху можно брать!
– Да что вы, дядько!..
– Зови меня Степаном.
– Так вы же старые!
– Ну и ну! – он снова засмеялся. – А если б мне было не двадцать шесть, а сорок?
– Ну, тогда – совсем дед! Если б я дожила до сорока, то, верно, уже в гробу спала, как дед Игнат.
– Сколько же тебе?
– А уже шишнадцать. – Она слегка задумалась, сгибая пальцы. – На покров. – Взглянула на него, увидела на груди под распахнутой рубахой густые черные волосы и смутилась. – Ну, ешьте вы! День не спит, а солнце не пасется.
– Вот ты какая хозя-а-айка! – покачал он головой, разворачивая узелок. – О, да тут на двоих молотильщиков!
– Как для хорошего, так и одному мало.
Он понял и улыбнулся.
– У тебя, часом, язык не из косы?
– Да вроде бы нет. – Яринка машинально потрогала кончик языка пальцем.
Степан с любопытством и немного лукаво поглядывал на девушку, очищал яйца и уминал их – дай боже!
– Поешь со мной, – произнес с полным ртом.
Яринка промолчала. Поджала губы.
– Если всем яйца есть... – И проглотила слюну.
Ей очень хотелось воспользоваться его приглашением, хотя дома смотреть на яйца не могла. И поскольку он больше не упрашивал ее, даже почувствовала неприязнь к этому коротко стриженному, бледному еще от болезни человеку. Сидела и дергалась – донимали комары. А ему – хоть бы что, видать, крови мало.
– Добрая твоя мать, – сказал он искренне. – Вот только у вас и отъелся.
– А дома что – жинка не давала есть?
– Голод у нас... У вас тоже в южных губерниях, но не так, как у нас... Жинки у меня нету. Была дивчина, ждала с войны, да не дождалась...
Он помрачнел и долго смотрел на кончик косы. Потом допил молоко, поднялся на ноги. Закусил губу и, все еще глядя в одну точку, размахнулся косовищем – вж-ж! – и трава как-то незаметно укладывалась кружком и тянулась за косой. И снова, притопывая, шагал вперед, протягивая за собой ярко-зеленые тропки, он врезался косой в стену травы, а Яринка невольно переступала за ним и даже не замечала комариных укусов, так приятно было ей смотреть на хорошую работу.
– Дядько! Дайте-ка мне!
Степан долго не оборачивался, а девушка шагала за ним следом, как настырный ребенок, протягивая руки в злом нетерпении.
Наконец Степан остановился.
– А у тебя хлопец есть?
– Фи! – застеснялась Яринка. – Скажете такое! На кой они мне сдались!
Лицо ее приняло такое негодующее выражение, глаза сузились, губы оттопырились от неподдельного отвращения, что Степан подумал – вот-вот заплачет.
– Дайте, говорю, косу! А то...
– А то что?
– Я... я... матери скажу, вот что! Ага!
– А я твоей матери не боюсь. Деникина не боялся, Пилсудского не боялся, да вдруг бабы забояться!..
– Брешете, мои мама – не баба! Они еще молодые! Им тридцать штыре рока.
– Тридцать четыре года, – поправил он. И подумал: "И вправду молодая!.." Вслух же сказал: – Ну, если я дядька, то твоя мамка – старая тетка!
– Вот и нет! Вот и нет! Вот и брешете!
– Дядьке нельзя так говорить!
– Дайте ко-о-су! – едва не заплакала Яринка.
Торжественно, как подарок, он протянул ей на обеих руках косовище.
– Становись так! Вот так держи. Носок косы не опускай низко. Переступай мелкими шажками. Да не гнись!
Стал поодаль, руки в бока.
– Ну, рраз!
Подавшись вперед всем телом, Яринка широко размахнулась косой, но до конца не довела – носок наполовину вонзился в жирную влажную землю. Девушка еле вытащила косу, от напряжения живот чуть ли не коснулся спины, продолговатые красивые глаза сверкнули злостью, губы вытянулись трубочкой – ну прямо-таки разгневанная царевна.
Степан залюбовался полудетской гибкой фигуркой Яринки, тоненькой, неоформившейся, глазами со стрельчатыми ресницами, высокими ногами с острыми коленками, обтянутыми юбкой, пока еще лишенными женской привлекательности, но сулящими большую, неисчерпаемую тайну.
"Ну и телочка! – подумал он. – В этих краях девчата созревают как дыньки... шестнадцать лет – и уже замужняя..." И еще вспомнил Нюрку, свою зазнобу, любимую девушку, которая умерла. Подумал о том, как она внешне была похожа на эту своенравную, выхоленную девчушку.
Срезав косой несколько кочек, Яринка совсем обессилела и, в изнеможении откинув голову, выдохнула с закрытыми глазами:
– Ай, нате! – Потом, вскинув голову, сказала самоуверенно: – Я все равно научусь! Ведь мама умеют.
– Ну, ну! – покровительственно улыбнулся Степан, принимая от нее косу.
Яринка притихла и отошла в сторонку.
Солнце припекало.
На сенокосе становилось душно, комары попрятались, вместо них начали жужжать маленькие радужные мухи, какие-то неистовые, неимоверно быстрые и глупые – с разгона ударялись о лицо и исчезали бесследно.
Яринка граблями ворошила скошенную траву и следила, чтобы не шмыгнула оттуда гадюка.
Словно спросонок куковала кукушка. Яринка считала свои недожитые годы, кукушка то и дело сбивала ее со счета – запиналась, перевирала.
Степан стал косить веселее, часто точил косу, она дзенькала и вжикала, а где-то вдали лениво и сонно вторило эхо.
Так работали они часа три. Перед обедом появилась София, в белой кофте, в новой клетчатой юбке и, это заметила Яринка, в новой сетчатой косынке. Мать бросила одобрительный взгляд на Яринку, медленно приблизилась к наймиту и, заложив руки за спину, пошла от нечего делать с ним рядом.
– Ну, так как оно, косарик? – вкрадчиво-приветливо спросила она. – Не притомились ли?
Степан неуверенно улыбнулся, но работу не прекращал.
– Может, передохнули б малость?
– Нужно гнать, пока трава не пересохла... – ответил он сдержанно.
– Да отдохните, верно говорю... Посидим немного вон там, в холодочке...
Степан вздохнул, искоса взглянул на нее и вышел с покоса.
София была очень широка в бедрах, но на удивление стройна. Степан откровенно осматривал ее, и женщина почувствовала это – шла будто для него, покачивалась в талии и локти держала у туловища, теребя краешек кофты. И он почувствовал, как хозяйка улыбается от его взгляда, знала, как смотрят на нее мужчины, и ей было приятно, что иначе смотреть на нее не могут.
Присела на ствол поваленной вербы и указала место рядом с собой. Ему пришлось сесть выше нее, и Степан опустился осторожно, опираясь обеими руками, чтобы не прислоняться к ней.
– Душно, – сказала София, посмотрела ему в лицо серыми влажными глазами и начала играть пуговицей кофты. Потом сложила небольшие пухлые руки на коленях. – А я, ей-ей, не могу на жаре быть. Что бы там ни говорили соседки, а не могу. В груди спирает и в голове шум...
– Вы ж еще молодые... пошли бы к фельдшеру. Может, лишняя кровь или еще что... Пиявки поставит...
– То-то и оно, что молодая... Ходила я... Обслушал меня, извиняйте, а потом такого наговорил... И сказать-то стыдно...
Замялась, ожидая, чтобы он ее стал расспрашивать, но Степан думал о чем-то своем.
– Вот и говорит он, фершал... – Женщина вздохнула, умолкла и опустила глаза. Потом спросила каким-то чужим голосом: – А скажите, иль вправду уже замирение?.. Иль, может, снова где начнут?
– Думаю, что на этом и конец... Еще в Туркестане гоняют басмачей, бандюг по-нашему, да там недолго, главную гидру порубали.
– Да, да, – закивала София. – Так вас уже на войну не заберут?
– Да, наверно, нет.
– Это хорошо. Конечно, хорошо. Докуда ж ружья носить? Распустят мужиков, земельку, слава богу, уже дали, так пускай люди работают. Немного вздохнут женщины, которые мужние, а которые вдовые? Думаете, мне сладко всю-то войну одна, только поспевай справляться, а годы сплывают, и сколько того счастья бог дал?
Она подвинулась немного, коснулась горячим бедром его руки.
– А вы не думайте, Степан... Работайте, сколько можете... Да поправляйтесь... Разве я вас в шею гоню? Мне лишь бы вы здоровые. Всех мужчин, которые на позиции были, жалею... Вот мой так и сложил голову... и никто его там не пожалел... никто... – София часто задышала и смахнула ресницами непрошеные слезы.
Достала из-за пояса платочек, приложила к носу.
– И как вы думаете – куда идти?
– И сам не знаю. Мне и четырех лет не было, как завез нас батька в степи заволжские – на переселение. Да так все там и остались в земле. Только брат с семьей. А жинка у него – ведьма. Так что нечего мне туда соваться. Видать, останусь на родной Украине.
– Это хорошо, ей-богу, хорошо. А тут вам дивчину или вдовушку хорошую найдем – душа отдохнет. Женщины у нас пышненькие, ласковые. И тут будет, и тут будет, – она коротко засмеялась. – Слышите? – И с грубоватой игривостью легонько толкнула его в плечо. – Такого чернобрового да молодого, и еще красивого, да чтоб не приворожили?.. А носик пряменький, остренький, и глаза как угли, и чуб вырастет, вижу, густой да красивый. Так чего вам бояться?.. Это нам, бабам, ой как нужно бояться! Чтобы не соблазнил!.. – И скосила серый ясный глаз: что-то он скажет.
– Пойду я, хозяйка, косить, – поднялся Степан. – И так из меня работник никчемный...
– Ну, покосите немного, покосите, а вскорости и обедать пойдем...
...За обедом София, налегая грудью на стол, сидела напротив Степана и угощала его как гостя.
Он даже вспотел от такого хлебосольства.
Но почему-то боялся поднять глаза – тревожило и пугало ее внимание. Удивило еще и то обстоятельство, что Яринка обедала не за столом, а пристроилась на подоконнике.
После того как побывал у родственников и увидал настоящую беду-голод, после того как и сам хлебнул через край того же горя, теперь, попав к Софии Корчук, Степан кусок хлеба ценил превыше всего. И его удивляла щедрость хозяйки, София – видел он – обычно была довольно-таки прижимистая.
"Да разве ж я заслужил, чтобы меня вот так кормить?.. Ну и чудеса!" хотелось сказать ему. Потому что ничего иного не могло прийти ему в голову – после голода, длительной болезни был он еще слишком слабый телом, чтобы влекло его к другим радостям, кроме наслаждения сытости.
Пообедав, протяжно фукнул, поблагодарил.
– А вы неверующий? – осторожно придвинулась София. – Конечно, кто как...
– Да как вам сказать...
Он пожал плечами, потом торопливо перекрестился куда-то на дверь. И самому стало стыдно за свою бесхарактерность, потому что с тех пор, как попал на войну, не осталось в его сердце ни капли веры.
"Да, – подумал, – чего только не сделаешь ради куска хлеба... Эх-ма!.."
А София осталась довольна. Хотя сама не была святошей, но то обстоятельство, что Степан с готовностью выполнил ее волю, значительно подняло его в ее глазах.
"Негордый парубок, послушный... ой, хорошо!.." – И от этой мысли так расчувствовалась, что решила завтра же перестирать его белье, а перемену дать из мужниного.
И она была так захвачена своей новой ролью благодетельницы, так умилена собственной добротой, что и не заметила, как Яринка диковато смотрит на работника, как переводит взгляд на нее, будто допытываясь, проверяя какие-то свои предположения, неясные тревоги, непонятный страх.
Хозяйка приготовила Степану узелок с полдником, и он с новым для себя чувством собственной важности повесил его на ручку косы и степенно, как хозяин, пошел на работу.
Косил почти до сумерек, и работа была ему в радость, потому что где-то в глубине сознания отметил, что в судьбе его произошла важная перемена. И домой пошел только после того, как из огорода окликнула Яринка. Он подумал, что девушка подождет его, и был разочарован тем, что она сразу же исчезла.
Во дворе он сбил косу, вытер тряпкой с намерением отбить ее утром пораньше.
София возилась у печи, а на лавке сидел какой-то широкоплечий сутуловатый человек, молодой еще, в солдатской фуражке, в защитного цвета одежде и обмотках.
– Вот оне, – кивнула София Степану, – к вам...
Степан сдержанно поздоровался.
Мужчина поднялся и, держась за клапан кармана гимнастерки, спросил строго:
– Ты давно тут?
Степан взглянул на Софию, пожал плечами:
– Если кого интересует, то уже с неделю. А что?
– А то, что я должен знать, кто по селу шатается. Документы имеешь?
Степан пожал плечами, но в ссору встревать не хотел.
– Хозяйка, поищите мои бумаги.
– Документы должны быть при тебе. А чтоб посторонним лицам... Или жинка она тебе?
Степану перехватило дыхание. Он шагнул к незнакомцу ближе.
– Кто ты такой, чтоб тут командовать?! И кого думаешь запугать? Ее, что ли?
– А вот возьму да тебя напугаю! Отправлю по этапу в волость!
– Попробуй!
– Да будет вам! – протянула София документы гостю.
– Отдайте сюда! – перехватил их Степан. – Пускай прежде доложит мне, кто он такой!
– Эва!
– Да вот так!
– Степа! – немного испуганно подалась к нему хозяйка. – Не горячитесь, Степа! Это ж председатель наши... Власть...
– А я думал, что сам военком! На! – со злостью сказал Степан, почти кидая председателю сложенный вчетверо листок.
Тот схватил его и шагнул к каганцу. Шевеля губами, вчитывался.
– Ку-ри-ло Сте-пан? Девяносто шестого? В чистую отставку?
– А там написано. Иль тебе еще и прочитать?
– Сам грамотный! А все ж таки это не по форме. – Он возвратил бумагу Степану. – Завтра же катай в уезд, пускай военком выпишет белый билет. А так ты для меня все одно что дезертир. Вот так. – Председатель перевел дух и тяжелым взглядом уставился Степану прямо в глаза. – А вы, – обратился к Софии, – прежде чем нанимать работника, должны были обратиться в Рабземлес*. Это в волости. А так – эксплуатация... одним словом, это вам не старый режим!
_______________
* Р а б з е м л е с – профсоюз батраков, рабочих совхозов и лесного хозяйства.
– Ну, товарищ Полищук... уж извиняйте вы нас... – сложила руки на груди София. – Да разве ж мы...
– Сказано!..
– Сполним, сполним, Ригор Власович! – согласно закивала София.
– Вы свое, а он свое.
– Как же, как же... Может, отужинаете с нами, Ригор Власович?
– Я при исполнении... – буркнул председатель и пожевал губами.
– Да он сыт своей печаткой, – подал голос Степан.
Председатель посмотрел на него тяжелым взглядом. Долго молчал.
– Чудак человек! – произнес наконец. – Вот ты красноармеец, а порядку знать не желаешь. Этак приблудится тут какой-нибудь недобитый живоглот, "зеленый" из лесу иль лазутчик какой, наделает тут шороху, а с кого спросят? Опять же с меня. Потому как я тут представитель советской власти на селе. И должон строгость держать. Диктатура, во!.. Ясно? И с тебя спрос одинаковый – у всех у нас равные права! Ну так ясно, спрашиваю?..
– Да ясно же! – недовольно, но тоном ниже, буркнул Степан.