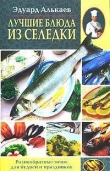Текст книги "Звезды и селедки (К ясным зорям - 1)"
Автор книги: Виктор Миняйло
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Святотатец! Ренегат! – хрипел старик и размахивал перед желтым носом костлявым пальцем. – Хам! Паяц!
Виктор Сергеевич в ответ театрально хохотал.
И "опрощался" шаг за шагом, и его принадлежность к народу все ощутимее чувствовала на себе Нина Витольдовна.
Образные русские выражения, которые окончательно вытеснили из его памяти изысканную французскую речь гувернеров, стали обычными в его устах, и Нина Витольдовна стонала от них, как от удара бича. И только Катино присутствие сдерживало опрощенного гусара...
Конечно, не все я слышал собственными ушами. Но хорошо знаю Виктора Сергеевича, чтобы безошибочно чувствовать не только сказанное, но и умалчиваемое.
И еще я знал нечто такое, чего Нина Витольдовна не могла, да в своем благородстве и не желала бы знать.
Очень деятельный и старательный на работе, Бубновский в последнее время стал душой землеустройства. Организовывал по селам земельные общины, возглавлял разные комиссии по землеустройству, составлял агрообоснования севооборотов и подружился с мужиками на зависть всем уездным начальникам.
Однако бросалось в глаза, что тянуло его не столько к культурным хозяевам, сколько к богатеньким. Они, по его суждению, были душой новых методов хозяйствования. В новую экономическую политику Виктор Сергеевич поверил полностью и безоговорочно.
– Большевики оказались до удивления практичными людьми, – говаривал он мне не раз.
– Но Ленин говорит о временности этого отступления, – возражал я. – А потом – "развернутое наступление по всему фронту"!
– Вот посмотрите! Крепкий мужик как захватит позиции!.. Тогда не до наступления! Зубами не оторвать мужика от земли. Тут вы, Иван Иванович, слишком легковерны.
И, убежденный в силе крепкого мужика, Виктор Сергеевич старался помогать ему закрепиться на своих позициях.
Вот, к примеру, случается иногда, что при землеустройстве остается чересполосная делянка десятин на пять-шесть. Как тут быть? Ломают головы и в сельсовете, и в комбеде, курят самосад до одури, потеют.
А агроном возьми да подай голос:
– Конечно, не мое это дело, товарищи, однако я сделал бы так. Посадил бы сюда работящего и смышленого середняка (упаси боже, чтоб кулака!) из бывших красноармейцев – ставь, мол, себе хату, рой колодец и хозяйствуй на здоровьице, советской власти на пользу.
– Да это ж... это ж... – сомневаются сельские предводители.
– Хе! – усмехнется Виктор Сергеевич. – А политику партии вы понимаете? А государственная власть в чьих руках? В ваших, товарищи, руках! А разве соввласти не нужен хлебец да добрый кус сала? А впрочем, решайте сами. Может, мысли спеца из бывших вам не подходят...
Спорят до хрипоты, а потом, глядишь и придут к этой же мысли.
И вот уже три или четыре хутора, а то и целый выселок, дворов на десять – пятнадцать, заселяются крепким мужиком, который, оперившись, сумеет за себя постоять. А сыны его, женившись на дочерях богатеев, и думать забудут, что отец их – бывший красноармеец, на хорошем счету у советской власти. Вот куда, как я думаю, гнет свою земельную линию уважаемый уездный агроном...
Но не верится мне, что большевиков так легко обвести вокруг пальца.
А пока Виктор Сергеевич, который и до революции не чурался порой мужицкого хлеба-соли, заходит к ним, заводит кумовство и родство, и чарку самогонки опрокинет, и ветчиной закусит, и при муже пышную хозяйку ущипнет за бок – и все считают его добрым и милым. И каждому, даже "комбедовцу", приятно посидеть за столом и на равных поразмышлять о хозяйственных делах не с кем-нибудь, а с сыном бывшего помещика пана Бубновского... Вот видите, он у меня чарку выпивает, в моей хате без шапки сидит и я его по-простецкому могу по плечу похлопать! Как равного! Вот что значит свобода!.. Не велика беда, если тайком и к жинке моей подкатится, только бы я не знал, ведь иначе придется ребра ему пересчитать, а это уже худо, потому как агроном – государственный человек, нужный для соввласти...
И поговаривают, что Виктор Сергеевич не прочь полакомиться чужой любовью, ибо после землеустройства, после бражных деньков в обществе землемера очень неохотно появляется в знакомых селах...
И подмывает меня открыть глаза Нине Витольдовне на эту сторону деятельности ее мужа, но знаю: обидится она насмерть – чистая душа, тихая голубица...
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, где автор рассказывает, как поздней осенью
расцветает первая девичья весна
Степан возвратился из больницы в конце ноября. Яринка сдержала слово – приехала за ним сама.
Степан, немного сгорбленный, а потому смотревший вперед исподлобья, вышел из ворот больницы уже во всем своем – потертая шинелька, серая буденовка со следами споротой матерчатой звездочки, синие галифе и башмаки с обмотками.
– Н-ну... приехала! – с облегчением сказал он и радостно протянул к ней руки.
Яринка застыдилась.
– Ой, садитесь! – засуетилась, поправляя сено в передке телеги.
Раньше, как помнила Яринка, Степан прямо прыгал на телегу боком, а теперь влезал осторожно, становясь на ось переднего колеса и держась рукой за люшню.
И, лишь взяв вожжи в руки, почувствовал себя увереннее, тряхнул плечами, сдвинул буденовку на затылок, подмигнул почему-то Яринке, сидящей рядом с туго обтянутой юбкой вокруг колен, и зачмокал на коней.
– Эх, – сказал он, наклонясь к девушке, ибо телега уже грохотала по мостовой, – и коней вы с матерью не чистили. – И легонько хлестнул подручного, на крупе пролегла серая черта – след от кнута.
– Ой, и не говорите! – махнула рукой Яринка. – Так ждали вас, так ждали!
Степан улыбнулся.
– Ну, как там мать?
– Журится, – осторожно сказала Яринка. – Ходят к ворожейке, все выпадает вам казенный дом.
– Ну, понятно! А где ж еще я мог быть?
– Вы смеетесь, а маме вас жалко! Вы не думайте – по ночам плачут!
Долго молчали.
– А знаете, дядечка, Титаренков трусили. Приехали в шинелях, искали, все дырки мышиные пересчитали. Потому – должно, кто-то выказал – в дупле старой вербы, что на меже с Сидаками, нашли обрез. Даже смазанный. Только чей он, этот обрез, так никто и не знает. Забрали Данька Котосмала, а он божится, что ни сном ни духом ничего не ведает. А старуха Титаренчиха косы на себе рвала да бежала за возом до самого мосточка. Ну, через три дня Данько вернулся, смеется, – ищите, говорит, ищите, может, еще и орудию найдете!..
Ну, Данька отец вызволил. Ездили Кузьма Дмитриевич аж в уезд со своими бумагами за выставку – грамотами то есть. Ну, хозяин справный, все у него хорошо родит, наймитов не держит, и ничего худого за ним не замечено. Ну и пошутил там. "Середняк я, говорит, товарищи, одна торба спереди, другая – сзаду, а сам я – посредине..." Посмеялись там, погрозили пальцем да и отпустили Данька... А я его не отпустила бы! – Яринка сердито свела брови у переносицы. – Он такой... Дейчат обижает, – добавила она, опустив глаза. – А от таких добра не жди...
– И я не пустил бы, – сказал Степан. – Не по душе он мне. Усмешечка у него такая... будто знает про тебя что-то паскудное, да не хочет сказать... А тот обрез, верно, его все же... Вот не из кулаков он, а сын кулацкий...
– Ой, не скажите так при матери!.. Уж очень он им люб... Говорят хозяйский сын и красивый, мол, кудрявый! Мол, любая девка за него не глядя выскочила б!
– Ну, матери твоей – все козы в золоте. А я куркулей не люблю, хоть убей. У нас в голодуху они столько лиха натворили! Ну, и они меня так же любят...
– А Сашко Безуглый, главный комбед, в партию подал, – перевела Яринка разговор. – Ездил в волость с Ригором. А жена его плачет, говорит: теперь бандиты и ее с детьми поубивают. Ведь и детей перекрестят в коммуну.
– Глупости!
– Ой, не скажите! Сашко велел жене образа выкинуть. Чуть не подрались. Так потом теща их помирила. "Отдай, говорит, доченька, образа мне на сохранение, а как перемена власти, так опять заберешь. А может, говорит, и просветит его господь".
– Ну нет! – засмеялся Степан. – Кто только в большевики записался, того, видать, только смерть спишет. Они такие!
– А Ригор хочет и Ивана Ивановича записать в партию. "Вы, говорит, нутром уже давно большевик". А Иван Иванович смеются. "Я, говорят, пока еще только наполовину..." А чего б они это так?
– В коммуну тоже надо уверовать. Но не всякий на это способный.
– А вы?
– Я?.. Должно стать, верую. Потому – за нее воевал. И еще воевать буду. Как бы там мать твоя на это ни смотрела.
Яринка опечалилась.
После долгого молчания сказала:
– А сегодня вечером у нас представление. Про казака Назара Стодолю. И я пошла бы...
– Ну так в чем же дело?
– Мать не пускают. Говорят – рано тебе еще на вулицу. А вон все, что вместе со мной штыри группы закончили, уже и на вечерницы ходят. Еще и больше того – в читальню. А там такое... такое читают!.. И про любовь.
Степан засмеялся.
– Ну, не горюй. Я поговорю с матерью. Непременно.
– Вот спасибо вам! А то уже девки смеются с меня. "Лягушонок да лягушонок!" А они – девки!.. Хе!
– Ну, ну. Ты уже и вправду взрослая!
Яринка бросила на него беглый взгляд – не смеется ли. Потом поджала губы:
– Как работать – так девка, а как на вулицу...
– Ну сказал же тебе!
До самого дома Яринка сидела на телеге гордая и напряженная от счастья – даже отчим признал ее взрослой.
Поэтому со взрослым равнодушием смотрела, как мать бесстыдно повисла у Степана на шее, как вся сотрясалась от счастливого плача.
– Ой, Степушка! Ой, родной мой!..
А он бережно гладил ее спину, время от времени бросая быстрые взгляды на падчерицу, которая смотрела на мать строго, но без осуждения. Степан даже подморгнул Яринке – гляди, мол, как оно на свете бывает...
– Ну вот... вот... – бормотал он. – А ты бранила... И такой, мол, и сякой...
– Ой, не говори так... Не надо... Да разве ж я со зла?.. Ведь не чужой ты мне! Душой за тебя болею...
Яринка немного постояла и пошла распрягать лошадей, а мать со Степаном долго сидела на завалинке и что-то говорила и говорила слабым, виноватым и немного скрипучим от слез голосом. Потом позвала Яринку, отсчитала ей пятаками сорок копеек.
– Возьми, доченька, полбутылки. Да не мешкай.
Хотя и стыдно было идти Яринке за горилкой, но согласилась ради отчима.
Принесла посудину под полою кофтенки, небрежно стукнула о стол, подозрительно глянула на мать и Степана.
Мать собирала на стол полдник.
– Садись и ты, Яринка, – сказал Степан и поставил на стол три граненых стопки. Налил себе и жене полные, Яринке – половинку. – Пускай! властным движением остановил Софию, собравшуюся было возразить.
Яринка из любопытства – она уже считала себя вполне взрослой наклонилась к столу и рассматривала, как серебрится поверхность жидкости в чарке.
– За здоровье! – выше головы подняла стопку София.
– Будем! – подтвердил Степан и чокнулся с Яринкой.
Девушка покраснела от гордости – первая ее чарка! – попробовала, сморщилась, закашлялась и вытерла рот двумя пальцами.
– А, чтобы ты сказилась! – сказала не раз слышанное от взрослых женщин.
Мать с отчимом засмеялись и налили по второй.
– Ну, Степушка, это уже за то, чтоб тебя больше не брали в солдаты!
Степан посмотрел на жену строго и пристально.
– Нет уж, София, что там ни говори, а буду воевать за советскую власть, пока жив! – И, чтобы не оставить в ее душе сомнений, резко бросил содержимое чарки в рот. София болезненно сморщилась, а он, переводя разговор, сказал твердо: – Ну вот что, мать, Яринка у нас уже взрослая, начиная с сегодня будет ходить на улицу!
– Ой?!
– Да, так! – Степан, может впервые, тяжелым и властным взглядом хозяина посмотрел ей в глаза.
София приуныла. И не потому, что дочка выходила из-под ее власти, а оттого, что впервые почувствовала над собой подлинную мужскую власть.
И, прищуренными глазами взглянув на распылавшуюся от горделивого стыда дочку, на своего мужа, который не спускал с Яринки взгляда, не понятого ею до конца, подумала, что-то прикинула в уме и сказала тихо:
– Ну что ж... – И сильно прикусила сустав пальца. И размышляла о том, насколько ж мужчины глупы. Представляет, будто творит свою волю, а все это заранее уже обдумано и решено – в жениной мудрой голове...
Не успело и смеркнуться, как девушка, схватив в охапку всю свою праздничную одежду, побежала к Гринчишиной Марии собираться на вечер. И ее совсем не встревожило, что Мария, которая и так была не доброго нрава, а после того, как Теофана забрали в армию, совсем озлилась, встретила подругу почти враждебно.
– И чего это ты? – прогундосила она. – Сияешь, как новая копейка!
– Ой, Марушка!.. – свободной рукой обняла ее за талию Яринка и закружила вокруг себя. – А я сегодня на вулицу иду!
Мария сморщилась, будто собиралась чихнуть, и улыбнулась одними глазами.
– Гляди ж ты, какое счастье!.. А у меня не смотрели б глаза на эту вулицу! Одни только девки. И откуда их, у черта, столько набралось! А путных парней днем с огнем не сыщешь, как вымерли все...
Яринка сказала:
– Потому что Фана нету.
Мария взглянула на нее долгим взглядом, губы у нее дрогнули, но она ничего не ответила.
Раскладывая на сундуке свои одежки и разглядывая их на свет, не побила ли моль, Яринка спросила:
– А правду брешут, что Фан тебе вроде что-то оставил? – О чем шла речь, Яринка понятия не имела, но на селе судачили об этом, и ей страх как хотелось узнать, что же именно оставил Марии парубок.
– Если бы оставил то, что имеет, так пускай бы катился ко всем чертям! – так ответила ей Мария. – Ну, давай уж помогу тебе одеться.
Она долго вертела Яринку туда-сюда и, наконец, велела накинуть белый кашемировый платок с красными розами. Потом выпустила из-под платка тяжелые Яринкины кудри, поплевала на пальцы и пригладила ей брови. Девушка смотрела на подругу выжидательно-счастливыми, горячими, блестящими глазами, взгляд которых даже у грубой по натуре Марии вызвал щемящую боль в сердце, беспокойство, тихое раздражение и зависть.
– Ух ты! – сказала Мария, тяжело переводя дыхание. – Сомлеют, нехристи!
Яринка знала, что сомлеть должны парни, но почему-то у нее не было намерения отливать их водой.
Потом тихая и скованная – боялась лишним движением нарушить свое расправленное и одернутое со всех сторон великолепие – ждала, пока оденется Мария.
Та недолго задержала подругу: с отъездом Теофана она утратила остатки своей прежней опрятности.
– Ну, пошли уже к монопольке.
Представление должно было состояться в хате-читальне, собственно, в длинной хате, что через сени, в которой прежде употребляли "распивочно".
Когда подруги подошли к читальне, там уже было многолюдно и шумно.
Девчата ходили чинными стайками в праздничных нарядах, почти все в "сапожках" и "полсапожках" – ботинках с длинными, чуть ли не по колени, голенищами, а некоторые даже в блестящих резиновых калошах. Чтобы привлечь к себе внимание, владелицы этой немыслимой роскоши умудрялись то и дело потереть ногой об ногу, и калоши издавали тоненький писк. Он воспринимался как скрипичный голос.
За девчатами двигались парубки в новых свитках, подпоясанных зелеными и красными кушаками, отороченные концы их свисали сбоку до самых коленей. Большинство парубков были еще в картузах, а некоторые уже повыпускали смоляные чубы из-под меховых шапок, которые пахли прелью и табаком.
К ночи подмерзало. Земля отзывалась эхом под тяжелыми сапогами парубков. Парубки расхаживали вперевалку, и казалось, не они покачиваются, а земля под ними. Лениво кидали в рот жареные семечки, так же лениво сплевывали шелуху – пфф! – лениво задирали девок.
– Глянь, глянь, Арине мыши дырочку прогрызли!
– Где? На спине?
Оглядывались девчата возмущенно, пренебрежительно.
– Ф-фу! Откуда это тянет?
– Да из Даньковой головы.
– Паленым котом засмердило!
– Га-га-га!
– Это тебе – на спине!
– Не на то подумала! Ой, девчата, какие у вас черные мысли!
– Эй, девки, держитесь, сейчас ветер подует!
– А мы не боимся!
– Нам теперь не страшно!
– Гляди ж ты! Какие девки теперь! Как наденет панские штаны, так не боится и сатаны!
– А погляди, погляди, во-он с Марушкой Гринчишиной и Сопиина Яринка!
– Заворачивай, хлопцы, соб!*
_______________
* С о б – возглас, которым направляют лошадей и быков налево.
– Скорей, скорей!
Поздно. Мария с Яринкой вошли на крыльцо, смешались с гурьбой желающих попасть на представление.
Подругам посчастливилось протиснуться в помещение и занять удобное место возле стены. Яринка боялась пошевельнуться, чтобы не выпачкать праздничную одежду белой глиной.
В хате было душно и очень светло. Четыре или пять керосиновых ламп "молния" стояло на полочках возле стен, выплескивая на потолок круглые светлые полыньи.
На длинных скамьях тесно умостились чинные дядьки да тетки. Мужчины привычно держали между пальцев козьи ножки, не решаясь, однако, курить, на стене висел плакат "Здесь курят только...". А под этими словами был намалевана розовая хрюшка с закрученным хвостиком и папироской в зубах. И еще висел плакат: "Не плюй на пол", но парубки обезвредили его, дописав углем: "...а плюнул, так разотри".
В помещении стоит гул, как в улье. Праздник чувствовался не только в том, что, как всегда в свободное время, лузгали семечки, не только в разговорах о прошедшей жатве и о нынешних добрых всходах, но и в радостном ожидании чуда, которое вот-вот произойдет на глазах у всех. Ждали его с насмешливым недоверием, свойственным всем сельчанам, готовым смеяться в самых трагических местах представления, бросать въедливые реплики сегодняшним чудотворцам, но это было от сильного нетерпения, непривычки к чуду.
Точно так же тосковала о чуде и Яринка. Широко раскрытыми восторженными глазами обводила она хату, узнавала всех и не узнавала. Знакомые лица отсвечивали удивительным светом праздника.
И все узнавали и не узнавали Яринку. Да, это конечно же Софиина дочка, та самая крикливая и острая на язык девчушка, которая хлопала юбкой, заворачивая телят – "а пропал бы ты, пакостный! Сожрал бы тебя волк!", – с детским нежным личиком и выпуклыми, словно приклеенными к лицу губами, с удивленно-радостным укоризненным взглядом – "ой, тетушка, что вы такое говорите!..", но это была и другая Яринка – только что появившийся бутон розы в своих сочных лепестках, с укрытой в нарядной одежде волшебной силой девичества, с порывистыми движениями еще худеньких рук, которые вскоре округлятся, со стройными ногами, которые пополнеют, с острыми персями, которые станут более пышными, с тонким румянцем на щеках, который погустеет.
На одной из скамей Яринка увидела мать, которая сидела с отчимом. Девушка с опаской посмотрела на них. Ей было неловко от взгляда Степана сама не знала почему. Матери она ответила немного горделивым взглядом торжествующей молодости – где-то в глубине души чувствовала, что та завидует ей.
Через толпу людей, что стояли у стены, проталкивались парубки. Среди них Яринка заметила и Данька Котосмала.
Лихо заломленная серая шапка каким-то чудом держалась на его затылке. Горохово-зеленоватыми ястребиными глазами парубок нажал на Яринку с такой силой, что у нее дыхание перехватило. И все же девушка пренебрежительно передернула губами, едва заметная гримаска пробежала по ее румяному личику.
Данько пробрался к ней и Марии, повел плечами, подбоченился.
Яринка фыркнула и крепче прижалась к Марусиному локтю. Но Данько обезоружил ее неприязнь:
– Здоровы будьте, девки!
Девушка вспыхнула: вот – и этот баламут признал ее взрослой. Она посмотрела ему в глаза сердито, с подозрением. А он хотя и улыбался, прищурившись, но не было в его улыбке открытой издевки, и Яринка резким своим голоском сказала дерзко:
– Ты только сегодня меня заприметил? Все котов смалил?
Он засмеялся, расширяя свой хищный сбитый набок нос.
– А может, я к Марушке, га? Не к тебе. Поняла?
– Цыц, попов Гриц! – молвила Мария густым голосом.
Данько поиграл бровями и дохнул на Яринку горячо:
– А тебя я, может, впервые и увидал. Поняла?
– Ну и как, не ослеп?
Данько стал к Марии боком и процедил сквозь зубы тихо, с угрозой:
– На выходе буду ждать. Поняла? Что-то скажу.
У девушки тенькнула какая-то струна. Она не знала, то ли ей почудилось, то ли и вправду Данько брякнул это.
– Что такое, что такое? – пробормотала она, растерянно оглядываясь на Марию, но та вроде бы равнодушно отвернулась от нее.
А Данько уже снова расталкивал людей, пробираясь к выходу. Только раз обернулся к ней, заледенив ее взглядом.
– Что он сказал? Что сказал? – почти в отчаянии допытывалась Яринка.
Мария только улыбнулась мрачно.
– Вот сейчас Ригор чего-то скажет, – подтолкнула она Яринку локтем.
На возвышении, служившем сценой, придерживая сзади руками занавес, сшитый из клетчатых покрывал, стоял Ригор Власович и молча смотрел на людей.
Шум постепенно стихал. Лишь одинокие голоса вырывались еще кое-где, потом и они гасли, как свечки на ветру.
– А ну-ка, кто там болтает, хватит вам!..
Откуда-то от двери послышался голос Данька:
– Живоглоты.
Полищук и бровью не повел.
– Так вот, – начал он. – Граждане и товарищи! Сейчас вы увидите жалостную комедию про нашего человека, казака Назара Стодолю, который принял много кривды от разных контров. От живоглотов, как тут выскочил, точно голый из крапивы, малый Титаренко, которого у нас народ справедливо кличет Котосмалом.
– Ха-ха-ха! – захохотала Яринка злорадно, и все подхватили смех.
Ригор Власович переждал, пока зал утихомирится, и продолжил:
– У нас полная свобода. Где нужно – смейтесь, а где нужно – то и плачьте. Только чтоб не перебивали, ибо то будет уже анархия. А представление это сделал наш завшколой Иван Иванович в сопровождении учительниц. И еще парубков и девчат, которых я сегодня приветствую от имени советской власти и комбеда.
Ригор Власович захлопал в ладоши, а за ним и все, кто сидел и стоял в зале.
Повернув голову к занавесу, Ригор Власович напутствовал актеров:
– Провожаю вас, товарищи, в последний путь и желаю успеха на большой дороге! – и соскочил с возвышения.
Люди снова захлопали в ладони и затопали ногами.
Зазвенел школьный звонок.
Восторгу зрителей не было границ. Яринка тоже топала ногами, хлопала в ладони перед самым своим лицом и кричала:
– Скорей! Скорей! Заснули!
Искоса поглядывала на поповскую наймитку, что стояла неподалеку, держась обеими руками за живот под фартуком, как всегда неряшливую и растрепанную.
"Наверно, матушка послала проведать, самой сюда идти негоже".
И, глядя на ее сонное лицо, еще громче кричала:
– Засну-у-ули! Со-о-они!
Ей в ответ снова зазвенел звонок. И спорил он с Яринкой еще раза четыре.
Кто-то на сцене осторожно раздвигал занавес и подсматривал одним глазом. За занавесом топали и бегали, передвигали что-то тяжелое, наконец все затихло, а тогда и люди начали затихать.
Но вот несколько парубков взяли лампы со стен и отнесли их на сцену.
Девчата в толпе стали повизгивать, очевидно, их к этому понуждали парубки.
И наконец невидимые руки раздвинули занавес, и все так и ахнули. Оттого, что впервые попали в чужую хату и видели ее хозяев, а те, как в наваждении, об этом и не догадывались. А и вправду, любо было сидеть в темноте, подсматривать и подслушивать чужую жизнь без риска получить ухватом по башке.
Поначалу Яринка старалась угадать, кто же переоделся Стехой и Галей, а когда узнала, то не могла поверить, что это свои сельские девчата. Узнала и Ивана Ивановича – по искалеченной руке, но это был уже не Иван Иванович, а казацкий сотник Хома Кичатый. И очень досадно было Яринке, что Иван Иванович – а мы ему так верили! – стал таким бессовестным.
Еще бы – родную дочь хочет одурачить, обманом выдать за старого полковника. Все деньги у него на уме! А нет на тебя погибели!.. И хотелось девушке крикнуть ему: "Иван Иванович, то есть нет – Хома, вы же нас учили не обманывать, а сами!.." Но и до сих пор побаивалась если не своего бывшего учителя, то его жены Евфросинии Петровны. Еще матери нажалуется...
Ах, как досадовала Яринка, когда приехали к сотнику сваты от того чертового деда-полковника, а Галя и понятия не имеет, что они не от ее любимого!
А когда стала бедняжка перевязывать сватов рушниками, Яринка не выдержала и со слезами на глазах крикнула:
– И что ты, дурная, делаешь?!
Но вот появился кстати Назар Стодоля со своим побратимом Гнатом, и девушка даже кулаком о кулак стукнула – ага-а, будет вам свадьба!..
К учительнице Евфросинии Петровне прониклась еще большим уважением, ведь она хозяйка на вечерницах, – и хотя была ни то ни се, но бедную Галю не обижала.
И так испугалась Яринка за Назара, когда разъяренный сотник велел своей дворне бросить его связанного волкам, что, приложив ладошки ко рту, тихо всхлипнула, а затем и заплакала в голос.
Мария толкнула ее в бок:
– Цыц, дурная! Вон уже смеются...
На это девушка ответила:
– Коль дурные, вот и смеются! А мне жалко...
Она долго не могла успокоиться, вытирала краешком платка слезы, и ее уже совсем не радовало, что правда взяла верх, а Иван Иванович стоит на коленках перед оскорбленным Назаром. И запоздалого раскаяния сотника девушка не слушала.
Галя и Назар соединили сердца и руки, закрылся занавес, потом кто-то кричал со сцены, что представление закончилось, но Яринка – все еще ждала чего-то – ей мало было самоосуждения сотника. Молодость жестока – Яринка ждала, чтобы ему еще отсекли голову. Но все обошлось без меча и крови. Мария потянула Яринку к выходу, и только тогда девушка опомнилась – ведь не только Галиному счастью грозила опасность, но и ее собственному спокойствию. Вот сейчас преградит ей дорогу Данько Котосмал и глянет в душу зеленовато-гороховыми глазами, и станет ей дурно, будто выпила маняще-ядовитого зелья.
Она очень боялась встречи с Данилой и хотела ее, чтобы показать этому баламуту – она его не боится. Он схватит ее за рукав, она выдернет руку и глянет ему в глаза, и Данько поймет... а что поймет?.. И, чтобы спастись от неизвестности, Яринка потянула Марию к своей матери и отчиму, которые медленно продвигались к выходу. Достигнув цели, девушка схватила отчима за локоть, и в ее взгляде были и страх, и желание, чтобы Степан сказал ей: а домой иди сама, ты уже взрослая...
Но Степан понял ее страх как-то так, что ей стало еще хуже. Он прижал ее локоть к своему боку, и девушка почувствовала, как сильно бьется его сердце, и ее сердце сразу упало, и она, до этого времени правдивая и честная, как приближенный к богу ангел, впервые не осмелилась взглянуть матери в глаза.
Спускаясь с крыльца хаты-читальни, Яринка чуть было не свалилась со ступенек – всем телом повисла на локте отчима.
И в это время, как оборотень, выскочил перед ней Данько, пробежал несколько шагов перед ними, обернулся и, когда мать поравнялась с ним, сказал дерзко:
– Тетка Сопия, а тетка Сопия!.. А какое полное право вы имеете не пускать вашу девку на улицу?
Яринка едва чувств не лишилась.
– А кто это ее там ждет? – произнесла София с легкой издевкой.
– Послушай-ка... – потянулся к парню Степан.
Но София перебила его:
– Наша улица ведет до хаты.
Данько коротко засмеялся.
– Конечно, тетка! У нашего отца разумные сыны. Так что понял!
– Да ничего ты не понял! – Степана одолевало нетерпение. – Пожалуй, я сам тебе объясню!
– Не надобно, – сказал Данько. – Пускай тетка Сопия. Они ближе.
Степан смолчал. Молчала и София. Степан наливался гневом.
– Слыхала!..
– Слыхала! – с вызовом ответила та.
Мария Гринчишина засмеялась, а Данько не без язвительности поклонился Степану:
– Так что наше вам! Поняли? – И к Яринке с веселым нахальством: – Ну, нашей улицы тебе не миновать. Поняла?..
– Иди, иди! – София ему.
– Убирайся! – чуть не плача добавила и Яринка.
Домой пришли молчаливые. О представлении никто и словом не обмолвился.
Когда улеглись спать, София сказала как бы про себя:
– Ну, Титаренко хозяин!
Степан ответил скрипуче, как тяжесть поднимал:
– А мы ему вот обрубим хвост!
София фыркнула:
– Смотрите, как бы вам головы не срубили! Ваши права еще на воде вилами писаны.
– А вот и нет! На камне высекли свое право! На панских спинах. Еще и на куркульских запишем!
София резко отвернулась от него, даже топчан заскрипел. Молчала долго-долго. Потом сказала зло:
– На покров Яринке шестнадцать миновало.
– К чему бы это ты?
– А к тому, чтобы ты знал!
– Ну так что?
– Ты думаешь, я дура? Или ослепла совсем?
Степан весь покрылся потом.
София злорадно засмеялась:
– Чего умолк? Может, что скажешь?
– На глупые речи лучше промолчать. Только не знаю, чего ты от меня хочешь.
– А хочу, чтобы ты знал: есть у тебя жинка богоданная, повенчанная, а не лахудра какая. И ее дочка – то и твоя дочка! Слышь – дочка! И что есть на свете грех! А чтобы у тебя глаз не косил, так почаще замечай жинку свою, да целуй ее, да ласкай!
Степан сейчас ненавидел ее до того, что грудь у сердца словно обручем стальным стянуло. Ему хотелось встать и постелить себе на лавке. Но потом сообразил, что София только посмеется над ним. И он, постепенно овладев своим дыханием, притворился, что засыпает.
На следующий день София ни словом не напомнила о ночном разговоре. Наоборот, была ласкова с мужем, ухаживала за ним, как в первые дни после женитьбы.
И только повечерело, сказала Яринке, которая с большим беспокойством расчесывала кудель:
– Ну так что же ты? Иди уж к девкам на улицу. – И немного помолчала. – Отец тебе что сказал?
И хотя не взглянула на Степана, он понял, какой страшный удар она нанесла ему нарочно, обдуманно, жестоко и праведно.
И Яринка это, должно быть, тоже поняла – вскинула взгляд на него со страхом, с немым вопросом, на который, чувствовала, никогда не дождется ответа.
И Степану ничего не оставалось, как тихим голосом сказать прощальное – на всю жизнь:
– Иди... доченька...
И не сказать, а только подумать: "Цветик мой лазоревый!"
Но Яринка была счастливее его – своим неведением, целомудрием своим. И еще – счастливее была своей юностью, которая быстро все забывает, которая всегда во всем имеет большой выбор.
И с какой-то непонятной для нее щемящей болью в сердце, и радостью раскованной молодости, и благодарностью к матери она ответила так же тихо и покорно:
– Ладно, тата.
ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой Иван Иванович неуместно начинает рассказ
о Манькином дитяти, затем ведет речь про своих школяров, про счастье
питекантропа и про бедствия своей невесточки Кати Бубновской
Долго сидел на низенькой скамеечке, топил печку остатками гречневой соломы. Я очень люблю смотреть на огонь. Это моя родная стихия, мое пристрастие, мечта о всемирном тепле, может, моя боязнь холода старости. Пепел от гречанки белый, как добрая соль, так и хочется его лизнуть. И вид его тоже приятный. Одним словом, хорошо и уютно.
И сейчас нет мне никакого дела до того, что приглашенная на ночь телочка, родная дочка коровы Маньки, которую мы недели две назад смогли купить, что эта самая белолобая телочка, насторожив уши, потихоньку орошает солому, постеленную для нее на полу, а теперь вот принялась жевать хозяйкин фартук. Я совсем не хочу обижать это милое создание, ведь оно, как сказано, Манькино дитя. А нашу Маньку мы, как индусы, обожаем. Ну и жуй себе потихоньку, дитя божественной Маньки, если тебе вкусно. Ведь позволяем мы людям жевать слова, даже речи. А мне так приятно смотреть на твою глупую мордочку с пушистыми ресницами, что и сам чего-нибудь пожевал бы. Но нет хозяйки. Ушла моя Евфросиния Петровна с Ядзей куда-то на оденки*. Сельские женщины берут свою кудель, прядут, а мои женщины – дамы высшего света – вяжут носки. Вот-вот ляжет снег.