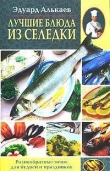Текст книги "Звезды и селедки (К ясным зорям - 1)"
Автор книги: Виктор Миняйло
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Миняйло Виктор Александрович
Звезды и селедки (К ясным зорям – 1)
Виктор Александрович МИНЯЙЛО
К ЯСНЫМ ЗОРЯМ
Дилогия
Перевод с украинского Е. Цветкова
Художник А. Д. Чеснов
ЗВЕЗДЫ И СЕЛЕДКИ,
или Книга Добра и Зла,
которую автор написал
вместе с покойным ныне учителем
Иваном Ивановичем Лановенко
Известный украинский писатель Виктор Александрович Миняйло знаком широкому кругу читателей по сборникам юмористических повестей и рассказов, а также романам о партизанском движении на Украине в годы Великой Отечественной войны – "Посланец к живым" и "Кровь моего сына", вышедшим в издательстве "Советский писатель".
Тема дилогии "К ясным зорям" – становление советской власти и социальные преобразования в украинской деревне 20-х годов. Книга рассказывает о первых комсомольцах, о работниках сельсовета, о крестьянах – бывших красноармейцах, ведущих борьбу с кулаками и их пособниками, а также с пережитками прошлого.
________________________________________________________________
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Часть первая. Тихая пристань
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Часть вторая. Суд в душах наших
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
________________________________________________________________
Ч А С Т Ь П Е Р В А Я
ТИХАЯ ПРИСТАНЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯ, из которой читатель узнает о Иване Ивановиче
Лановенко, его законной супруге Евфросинии Петровне, беженке Ядзе и
о других не менее важных персонажах
Сижу за столом, помешиваю ученическим пером "86" в бузиновых чернилах, ломаю голову – с чего начать. Моя комнатка-боковушка крошечная, выбелена густо подсиненной глиной. Деревянная кровать под клетчатым одеялом, стол, табуретка, которую я сам смастерил, да шаткая этажерка из лозы и фанеры – вот и вся мебель. А мне уютно. Сверчок под печью выживает меня из хаты, но никак не выживет. Вкусно пахнет горелым маслом от черепка, приспособленного под каганец.
В хате спят мои домашние: законная супруга Евфросиния Петровна – на лежанке, а на лавке – беженка Ядзя, прибилась к нам из Польши, когда начал в войну наступать германец. Молодица она или дивчина – одному богу ведомо. А вот Евфросиния Петровна думает, что мне очень хочется об этом дознаться. И выгнала меня в боковушку, потому что Ядзя спит, роскошно раскинувшись, и юбчонка ее подтягивается вон ведь куда...
Должен вам сказать, до чего же хороша собой эта Ядзя: косы – как спелая пшеница, глаза – как незрелые сливы, зеленоватые, с синим отливом, румяное лицо немного продолговато, а черты его – как у Марии Магдалины, но не в то время, когда святая была веселой и щедрой девицей, а позже – когда сподобилась благодати божьей. Служила Ядзя, как говорит она, помощницей экономки у самого пана ксендза. И такая святость в лице, что и не скажешь – то ли ей под двадцать, то ли под сорок...
Поначалу меня так и подмывало ущипнуть ее за крутое бедро, но сдерживала ее благостность, – а ну как, думаю, и вторая рука начнет усыхать (одну мне немец на войне прострелил). Состояние у Ядзи невелико котомочка, а в ней перемена белья да чулки полосатые шерстяные, и подо всем этим – образ божьей матери.
А Евфросиния Петровна моя, хотя и не святая, но уж очень сурова. До сих пор не пойму – то ли она при мне, то ли я при ней. Глаза у Евфросинии Петровны серые, строгие, брови ровные, как стрелы, лоб широкий, а на нем морщинки частые, как у Николы-угодника. Шея гордая, как у римского центуриона, указательный палец прямой и длинный. Когда Евфросиния Петровна помогает им себе в разговоре, то кажется, что спокойно и неумолимо расстреливает шеренги врагов. Плечи у нее широкие и округлые – казачка, в талии, даром что пожилая, тонка, а ниже – чисто туз пик. Может, из-за своей пышности и непреклонности она очень редко зябнет. Только когда-никогда спокойно так себе скажет: "А иди-ка, Ваня, ко мне, что-то вроде холодно". Когда же напрашиваюсь я, то лишь буркнет сердито: "Сегодня я тепло укрылась!"
И поскольку сама она такая морозоустойчивая, то ей и в голову не придет, что я могу мерзнуть и, упаси господи, чтобы захотелось мне погреться у чужого очага!
Такая она, подруга моей уже не молодой жизни, любимая моя жена и повелительница, пусть святится имя ее, строгая, но справедливая Евфросиния Петровна!
И не осуждаю ее даже тогда, когда потихоньку плачу скупыми слезами. Да и другим мужчинам постоянно внушаю мысль, что жена – не враг, а скорее – друг человека.
Но это, конечно, в шутку, а случись беда – из огня на руках вынесу, как святыню! Верьте мне!..
Вот так я почитаю свою жену, ибо и сын наш Виталий родился, по-моему, не благодаря моей творческой энергии и настойчивости, а в результате проявления мудрости Евфросинии Петровны.
Если же и пришлось мне быть на войне артиллерийским прапорщиком, то не я воевал, а Евфросиния Петровна, которая незримо, но ощутимо руководила всеми моими поступками – мне позволяла делать расчеты, а сама непреклонно подавала команду: "Огонь!"
И жить она тоже позволяет мне, а как время придет, то и помру я с ее разрешения. Вот только, по правде говоря, не знаю, долго ли колебаться будет, прежде чем сказать: "Ну иди уж, Ваня, иди!.."
Вот и сижу я над бумагами (Евфросиния Петровна не знает, что я здесь описываю), сижу и слушаю, как спят мои домашние. Тоненькой свирелью наигрывает святые хоралы Ядзя, Евфросиния ж Петровна изредка пренебрежительно пыхает на эту Ядзину веру в существование непогрешимой силы. Это должно бы так быть. Потому что на самом деле ничего этого вовсе не слышно за густым храпением моих невольных гостей – Тадея Балана да Тилимона Прищепы. Спят они на полу вповалку, хотя жена постелила им кожухи на лавках. Тадей, оскорбленный своим положением почти заложника, со злым смирением скрипит: "Христос терпел и нам велел", а более учтивый и просвещенный Тилимон поясняет так: "И опять же онучи!.."
Так вот и храпят они на такой же самой соломе, на какой и наймиты их спят. Это тебе не помещики, которые роскошествовали на перинах, а батраков содержали в вонючих казармах. Крепкие хозяева, они и едят вместе с работниками тот же кулеш, приправленный прогорклым салом. И косят вместе с ними, и спят по четыре часа в сутки, – они же хозяева. Но и батрак, злыдень этакий, ни у Тадея, ни у Тилимона тоже не поспит!..
Официально зовут этих мужиков обходчиками. А на самом деле – и они хорошо это знают – являются ответчиками. Вот если бандиты Шкарбаненко снесут мне голову, то и им беды не миновать. Так и сказал им председатель сельсовета товарищ Полищук – мимоходом, – некогда ему разводить тары-бары с "живоглотами", с контрою разной.
А товарища Полищука зажиточные хозяева побаиваются. Вот он каков: широкоплечий да кряжистый, на большой набыченной голове, с густой рыжеватой гривой, защитного цвета фуражка с красной звездой, застиранная гимнастерка под пояс, обвисшие галифе, тупоносые ботинки с обмотками. Лицо с коротким широким носом, под негустыми бровями острые льдинки глаз. Полюбит ли его какая-нибудь дивчина?.. Ну, да это ее дело. А хозяевам с лица воду не пить... Прошила панская пуля Полищуку легкое на белопольском, не то, пожалуй, вместе с другими украинскими парубками, которых послали в далекий знойный Туркестан, рубал бы еще и басмачей. И наверно, рана сильно его тревожит, злой на "живоглотов", едва зубами не скрежещет. А те только обиженно пожимают плечами – а мы разве виноваты, тот, кто меч поднял, от меча и погибнет...
Когда же разговаривает с кем из богатеньких, и глаза прищурятся, и губы посинеют, а рука в кармане сжимает солдатский наган. С таким поговоришь... У него еще и винтовка стоит наготове в сельсовете. Власть!.. Еще в четырнадцатом подпаском был, каждый день кормили его хозяева по очереди. А теперь ему право дано, да наган, да винтовка – на наши, мол, головушки!..
Только к нему не посылали ночевать ответчиков: хата у него пустует, да еще и развалюха. Заявится на ночь к какому-нибудь хозяину, буркнет: "Стели!" Руки сложит на груди, как мертвец, ноги раскинет и храпит, толстые губищи в потолок выставив... Пух-пух, а пухнуло б тебе в нутро!.. – это кулаки о нем так. Выучился в Красной Армии грамоте – "Рабы не мы, мы не рабы" – и расписываться лихо. Сначала полностью выводил свою фамилию, а потом решил упростить дело, выведет "Поли..." и пружинку накручивает.
Говорю ему как-то:
– Да не присылайте вы, Ригор Власович, мужиков на ночь. Ну, что я для советской власти?..
– Нет, – говорит, – никак нельзя не присылать. Мне – что? Мне только руки нужны – гидру, живоглотов тех душить, а вы у нас голова что ни на есть настоящая. Ну как убьют вас, кто ж тогда пастухов в люди выводить будет? Теперь наша власть, нам и в люди выходить!..
Это уже второй или третий раз ночуют у меня куркули. А в первый раз случилось вот что.
Хатка у меня, как вы знаете, в три окна. Только со стороны кладовки нет окон.
В ту ночь я долго не мог заснуть. Было душно. Парило. Высокая луна окутана желтым кругом – к дождю. Желтый, липкий, как мед, свет стекал с гладеньких вишневых веток, сад был словно наполнен голубой дымкой, и тишина – мудрая и древняя, как мир, в котором жили наши пращуры. Не удивило бы меня тогда, если б из вишневых зарослей вышли ко мне длиннорукие желтобородые деды с ногами-корневищами.
Только ночь и объединяет нас с глубоким прошлым. Свет дня разрушает чары столетий, что обступают человека ночью. Неспроста ведь сказки и легенды рождаются долгими вечерами возле очага в ожидании необычной, далекой и жестокой силы, которая может прийти из тьмы.
И я почему-то ждал появления этой силы.
И я увидел ее. И услышал.
Затопали шаги на улице, послышался приглушенный разговор, потом затих. Шаги стали крадущимися, и это полностью отвечало моему представлению о ночи. Именно так могли выступать из темноты желтобородые деды с ногами-корневищами.
Темный силуэт заслонил мое оконце. Волосы зашевелились у меня на голове. Слишком это было реально, чтобы бояться чудес.
С минуту стояла тишина. Только тяжелыми толчками бились живчики на висках.
И вдруг загудели окна – одновременно, как по команде, загромыхали кулаками в рамы.
– Ат-крывай!
Все, кто был в хате, повскакивали. Ядзя взвизгнула и, кажется, прикрыла рот ладонью, ибо так же неожиданно и умолкла.
Мы засуетились, но никто не двинулся к двери.
– А-ат-крыва-ай! – вновь взревели во дворе, а затем кто-то выругался зло, с вывертом.
– Подождут! – сказала моя жена. – Засветите каганец!
Я кинулся к печурке, ощупал все уголки, но зажигалки, как на грех, не находил. Однако минуту спустя она уже и не нужна была.
Желтое пламя за окном осветило комнату, звякнуло разбитое стекло, и огненный шар покатился по полу, едва не подпалив расстеленную возле лавки солому. Как оказалось потом это был клубок суровых ниток, пропитанный керосином, с камнем внутри.
– Ат-крывай, рас-туды, а то вкинем бонбу!
Я бегом бросился в сени, торопливо нащупал засов, и, не успел открыть дверь, как меня толкнули назад стволом винтовки.
– Р-руки!..
С поднятыми вверх руками я, пятясь, вошел в комнату, и что больше всего меня встревожило, так это взгляды моей жены да Ядзи.
Первым за мною ввалился здоровенный бандюга с круглым лицом, с круглыми, маслянистыми глазами, с черными татарскими усами и со шрамом через всю щеку – от губы до виска. За плечами у него висел кавалерийский карабин, по бокам болтались сабля и маузер в деревянной кобуре. Одет он был в чумарку, покроем напоминавшую черкеску. Подпоясан узеньким пояском с потертыми медными подвесками, бляшками. Мохнатую кубанку с золотым позументом накрест надвинул почти на самые брови. Это и был знаменитый на всю округу Шкарбаненко. За ним следом вошло еще четверо или пятеро его приспешников, одетых менее пышно, в потертых городских пальто, сермягах, свитках, в картузах с лакированными козырьками полумесяцем, в овчинных шапках, а один, похожий на цыгана, совсем простоволосый. Сколько их оставалось во дворе, и до сих пор не знаю. Но торчали они у каждого окна.
Бандитская осветительная шашка страшно чадила. Шкарбаненко поморщился и кинул через плечо одному из своих:
– Выбрось ты ету заразу!
Бандит торопливо выкрутил шомпол, проткнул им клубок и выбежал из дома.
В это время Евфросиния Петровна засветила уже масляный каганец.
– Ну, – сказал атаман и картинно подбоченился. – Почему не аткрывали народным приставителям! И хто еще дышит в етой хате?
Я выступил вперед, но Шкарбаненко оттолкнул меня растопыренной пятерней.
– Ты, зараза, нам известный! А ты што за цаца? – указал он пальцем в сторону Евфросинии Петровны.
– Не тычь, чертов Кузьмич! – взорвалась моя жена. – Не тыкать мне! Я здесь хозяйка!
– Сичас тут хазяин – я! – сказал Шкарбаненко и гордо откинулся назад. – А ежели тебе надоело быть в единственном числе, то я могу изделать множественное, – положил он руку на эфес сабли. – Вишь, засмеялся бандит, – и я грамматику проходил!.. А ты хто есть, – подошел вплотную к Ядзе и пальцем поднял ее подбородок.
– Естем полька, – пролепетала Ядзя.
– А почому ты здеся? Чево не пошла за своими?
– Сирота, – пояснил я. – У нее там никого нет.
Шкарбаненко молча оглядел меня с головы до ног, усмехнулся какой-то своей мысли и перевел взгляд на заложников.
– А ты? И ты?
– Обходчики мы, – вздохнув, ответил Тадей и искоса, с неприкрытой ненавистью посмотрел на меня.
– Потому как они, – указал на меня глазами Тилимон, – имеют касательство до новой власти.
– Угу, – выпятил губы Шкарбаненко. – Так, так... А ты, часом, не еврейка? – снова привязался он к Ядзе.
– Цо пан мувит?! – содрогнулась та. – Полька естем... – И торопливо вытащила за шнурок нательный крестик из-за пазухи.
– А чем можешь доказать, что ты полячка? А может, у тебя ета... загоготал он. Его бандюги тоже захлебнулись от смеха.
Ядзя испуганно захлопала зелено-синими, в ту минуту почти придурковатыми, глазами, а Евфросиния Петровна от злости пыталась проглотить какой-то невидимый комок.
– Быдло! Она тебе в дочки годится! – прорвало ее.
– Вот ты яка! – атаман пожевал губами. – Ты што ж желаишь, штоб мы и тебя проверили на етот предмет?.. Ты тож коммунистка? – И он крадущейся походкой приблизился к Евфросинии Петровне. – Как, ребятушки, годится она еще аль нет?
– Бесстыжие да еще и безголовые! – Моя жена бесстрашно посмотрела бандиту прямо в глаза. – Мы народные учителя. Учим детей. Может, и ваших, чтобы в отцов не пошли!
– К боль-шо-викам нанялис-сь! – чуть ли не проткнул ее пальцем Шкарбаненко.
– Ну, и к большевикам! – упрямо повторила Евфросиния Петровна. – К обществу, дурак, к народу! А вот ты к кому нанялся?!
Я обмер. Понял – все кончено.
– Я думаю точно так же! – громко ли, тихо ли, но сказал и я. И может, впервые почувствовал, как между мною и женой моей Евфросинией Петровной, между сердцами нашими мелькнула искра-молния. Я знаю, что так же поступила бы и она – большая любовь всегда готова принять судьбу и муки любимого человека.
Но наш "оппонент" все-таки победил нас в споре.
– Выведите етих антиллигентов и выпустите излишек вума из ихних дурных голов.
Нас потащили из хаты.
Почему именно меня с женой должны были убивать во дворе, а не в нашем доме, я не знал. Этого не знают и те, кто ставит расстреливать возле стены или привязывает к столбу. Да разве человеку не все равно, где умирать? Палачи за многие века своего существования выработали целые ритуалы убийства, и нарушение их, этих ритуалов, лишило бы палачей наслаждения от убийства. Одни из них сгоняют тысячные толпы к эшафоту, выставляют садистов в мантиях, и те под барабанную дробь изрекают: "Смерть!" Другие дают осужденному возможность помучиться в ожидании, надежде помилования до тех пор, пока венценосный палач не изречет то же самое: "Смерть!" Он, этот венценосный изверг, никак не натешится своей ролью, его раздирают сомнения, он даже зачастую прикладывает платочек к глазам, а писари, высунув языки от усердия и угодливости, записывают его "сомнения" на свитках папируса или пергамента, чтобы в конце завершить тем же самым, закономерным и яростным: "Смер-р-рть!"
И днем и ночью следят, чтобы приговоренный случаем не лишил себя жизни и не отнял бы тем самым у палачей наслаждение от зрелища, когда голова, брызнув кровью, отскакивает в сторону, как мяч.
И, выводя на казнь, затыкают осужденному рот, чтобы, избави бог, перед смертью не обругал черным словом всемогущего палача.
Нам с женой не затыкали ртов и не связывали рук за спиною.
Я не помню, что я думал тогда и чем жил. Но не забуду, как пронзительно кричала Ядзя, как ей затыкали рот, с каким страхом смотрели на нас куркули, когда мы спотыкались на собственном пороге.
Атаман с обходчиками и Ядзей остались в доме, а мы с Евфросинией Петровной стояли у стены и ждали, пока он выйдет и скомандует: "Огонь!"
Но вот он вылез, зло ругаясь, а за ним выкатились мужики. Они, как утопающие, хватались за полы его чумарки.
– Пан атаман!.. – слезно вопил Тадей.
– Сжальтеся, благодете-ель на-аш!.. – завывал и Тилимон.
– Недоноски! – рычал Шкарбаненко. – За вас головы не жалеишь!.. А вы сидели под жениными юбками и тада, как большевики власть забирали! Заразы! – И пинал их ногами, потому что вцепились они в него как репьи.
– Смилуйтесь, – заплакали оба, бросились ему в ноги.
– Тьфу, тьфу! – со злостью плевался атаман, выдирая ноги из их объятий, как из туны. – А винтовку за плечо да в лес?! А драться с коммунистами?! Дра-аться, дра-аться, туды вашу так!
Потом, обессилев от ярости, дыша, как загнанный конь, крикнул своим:
– Ат-ставить! Прикладами ету заразу в хату!
Команду выполняли с таким рвением, что я было подумал – не дойду.
– Так вот, – сказал Шкарбаненко почти спокойно, когда нас ввели в хату. – Вышло вам от народу помилованье. Можете покудова жить. А кару вам народ назначает такую: конхвискация всего имущества. Повезло вам, заразы!.. Садись, Степан, делай опис... Мы не грабители какие-нибудь. Оставим вам документ с моим подписом. А вы, ребятушки, выносите барахло на подводы!
И дом наш стал пустеть. Один из бандитов деловито просматривал пожитки, пригодное отбрасывал в сторону, другие – связывали узлы и выносили во двор. Несколько пар женских панталон с кружевом вызвали у них такое радостное удивление, что подошел сам атаман.
– З-забирай! – широко махнул он рукой. – Пускай товаришка вчительша ходит как все женчины. Не будет париться.
Исчезли из дому и швейная машинка, и самовар, и мраморный умывальник, и вилки с ножами, и наша праздничная одежда, и все, все. Только Ядзиного почему-то не тронули. Атаман ущипнул ее за грудь, девушка передернулась.
– Яловичка... – шлепнул губами Шкарбаненко. – Пойдем, паненка, с нами, с нами, казаками... Будешь у нас за походную матку боску... Хе-хе... Ну, пошли... А вы, заразы, сидите, и тихо сидите, чтоб вас завтра гром не покарал! – Он помахал у меня перед носом бомбой. – Ежели раньше чем через два часа кто-нибудь высунет нос из хаты!.. Цыц!.. – окрысился он, направляясь из дома.
И мы сидели тихо-тихо. Даже экспансивная Евфросиния Петровна, подперев рукою щеку, молча горбилась на лавке.
И хотя мы с женой не перемолвились и словом, я знал, о чем она думает. И она знала обо мне все. От этого нам стало радостно, словно мы ничего и не лишились. Мы были почти счастливы.
И я знал также и то, о чем думали мужики-обходчики. Чувствовал, какие они несчастные оттого, что спасли нас. И как они счастливы, что все это свершилось даже вопреки их желанию.
И от полноты чувств я вдруг засмеялся и даже пошутил неудачно:
– Теперь ты, жена богоданная, будешь для меня более доступна!
И она поняла и тоже засмеялась, замахнулась, но не ударила меня даже шутя, а медленно, не как мать когда-то и не как жена, а скорее как старшая сестра, погладила мой поредевший чуб.
– Глупенький, ей-богу, глупенький!..
Когда уже хорошо развиднелось, мужики покряхтели, потоптались и ушли.
Тадей, огорченный тем, что мы остались живы, не попрощался.
Тилимон, как всегда учтивый, воркующим от великодушия голосом произнес:
– Ну, вы тово... добродеи... живите покамест... – И тронул козырек своего хозяйского, с "церемонией"*, картуза.
_______________
* Плетеный ремешок.
Мы с Евфросинией Петровной одновременно вздохнули и не ответили ничего.
А когда они уже стояли в воротах, и, вытянув шеи, пристально всматривались во все стороны, и с встревоженными лицами о чем-то переговаривались, неожиданно для себя я захохотал, и длилось это долго, пожалуй, слишком долго, и я понял это, и поняла Евфросиния Петровна, и подошла, обвила меня сзади руками, и я затих у нее на груди, а потом, честно говорю, заплакал – мамочка, мамочка! – ибо она и вправду была для меня сейчас матерью, хотя я уже пожилой, наверно, даже старый, и моя родная мать давным-давно умерла и уже не могла приголубить и утешить меня.
Вот так, как видите, живем мы с Евфросинией Петровной!..
И я счастлив тем, что существует на свете любовь, которая спасает нас от смерти, когда отошла от нас молодость и начинаешь заглядывать в могилу. Если бы не эта любовь, да преданность, да еще нежность, то, чем прозябать в ожидании приговора, лучше самому свести счеты с жизнью. А так и не думаешь, что обходит тебя стороною вечность, не думаешь о том, что вечность – это безграничность во времени, век – сто лет, век продолжительность человеческой жизни – все это лишь понятия одной этимологии, а для человека справедливо значение только длительности короткого людского существования.
Так вот: остается любовь – остается и жизнь. И я часто думаю: а какая же моя роль в ней?
Не ставлю я себе целью изменить ее или улучшить. "Все течет, все проходит, и нет этому конца..." Все закономерно и не зависит от воли отдельно взятой личности. Так я думаю. И не стану вмешиваться в земные страсти, не буду стараться влиять на события, пусть они, скажем, свершаются сами собой. А я только буду честно зарабатывать свою краюху и с чистым сердцем – когда смеясь, а когда и плача над судьбами людскими составлять не летопись, нет, а только скромные свои комментарии. Но имею ли я на это право? Жена моя любимая, Евфросиния Петровна, обзывает меня если не дурнем, то неразумным. Но скажите мне, люди: ведь любая жена, даже если она опекает в жизни корифея науки, руководит им, была ли она когда-нибудь высокого мнения об уме собственного мужа?..
И я признаю за ними за всеми это право, ибо ни один из мужчин, каким бы он ни был умником, не сможет народить дитя, а каждая женщина, даже не царица Савская или Клеопатра, способна на этот высокий, божественно мудрый акт. Да еще и не единожды!..
И я так думаю: среди тех простаков мужчин, которые наплодились черт знает для чего, я – не последний. Да и прожил уже немало – давненько разменял пятый десяток... Вот это и дает мне право заострить перо и, как говорят люди, – с богом!
ГЛАВА ВТОРАЯ, с которой, собственно, и начинается эта книга и в
которой автор рассказывает о Софии Корчук, ее дочке Яринке да еще о
Шлёме с Голубиной улицы
– Яринка, поди-ка сюда! – позвала София Корчук свою дочку.
Услыхала ее девушка или не услыхала, но только сверкнула терновым глазом на мать, а сама продолжала воевать с наседкой: никак не могла загнать ее в сени. Распушив хвост, шагнет упрямая птица раза два, потом поворачивается и – шасть под руками; а желтенькие цыплята пушистыми мячиками катятся по спорышу за нею, да так, что даже кувыркаются. Девушка ловко собирает цыплят в подол, наседка на миг замирает, а потом бросается за своими детьми, Яринка прикрывается локтем и отворачивает лицо от рассерженной наседки, чтобы, чего доброго, в глаза не клюнула. А цыплята пронзительно пищат в подоле, от них жарко и щекотно ногам. Пятясь перед наседкой и смеясь, Яринка заходит в сени, осторожно освобождает цыплят из подола на дерюгу, перепрыгивает через наседку и прикрывает дверь.
– Ага, обманула! – радуется она и вприпрыжку бежит к матери. – Чего вам?
София с улыбкой смотрит на дочку. "Боже мой, вон какая вымахала!" Яркая, вся в складках, юбка выше щиколоток делает девушку еще стройней и гибче, – перетянута в талии, как оса. Загорелые ноги с высоким подъемом и длинными худыми ступнями так и мелькают, словно у водяной курочки, когда та торопится в камыши.
Смуглое лицо с ровным румянцем на щеках, с едва заметным пушком на верхней губе было открыто матери своею нежностью и добротою.
"Отец, вылитый отец... – подумала София. – Быть ей счастливой... Теплая щемящая волна подкатилась к сердцу: – Дай-то боже, дай боже!.."
Рослая, как и отец, с неширокими покатыми плечами, хотя и худенькая, но не тощая, глаза темные, цвета спелого терна – тоже как у отца. В молодости он походил на застенчивую девицу. София и до сих пор не понимала, как такого могли взять в солдаты. Как он мог стрелять из ружья, людей убивать?.. Или штыком колоть, если и мышь вилами, бывало, не приколет? София как завидит серую, бросается за нею по всем углам, а Микола только улыбнется и скажет: "Да пускай себе... Ну, посмотри, со страху на стену карабкается... Такая маленькая разве объест кого?.." Ну и чудак!.. Настоящий хозяин одному нищему подаст, а второго уже и выпроводит, а чтобы чертову тварь жалеть, ну и ну!..
Чудной был покойник, царствие ему небесное!
В мирное время не брали Миколу в армию – единственный у матери, а потом, когда загребали слепых и хромых, погнали и его на позиции, а Яринке к тому времени всего десятый пошел – вторую группу закончила. А там... а там... Горюшко мое, вдовья доля горькая... Только и остались разве что на память о муже – шуба его, синим сукном крытая, шапка из смушек, да пояс красный, да воспоминания про ночи нежные и горячие, да дочурка словно тополек...
– Иди, иди! – с напускной строгостью прикрикнула на дочь София.
И не обняла лишь потому, что в одной руке держала гаечный ключ, а в другой – ведерко с коломазью.
– Как колеса подмазать – не дозовешься тебя!..
Налегая всем телом на ключ, открутила гайку, подставила широкую спину под полудрабок.
– Ну!
София приподняла телегу, Яринка покачала колесо, стянула его на край оси и стала торопливо водить мешалкой с колесной мазью по оси, от усердия высунув язык. Точно так же, покачав туда-сюда, надела колесо и, довольная, раскрутила его.
– Уже! Теперь давайте я!
– Успеешь еще надорваться.
– А куда это вы, мамо? – спросила девушка, когда они закончили работу.
– Завтра в город. Наняли матушка с учительшей.
– Так у попа свои же кони.
– Работник захворал.
– Мам!
– Чего тебе?
– А если мне с вами?
– Ты что – маленькая? А хозяйство-то на кого?..
– Ну, возьмите!
– И думать не смей!
– А вот и поеду! – капризно надула губы девушка. – Как вам, так все можно! А я – что? Поеду, поеду, вот крест святой, поеду! – с подчеркнутой уверенностью сказала Яринка, и голову подняла, и брови нахмурила. – Так и знайте! Ага!
– Поговори, поговори мне еще... – спокойно пригрозила София, поджала губы и направилась в дом.
Но в хате побурчала немного для порядка и решила взять дочку с собой.
"Вот обрадуется!.. – подумала она и улыбнулась про себя. – Ведь впервые в город попадет, поглазеет..."
– Вот так бы и разъезжать... – зачастила она. – Кого же, скажи, мне на хозяйстве оставить?.. Идти кланяться кому-то... И яиц недосчитаешься, и молоко чужие языки вылакают... одни убытки... А то еще соседские мальчишки хату спалят... или в колодец падаль какую кинут...
– Ну, начали! – с досадой сказала Яринка и отвернулась. – Уже и свету мне не видать из-за вашего хозяйства...
– Оно и твое тоже! – строго сказала София. – Для кого все это копила?
– Ай!
Долго и сердито молчали.
Держа шпильки в зубах и выпятив грудь, София закручивала косу в узел, изучала в зеркальце, вмазанном в стене, раздосадованное лицо дочки. Пригладила волосы, повязала косынку и только потом сказала:
– Сходи к бабке Зайчихе, спроси, может, завтра придет... А я ей, скажешь, платок в гостинец привезу.
Не успела договорить, как Яринки и след простыл.
Вернулась запыхавшаяся, с влажными от счастья глазами, и в голосе ее было столько радости, что захлебывалась.
– Сказали баба – придут чуть свет... – И впилась в лицо матери выжидающе-восхищенным взглядом. – Вот видите... видите!.. – и бросилась к сундуку. Выкидывала одежду прямо на пол, искала праздничную.
– Тю, шальная! – в сердцах крикнула София. Подобрала все разбросанное и стала складывать одно к одному на скамье.
...Почти до полуночи не могла Яринка заснуть, не давала спать и матери. Трагическим шепотом сетовала, что нет у нее красных сапожек, и бархатной корсетки нет, и зеленого платка, как у Марии Гринчишиной, нет, и что она голая и босая, и стыдно ей на люди показаться.
София сначала отругивалась – вот завидущая, – потому как и черевики у тебя, мол, на высоком подборе есть, и монисто янтарное с дукатами, и шаль черная кашемировая с красными цветами, и пять подушек, и рушники льняные вышитые, и свитка белая, и кожух длинный, еще и кожушок, и на зиму сапоги юфтевые, и шесть простынь, и шерстяные одеяла, и полотна беленого семь поставов, и... и... – бормотала, бормотала, пока не заснула, так и не пересчитав всего дочкиного приданого.
На следующий день, перед выездом, София при бабке Зайчихе перещупала всех кур, подоила корову, отнесла молоко в погреб, позакрывала все, где только мог замок висеть, и лишь тогда, облегченно вздохнув, оставила дом и хозяйство под надзор черноликой и широкобровой, глуховатой бабке Зайчихе.
Чтобы было чем и самой поторговать, пристроила в соломе на телеге вместительное лукошко с десятью копами* яиц, сложила в платок несколько миллионов, завязала в узелок рубля два серебром, сунула за пазуху, проверила сбрую на конях, привычно высвободила им гривы из-под нашильников, не очень сердито побранила Яринку за то, что обула черевики покроются пылью, и только тогда, высоко держа вожжи, по-мужски зачмокала на коней.
_______________
* К о п а – единица счета, равная шестидесяти.
Яринка сидела на передке рядом с матерью горделиво и напряженно отчасти от сознания важности момента, а еще и от того, что мать уселась свободно и была так широка в бедрах, что Яринке почти не осталось места и ее клонило к матери на плечо.
Девушка искоса посматривала на мать и гордилась ею – из-под белого в синий горошек платка, нависшего шалашиком, черной блестящей гусеницей шевелилась бровь, а глаз был светлый и прозрачный с точечкой солнца в темном зрачке, молодой глаз в пушистых ресницах, и Яринка даже позавидовала, потому что у нее нет таких ресниц, у нее, у Яринки, они жесткие и стрельчатые; и лицо у матери молодое, щеки тугие, загорелые, с вишневым румянцем.