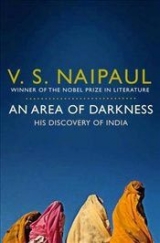
Текст книги "Территория тьмы"
Автор книги: Видиадхар Найпол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
– Мой сын болеть, хазур. – Хансама усмехался кривоватой робкой усмешкой и переминался на своих изящных ногах.
Это было излишне. Я и так уже запустил руку в карман, отсоединяя купюры от скрепленной пачки из сотен банкнот. Это все, что нашлось на этой неделе в местном отделении Государственного банка Индии. Это могло пробудить известный затяжной обман: я знал, как легко и опасно дразнить кашмирцев.
– Мой сын плохоболеть, хазур!
Его нетерпеливость была под стать моей.
– Хазур! – воскликнул он с явным неудовольствием. Три бумажки слиплись в одну. Потом он улыбнулся. – А, три рупии. Хорошо.
– Хазур! – сказал хансама спустя неделю. – Моя жена болеть, хазур.
В дверях, теребя купюры, которые я дал ему, он остановился и с неожиданной убедительностью в голосе, словно желая меня утешить, сказал:
– Моя жена правда плохо болеть, хазур. Очень плохо. Тиф.
Я встревожился. Может быть, он говорит это не просто для приличия? За обедом я навел справки у Азиза.
– Она не болеть тифом.
Молчаливая усмешка Азиза, силившегося не рассмеяться над моей доверчивостью, меня взбесила.
И все-таки получилось, что я выдал хансаму. Больше он не являлся ко мне с россказнями о больных родственниках. Мне неприятно было думать об унижении, которому он подвергся на кухне; но еще неприятнее было думать о торжестве Азиза над ним. На этом островке я привязался к ним ко всем, и больше всего – к Азизу. Эта привязанность очень удивляла меня самого. До сих пор слуга для меня был просто человеком, который выполнял свою работу, забирал деньги и возвращался к своим собственным делам. Но для Азиза его работа и была жизнью. Где-то на озере жила его бездетная жена, но он редко о ней упоминал и, похоже, вовсе не навещал ее. Служба являлась его миром. Это было его ремесло, его единственное умение; она выходила за рамки служебной формы и почтительных манер; и она же была источником его власти. Мне приходилось читать об исключительной влиятельности слуг в Европе XVIII века; я всегда поражался наглости русских слуг в таких романах, как «Мертвые души» и «Обломов»; в Индии мне случалось видеть, как госпожа и слуга ссорятся так же страстно, так же жестоко, как ссорятся порой муж с женой, а потом так же быстро забывают о перебранке. Только теперь я начал кое-что понимать. Обладать личным слугой, чья обязанность – угождать, который не имеет иных дел, кроме служения господину, – значит, безболезненно уступать частицу самого себя. Это обладание создает зависимость на пустом месте; оно требует возмещения; оно приводит к инфантилизму. Я сделался таким же восприимчивым к настроениям Азиза, как он – к моим. Он умел приводить меня в бешенство; его хмурый вид порой портил мне все утро. Я мигом замечал его вероломство или недостаток внимания. Я начинал дуться; тогда он – в зависимости от настроения – желал мне спокойной ночи через посланца или вовсе не желал спокойной ночи; а с утра все начиналось сначала. Мы молча враждовали из-за постояльцев, которые мне чем-то не нравились. Мы ругались открыто, когда я понимал, что за его словами о вздорожании продуктов последует требование выдавать больше денег. Прежде всего мне хотелось быть уверенным в его преданности. А это было невозможно, потому что я не был его настоящим хозяином. Потому-то в отношениях с ним я придерживался попеременной тактики запугивания и подкупа; он терпел и то, и другое.
Его служба, как я уже говорил, выходила за рамки униформы – к тому же последней у Азиза не было. Казалось, у него вообще только один наряд. Одежда на нем становилась все грязнее и грязнее, и запах от него исходил все более забористый.
– Азиз, ты умеешь плавать?
– Да, саиб, я плавать.
– И где же ты плаваешь?
– Здесь, в озере.
– Вода, наверное, очень холодная.
– Нет, саиб. Каждое утро я и Али Мохаммед снимать одежда и плавать.
Это было уже что-то; одно сомнение развеялось.
– Азиз, закажи себе у портного новый костюм. Я заплачу.
Он принял строгий, озабоченный вид человека, обремененного множеством обязанностей: это был признак удовольствия.
– Сколько, по-твоему, это будет стоить, Азиз?
– Двенадцать рупий, саиб.
И в этом настроении, заметив Али Мохаммеда, который собирался отправляться в Центр приема туристов в своем заношенном полосатом наряде, в жилете с цепочкой от часов, я не выдержал его жалкого вида.
– Али, попроси портного сшить тебе новый жилет. Я заплачу.
– Очень хорошо, сэр.
Али было трудно понять. Он всегда как будто удивлялся, когда к нему обращались напрямую.
– Сколько это будет стоить?
– Двенадцать рупий.
Похоже, это была расхожая цена. Я поднялся к себе в комнату. Только я уселся за свой синий стол, как вдруг дверь резко распахнулась. Я обернулся и увидел, что ко мне приближается хансама в синем переднике. Казалось, на него нашел приступ неконтролируемой ярости. Он положил руку на пиджак, висевший на спинке моего стула, и заявил:
– Мне нужна куртка.
Потом, словно испугавшись собственной грубости, он отступил на два шага назад.
– Вы дарить Али Мохаммед жилет, вы дарить этот Азиз костюм.
Может быть, на кухне его дразнили? Я вспомнил давешнюю сдержанную ухмылку Азиза, его суровый вид: он явно подавлял чувство торжества, которое неизбежно должно было найти какой-то выход. Али собирался в Центр приема туристов; наверное, он успел забежать на кухню, чтобы похвастаться.
– Я бедный человек.
Хансама сделал смиренный жест, проведя обеими руками по своей изящной одежде.
– Сколько это будет стоить?
– Пятнадцать рупий. Нет, двадцать.
Это было чересчур.
– Перед отъездом я подарю тебе куртку. Перед отъездом.
Он бухнулся на пол и попытался ухватить меня за ноги в знак благодарности, но ему помешали ножки и перекладины стула.
Он был человеком измученным; я догадывался – и по тому, что слышал, и по тому, что видел, – что на кухне происходят скандалы. Он пекся о своей чести. Он был поваром. Он не был всеобщим слугой; он не учился искусству угождать и, возможно, презирал людей вроде Азиза, которые жили угождением. Я догадывался, что он порой провоцирует ситуации, с которыми потом трудно справиться; и после каждого поражения он испытывал терзания.
Должно быть, это случилось через неделю. Он прислал нам на обед мясное и овощное рагу. Порции выглядели одинаково, только в одной тарелке плавали кусочки и волокна мяса, а в другой – нет. Я мяса не ел, и при виде этих блюд необъяснимо расстроился. Я так и не смог прикоснуться к тушеным овощам. Азиз был задет; это доставило мне удовольствие. Он взял мою тарелку и пошел на кухню, и вскоре оттуда послышался голос хансамы – громкий, недовольный. Азиз вернулся один, ступая очень осторожно, как будто у него болели ноги. Через некоторое время за занавеской, висевшей в дверях, раздался чей-то голос. Это пришел хансама. В одной руке он держал сковородку, а в другой – большой рыбный нож. Лицо его раскраснелось от огня, его обезображивал гнев и чувство обиды.
– Почему вы не есть мои тушеные овощи?
Только заговорив, он сразу же потерял самообладание. Он стоял надо мной и почти орал:
– Почему вы не есть мои тушеные овощи?
Я опасался, как бы он не ударил меня высоко поднятой сковородкой, в которой я заметил омлет. Но его ярость быстро улеглась, уступив место тревоге, и он раскаялся в собственной слабости.
Я страдал вместе с ним. Но при мысли о жаренных в масле яйцах меня одолела тошнота; и я сам поразился тому, как внутри меня закипела та отчаянная злость, которая начисто лишает способности рассуждать здраво и почти физически ослепляет.
– Азиз, – проговорил я. – Попроси этого субъекта уйти.
Это было бесчеловечно; это было смешно; это было бессмысленным ребячеством. Но миг гнева – это миг, когда ясность сознания гаснет и улетучивается, а приход в себя происходит медленно и мучительно.
Некоторое время спустя хансама покинул «Ливард». Это произошло неожиданно. Однажды утром он пришел ко мне в комнату вместе с Азизом и сказал:
– Я ухожу, хазур.
Азиз, предупреждая мои вопросы, поспешил сказать:
– Это хорошо для него, саиб. Не беда. Он найти работа в семье в Барамуле.
– Я ухожу, хазур. Дайте мне рекомендацию сейчас.
Он стоял позади Азиза и, говоря, щурил один глаз и показывал длинным пальцем на Азизову спину.
Я сразу же напечатал для него рекомендательный отзыв. Он оказался длинным и прочувствованным, но вряд ли полезным для будущего работодателя; это было свидетельство сочувствия: я понимал, что вел он себя так же неправильно, как и я сам. Пока я составлял письмо, Азиз стоял рядом и смахивал время от времени пыль, улыбаясь и следя за тем, чтобы все было в порядке.
– Я ухожу сейчас,хазур.
Я отослал Азиза и дал хансаме больше денег, чем требовалось. Он взял их, не показав, что смягчился. Он лишь проговорил, медленно и со страстью:
– Этот Азиз!
– Это хорошо для него, – говорил потом Азиз. – Два-три дня, и мы находить новый хансама.
Так наш отель перестал казаться мне кукольным домом.
* * *
– Саиб, я просить одна вещь. Вы писать бюро туриазм, приглашать мистер Мадан на чай.
– Но, Азиз, он же в тот раз не пришел.
– Саиб, вы писать туриазм.
– Нет, Азиз. Больше никаких приглашений на чай.
– Саиб, я просить одна вещь. Вы повидаться с мистер Мадан.
На кухне вынашивалась очередная интрига. Каждую неделю Али Мохаммеду приходилось испрашивать пропуск для прохода на охраняемую полицией территорию Центра приема туристов. Это отнимало у него драгоценное время, которое он мог бы потратить на отлов туристов. Ему нужен был пропуск на весь сезон, и на кухне считали, что я смогу раздобыть такой пропуск.
– Они действительно выдают эти сезонные пропуска, Азиз?
– Да, саиб. Много плавучих домовиметь сезонный пропуск.
Мой озерный отель – необычный, непризнанный – дискриминировали. Не задавая больше никаких вопросов, я договорился о встрече с мистером Маданом, и когда наступил назначенный день, мы с мистером Баттом поехали в город на тонге.
И оказалось, что в бюро туризма знают обо мне! Мое прошлое письмо прославило отель «Ливард». Были улыбки и обмен рукопожатиями с чиновниками, которые были восхищены – хотя слегка озадачены – моим живым интересом. Индийская бюрократия играет в молчанку и изводит отсрочками, но она никогда не теряет и не забывает ни одного документа; и меня, как автора добровольно написанного хвалебного письма, с искренней сердечностью проводили в увешанный картинами кабинет мистера Мадана, директора.
Ожидающие приема посетители, выжидательная и серьезная вежливость директора едва не заставили меня передумать. Когда слова приветствия закончились, нужно было как-то продолжать. Итак: не может ли мистер Мадан позаботиться о том, чтобы Али Мохаммеду выдали пропуск на весь сезон, если только Али Мохаммед имеет право на такой пропуск?
– Но пропусков больше не требуется. У вашего друга, как я понимаю, британский паспорт.
Я не мог винить его в том, что он неправильно меня понял. Али не турист, объяснил я. Он хочет встречать туристов. Он – кашмирец, работник отеля; ему нужно проходить на территорию Центра приема туризма. Я понимаю, что туристов следует оберегать. И все же. Банальности, которые я произносил, тяготили меня. Я принимал все более серьезный вид, заботясь о том, чтобы выпутаться из этого разговора с достоинством.
Мистер Мадан вел себя правильно. Если Али подаст заявку, сказал он, то он, директор, ее рассмотрит.
Я пожелал ему доброго утра и поспешно вышел, чтобы сообщить новость мистеру Батту.
– Теперь вы видеть главный клерк, – сказал мистер Батт, и я позволил повести себя в комнату со столами и клерками.
Главного клерка не оказалось на месте. Потом мы нашли его в коридоре. Это был улыбчивый, хорошо сложенный молодой человек в светло-сером костюме. Он тоже знал о моем письме, он понял суть моей просьбы. Пусть владелец отеля придет сюда завтра и подаст заявку; а он постарается помочь.
– Завтра, – сказал я мистеру Батту. – Вам нужно прийти завтра.
Я поспешно оставил его и стал пробираться через территорию Правительственного торгового центра, где когда-то располагалась Британская резиденция, к набережной вдоль мутной реки Джелам. Изысканная кашмирская деревянная резьба на здании резиденции там и сям обветшала; рядом стояла невзрачная, неопрятная маленькая постройка – очень английская, очень индийская, – именовалась кафе «Эмпориум». Но участок в тени чинар оставался помпезным, огромный газон оживляли продуманно неправильной формы участки с маргаритками. Резиденция стояла у одного конца набережной, куда – как мне часто рассказывали – в прежние дни индийцев не пускали. Теперь турникеты были сломаны. Таблички с надписями запрещали ездить на велосипедах или ходить по траве на берегу; но тут все время катались на велосипедах, и на берегу была протоптана глубокая тропинка. Коровы щипали траву в садах перед зданиями, которые, отражая в действительности всего лишь заимствование кашмирского стиля, на первый взгляд смотрелись псевдо-псевдо-тюдоровской архитектурой. Сохранилось несколько старомодных лавок – вместительных, темных, с множеством витрин; казалось, здесь все еще витают надежды тысяч англо-индийцев в «увольнении». Здесь можно было наткнуться на рекламу галет, которых давно уже не делали; на щитах и стенах еще виднелись имена британских покровителей, вице-королей и главнокомандующих. В лавке чучельника висела в рамке фотография английского офицера-кавалериста, начищенным сапогом попиравшего мертвого тигра.
Слава одного рода миновала. Пора другого блеска – базарного – еще не пришла. Но она уже близилась. «Можете даже не подсказывать, сэр. По вашей одежде и по вашему выговору я уже догадался, что у вас английские вкусы. Зайдите ко мне, и я покажу вам мои коврики в английском вкусе. Глядите. Вот это в английском вкусе. Уж я-тознаю! А теперь поглядите-ка вот на этот. Он очень тяжелый, индийский и, разумеется, хуже…»
Любимое и самое замечательное место встреч в Кашмире
РЕСТОРАН ГАВ – ЗАНИМАЕМ ПЕРВЫЕ МЕСТА
У микрофона Тони-Привет-Друзья
Со всеми Пятью Боперами
Посетителей ждут 36 сортов мороженого
ПЕЙТЕ НАПИТКИ
В НАШЕМ ЗОЛОТОМ БАРЕ ПОД ЗВЕЗДАМИ
Так зазывали листовки. А вот и само «место встреч» – новое, современное здание – «самое веселейшее», как говорилось в другой брошюрке, «самое отличное в округе». Для Тони и Пяти Боперов было еще рановато. Я заказал литр дорогого индийского пива и посидел в тишине, стараясь выбросить из головы утренние встречи.
Потом я прошелся по пыльной Резиденси-роуд, разговорился с бородатым стариком-книготорговцем. Он оказался бакалавром гуманитарных наук, бакалавром юриспруденции из Бомбея, беженцем из Синда. Он сказал, что ему восемьдесят лет. Я усомнился. «Ну, я говорю восемьдесят, чтобы не говорить семьдесят восемь». Он рассказал мне о пакистанском вторжении в 1947 году, о разграблении Барамулы. В этом самом городе Шринагаре, в этом городе, теперь принадлежавшем кучерам тонг, Али Мохаммеду и ресторану «Гав – занимаем первые места», тогда отдавали по пятьсот рупий за билеты на автобус до Джамму, стоившие восемь рупий. «Сейчас только и остается, что смеяться, вот я часто сижу тут и читаю». Он читал Стивена Ликока, обожал рассказы майора Манро. Почему же он называет его майором Манро? Ну, он прочел где-то, что Саки [43]43
Гектор Хью Манро (1870–1916) – английский писатель; псевдоним Саки взял себе по имени персонажа «Рубайят» Омара Хайяма.
[Закрыть]на самом деле был Манро и майором, поэтому ему казалось, что невежливо лишать любимого автора его звания.
Я ехал на тонге обратно к гостиничному гхату и увидел по дороге мистера Батта. Я позвал его в двуколку. Вид у него был совершенно несчастный. Оказалось, я слишком поспешно покинул его. Он не понял того, что я ему сказал, и все утро впустую прождал меня в Центре приема туристов.
На следующее утро я напечатал заявление с просьбой о предоставлении сезонного пропуска, и мистер Батт повез его в город. Было жарко и становилось все жарче. К полудню небо потемнело, опустились тучи, горы сделались темно-синими и отражались в воде до тех пор, пока по поверхности озера не стали проноситься ветры, трепать листья лотоса, терзать ивы, мотать туда-сюда тростники. Вскоре начался дождь и – после чрезвычайно жаркого утра – стало достаточно холодно. Дождь все еще шел, когда вернулся мистер Батт. Его меховая шапка промокла и превратилась в неопрятную блестящую курчавую массу, куртка потемнела от влаги, плечи сгорбились под поднятым воротником, с низа рубахи струилась вода. Я видел, как он медленно прошагал к кухне по влажным доскам, лежавшим в саду. Он скинул обувь и вошел внутрь. Я вернулся к своей работе, ожидая, что вот-вот раздастся счастливый топот босых ног. Но ничего не происходило.
И, как это бывало раньше, мне пришлось самому наводить справки.
– Азиз, мистер Батт получил пропуск?
– Да, он получить. Одна неделя.
* * *
Однажды утром, несколько дней спустя, я пил кофе в гостиной, как вдруг в дверях показалась голова того маляра в комбинезоне и сказала:
– Вы давать печатать для меня рекомендацию маляра, саиб?
Я ничего не ответил.
6. Средневековый город
Уровень воды в озере упал, опустившись до нижней ступеньки пристани; воды замутились и кишели черными стаями летних рыбок. Снег на горах к северу растаял, и голые скалы казались выцветшими и выветренными. В прохладных парках предгорий более темными зелеными пятнышками выделялись ели. Приозерные тополя потеряли прежде свежий зеленый цвет, а ветер поднимал ввысь и гонял крутящиеся листья ив. Тростники так вымахали, что начали гнуться, а когда дул ветер, то они качались и зыбились, как волны. Сморщенные листья лотоса беспорядочно торчали из воды на толстых стебельках. Потом, как слепые тюльпаны, показались лотосовые бутоны – и неделю спустя распустились, вспыхнув слабыми розовыми цветами. В саду калифорнийские маки и кларкия одичали, и их повыдергивали; бархатцы, занявшие место анютиных глазок, окрепли и выпустили бутоны. Петунии увядали в тени одной из стен гостиной; они, как и герань, поблекли и согнулись под тяжестью капель краски, которой забрызгали их маляры. Зато годетии цвели вовсю: настоящий бело-розово-сиреневый мусс. Подсолнухи, которые были юными саженцами, когда мы здесь поселились, уже так вымахали, а листья их сделались такими широкими, что я больше не мог заглянуть в их сердцевины, чтобы понаблюдать за развитием звездообразных бутонов. Из георгинов распустился пока один маленький красный цветок – яркое пятнышко на зеленом фоне из тростников, ив и тополей.
Зимородки все еще оставались с нами. Но другие птицы появлялись в саду реже. Мы скучали по удоду – по его длинному деловитому клюву, по выгнутым черно-белым полоскам на крыльях, по его хохолку, развевающемуся при приземлении. С приходом жары мелкие мушки, как и предрекал Азиз, передохли; им на смену пришли комнатные мухи. Те мухи, которых я знал раньше, боялись человека; эти же нахально садились мне на лицо и на руки, пока я работал, и несколько дней подряд я просыпался до шести часов утра от жужжанья одинокой мухи, на которую так и не подействовал «Флит». Азиз обещал москитов – они прогонят мух. Для него мухи были силой, не поддающейся преодолению; однажды я увидел, как он безмятежно спит на кухне в своем ночном колпаке, а лицо его черным-черно от неподвижных, довольных мух.
Раньше я требовал «Флит», много «Флита». Теперь я потребовал льда.
– Никто любить лед, – ответил Азиз. – Лед разогревать.
И этот ответ привел к очередной нашей молчанке.
В очень жаркие дни горы к северу от нас с утра до вечера скрывала дымка. Когда солнце клонилось к закату, долину заливал янтарный свет, и туман медленно поднимался между тополями на озере. Отчетливо виднелось каждое дерево, и со стороны горы Шанкарачарьи Шринагар, окутанный клубами пара, казался большим промышленным городом, а высокие тополя торчали заводскими трубами. На этом фоне проступал силуэт форта Акбара, стоявший на вершине красноватого холма посреди озера: солнце – слева, белый диск, медленно становящийся бледно-желтым, а горы, отступая, теряли серый цвет и пропадали вовсе.
* * *
За набережной простирался средневековый город – так, наверное, выглядела Европа в Средневековье. Влажный ли, пыльный ли, это был город запахов – от тел и живописных нарядов, выцветших и пропитанных едкой грязью, от черных, непокрытых сточных канав, от непокрытой жареной пищи и непокрытых нечистот; город плодовитых бродячих собак – красивых, но никому не нужных, – под помостами уличных лавок, полудохлых от голода щенят, дрожащих в черной спекшейся жиже под прилавками мясников, увешанными кровоточащими тушами; город узких переулков, темных лавчонок и тесных дворов, пышных юбок до лодыжек и бесчисленных хрупких мальчишеских ног, покрытых шрамами. И все же – сколько мастерства ушло на создание этих тесно стоящих деревянных построек: сколько еще сохранилось на них фантастической резьбы и деревянных деталей, которые не сразу замечаешь, потому что все обветшало и обрело серо-черный цвет; и случались тут причудливые проблески красоты, когда во мраке блестели сразу все латунные и медные сосуды из лавки с латунными и медными сосудами. Ибо на фоне здешней тусклости, на фоне ошеломляющего впечатления грязи – черной, серой и бурой, – яркие цвета выделялись и пленяли: разноцветные сладости – желтые и блестяще-зеленые, пускай даже кишащие мухами. Здесь можно было заново вспомнить, как притягательны эти основные, геральдические цвета, цвета игрушек, цвета всего, что блестит, и заново открыть для себя эти давно подавляемые детские вкусы – крестьянские вкусы, которые выливаются здесь, как и в остальных частях Индии, в мишуру, в цветные лампочки и прочую чепуху, которая когда-то манила всех нас. В этих стесненных дворах, в закоулках с грязными сточными канавами, царили яркие краски и цветистые узоры на коврах, пледах и мягких шалях. Эти краски и узоры пришли из Персии, прижились в Кашмире во всей своей пышности, во всем разнообразии, а теперь их величавая красота без разбору растрачена и на ковер ценой в две тысячи рупий, и на старое одеяло, которое после починки можно сбыть рупий за двенадцать. Посреди этой средневековой грязи и серости красота и являлась цветом: ею одинаково восхищались, будь она заключена в прекрасном ковре, в горшке с пластмассовыми маргаритками или – как было некогда в Европе – в вычурном наряде.
Таким же дополнением, как цвет, служило веселье. Зимой город спал. Туристы уезжали, гостиницы и плавучие дома закрывались, а кашмирцы, удалившись в свои темные комнаты с маленькими окошками, заворачивались в одеяла и дремали над угольными жаровнями до самой весны. А весной появлялись солнце, пыль и ярмарки: яркие краски, шум и выставленная на лотках еда. Кажется, почти каждые две недели в какой-нибудь части долины устраивалась ярмарка. И одна ярмарка походила на другую. На каждой можно было увидеть продавца картинок с разложенным на земле товаром: настенные свитки с пестро раскрашенными рисунками, изображающими индийские и арабские мечети – желанные объекты паломничества, в распластанном виде предстающие в неверной перспективе; фотографии кинозвезд; цветные портреты политических вождей; бесчисленные книжицы в бумажных обложках. Торговали там дешевыми игрушками и дешевой одеждой; были там чайные палатки и лотки со сластями. В пыли сидел индус – садху, а перед ним стоял ряд маленьких сухих пузырьков с колдовскими снадобьями из «тритоньих глаз и собачьего языка». И всегда там звучала музыка из усилителей. И на озере – теперь ставшем местом отдыха не только туристов, но и горожан, – тоже звучала музыка: она долетала с душ– небольших некрашеных барж, которые нанимали вместе с кухарками и с багорщиком. Тот медленно ходил взад-вперед мимо кают, то неся багор в руке, то опираясь на него, не участвуя в веселье пассажиров, но, похоже, оставаясь довольным; женщина (возможно, его жена) в грязной пышной юбке, увешанная тяжелыми серебряными украшениями, одиноко сидела на высокой корме и правила длинным веслом. Это было движение ради движения. Дунги не плыли в каком-то определенном направлении и никогда не удалялись от берега настолько, чтобы не услышать крика из садов или прибрежных домов; они и причаливали к берегам, вставали там на ночлег. Такое празднество на дунге могло длиться несколько дней кряду: люди могли сойти на берег в одном месте, если того требовали их дела, а потом вновь вернуться на лодку уже в другом месте. Мне такое развлечение казалось скучным, утомительным; но мои зимы были заполнены. Пиком сезона стала ярмарка в роще Гандербала, в нескольких милях к северо-западу. Все дунги и шикары поплыли туда и остались там на ночь: движение ради движения, толчея ради толчеи, шум ради шума.
И в этом средневековом городе, как во всех средневековых городах, людей окружали чудеса. Среди этих чудес в Шринагаре были сады могольских императоров. Павильоны давно пришли в запустенье, но еще не разрушились. По воскресеньям фонтаны в Шалимаре все еще били, хотя то здесь, то там торчала погнутая или сломанная форсунка. Но местные зодчие давно уже шагнули за пределы истории – в область легенды: они превратились в сказочных персонажей, о которых мало что известно – кроме того, что они были оченькрасивы, или оченьсмелы, или оченьмудры, а жены их были оченькрасивы. «Это?» – переспрашивал кашмирский инженер, показывая рукой на форт Акбара на озере Дал, выстроенный в конце XVI века. «Этой крепости пять тысяч лет». В мечети Хазратбал на берегу озера хранился волосок из бороды пророка Мухаммеда. Как сообщил мне студент-медик, его доставил в Кашмир, пройдя через неслыханные опасности, «один человек». Что за человек? Что он делал? Откуда он пришел? Мой студент не мог ответить на эти вопросы; он знал лишь то, что однажды, когда тому человеку угрожала особенная опасность, он рассек себе руку и спрятал священный волосок в сделанный надрез. То была подлинная реликвия, сомнения излишни. Она обладает таким могуществом, что птицы никогда не пролетают над приделом, в котором она хранится, а коровы, священные для индусов твари, никогда не усаживаются спиной к этому приделу.
Бог печется о них обо всех, и они отвечают экстазом. Мухаррам – месяц мусульманского календаря, первые десять дней которого шииты оплакивают гибель Хусейна, внука Мухаммеда, убитого в Кербеле. По ночам их завывания и песнопения долетали до нас над водой. Азиз – суннит – с ухмылкой говорил: «Шииты не мусульмане». Но на седьмое утро, когда по радио рассказывали знаменитую историю событий в Кербеле, на глаза Азиза навернулись слезы, лицо его скукожилось, и он выбежал из столовой, сказав: «Не могу больше. Я не любить слушать».
В Хасанбаде ожидалось шиитское шествие – там люди будут хлестать самих себя цепями. Азиз, справившись с утренним наплывом чувств, настойчиво предложил нам посмотреть на эту процессию и все устроил. Мы добирались туда на шикаре, быстро скользя по заплывшим тиной водяным путям озерного города – под нависающими ветвями ив, мимо грязных дворов, которые завершались бетонными ступеньками с канавами, стекавшими по бокам, где сидели и стирали белье мужчины, женщины и дети. Среди них, к своему огорчению, я увидел и нашу прачку. Эти водные пути были омерзительны, смердели сточными канавами, но из каждого двора выбегали дети – эти миниатюрные взрослые – и приветствовали нас: «Селям!»
В Хасанбаде мы пришвартовались среди десятков других шикар (у многих из них были великолепные балдахины), прошли мимо фундамента каких-то развалин, о которых никогда раньше не слышали, и очутились посреди пыльной летней ярмарки. Улицы были выметены, поливальные машины прибивали остатки пыли. Всюду стояли навесы и торговые лавки. Состоятельные женщины в толпе были закутаны в черные или коричневые покрывала с головы до самых ног в хорошей обуви; они стояли кучками, по две или по три, и мы ощущали на себе их пристальные взгляды из-за сетчатых решеток в чадрах. А вот бедные женщины обходились без покрывал: здесь, как и везде, консерватизм и правильность – привилегия людей, обретающих вес. Мы прошли мимо мужчины с дочерью; он давал ей поиграть с кнутом – пока еще не пущенным в дело.
За этой открытой, почти деревенской дорогой лежала узкая главная улица. Здесь толпа стала гуще. На многих мужчинах были черные рубашки; какой-то мальчишка нес черный флаг. Вскоре мы увидели нескольких флагеллантов. Одежда на них засохла от крови. Шествие еще не началось, и они праздно бродили туда-сюда по середине дороги, между восхищенными толпами людей, пихавшими тех, кто завтра, наверное, снова будет помыкать ими. В верхних выступающих этажах узких домов каждое кривое оконце, по-кашмирски крохотное, служило рамой для средневековой картины: внимательные лица женщин и девушек (девические – свежие, а женские – бледные от длительного затворничества), четко проступающие на фоне резкой черноты оконного проема. Внизу, на запруженной дороге, стояли грузовики, набитые полицейскими. Под прилавком мясника мальчишки мучили щенков; мы слышали, как они их пинали (странно, до чего громкий звук может исходить от таких крошечных телец); мы слышали тявканье и скуление. Разносчики выкликали товар, гудели застрявшие в людском потоке машины. И надо всем этим лилась усиленная микрофонами (в Индии микрофон – неизбежность) проповедь муллы, излагавшего события в Кербеле. В его голосе слышались сдерживаемая мука и истерия; временами казалось, что он вот-вот сорвется, но он всё говорил и говорил. Мулла вещал из-под навеса, натянутого над улицей; он был скрыт за толпой, из гущи которой кое-где торчали цветные флажки.
Появлялось все больше флагеллантов. Спина у одного из них была непристойно искромсана; еще свежая кровь стекала по его штанам. Он быстро расхаживал туда-сюда, нарочно наталкиваясь на людей и хмурясь, словно его обидели. С его пояса свисал кнут. Кнут этот состоял из шести металлических цепочек длиной около полуметра, и каждая цепочка заканчивалась маленьким окровавленным лезвием; свисая вот так с пояса, кнут походил на мухобойку. Такими же тревожными, как эта кровь, были и лица некоторых шиитов. У одного не было носа – только две дырочки в треугольнике розового крапчатого мяса; у другого были гротескно выпученные, налитые кровью глаза; у третьего не было шеи – из-под щек сразу вырастала грудь. В их поступи чувствовалась гордость; они вели себя как занятые люди, которым не до пустяков. Некоторые из окровавленных одежд вызывали у меня подозрение. Иные из них казались чересчур сухими: может быть, они остались с прошлого года, может быть, их одолжили у кого-нибудь, а может быть, вымазали кровью животных. Но в честности человека, чья почти лысая голова была перевязана, а из-под бинтов струилась кровь, усомниться было невозможно. В крови заключалась слава: тот, кто исполосовал себя сильнее других, заслуживал большего внимания.








