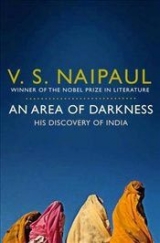
Текст книги "Территория тьмы"
Автор книги: Видиадхар Найпол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
– Это, – произнесла она с ощутимым смущением, – мой муж.
Я ожидал увидеть человека более измученного, более изможденного. Он оказался мужчиной среднего роста, крепкого телосложения, с округлым лицом с грубоватыми чертами. Я ожидал увидеть бесноватого, дерзкого человека. А он оказался чудовищно застенчивым, с сонными глазами; у него был такой вид, словно его застигли за курением, и он пытался спрятать зажженную сигарету за спиной и одновременно проглотить дым, не закашлявшись. Он был музыкантом и индийцем: я ожидал увидеть длинные волосы и белую рубаху с широкими рукавами, а не эту по-армейски короткую стрижку и сшитый у индийского портного желтый костюм.
Не таким я представлял себе человека, который заставлял свой ситар рыдать за него по ночам; передо мной стоял всего лишь такой человек, который не хотел, чтобы о его женитьбе узнали другие. Бедный Рафик! Он приехал в Кашмир просто отдохнуть; он уезжал отсюда измученным, обнищавшим, женатым. Раньше я думал, что страсть – это дар, особая способность, которой разные люди наделены в неравной степени. А сейчас мне подумалось, что это нечто такое, что, при сложном стечении обстоятельств, может настигнуть каждого из нас.
Он по-военному пожал мне руку. Вытащил из внутреннего кармана невзрачную авторучку и гладким, секретарским почерком записал свой адрес – теперь и адрес Ларэйн, теперь Зенобии.
– Обязательно приезжай в гости, – сказала она. – Приезжай как-нибудь к нам на ужин.
Потом они исчезли за занавешенным дверным проемом, и я больше никогда не видел Рафика.
* * *
Нам тоже пора было паковать вещи и уезжать, прощаться и с горами, и с нашей комнатой, выходившей на две стороны света. Стебли тростника побурели; под вечер по главным водяным путям проплывали шикары, груженные срезанным тростником. А подсолнухи – их стебли сделались совсем толстыми, и птицы клевали семечки из черных, выжженных цветочных сердцевин, – однажды срезали все до единого и сбросили кучкой возле кухни. Теперь сад выглядел голым и опустошенным, а культи подсолнухов были белыми, как древесные пеньки.
Как-то вечером Азиз пригласил нас на ужин в свой высокий кирпичный дом на озере и самолично отвез нас туда (прихватив накрытый салфеткой кувшин с водопроводной водой из гостиницы). Ночь, фонарь на шикаре, тишина; дом, к которому мы подплывали по водному переулку, между плакучими ветвями ив; и Азиз, державшийся с какой-то старомодной учтивостью. Мы ели, сидя на полу в комнате наверху, откуда вынесли всю мебель и удалили всех людей, о чьем присутствии мы, впрочем, догадывались по близкому шепоту и по шорохам; Азиз сидел перед нами на коленях и беседовал – уже не гостиничный слуга, но гостеприимный хозяин: важный, независимый, человек состоятельный, человек с убеждениями и, наконец, – когда появились женщины с младенцами – ответственный семьянин. Стены дома были толстыми, уютно закопченными, в них имелось-множество сводчатых ниш; окошки были маленькие. Эта комната обещала и праздность, и тепло от угольных жаровен зимой, когда озеро замерзнет, покрывшись таким прочным льдом, что по нему сможет проехать джип: мы будем следить за сводками погоды в Шринагаре.
После нашего последнего ужина в гостинице мистер Батт собрал для церемонии раздачи чаевых весь персонал: Азиза, Али Мохаммеда, повара, садовника, мальчишку-разнорабочего. Свадьба их разочаровала; я надеялся, что не разочарую их еще больше: на их улыбчивых лицах читалась вера в том, что эпоха стиля еще не закончилась. Они принимали мои подарки и мои отпечатанные характеристики с изящными мусульманскими жестами; они продолжали улыбаться. Быть может, они просто проявляли вежливость; быть может, они научились приспосабливаться к измельчавшей эпохе. Но Азиз был действительно доволен. Я догадался об этом по тому равнодушному движению, каким он сунул мои деньги, вначале оценив полученную сумму, в карман. Он принял хмурый, деловитый вид, как человек, обремененный нескончаемыми обязанностями: деньги для него сейчас менее важны, чем наведение порядка в столовой. Он расслабится, как только выйдет отсюда; все остальные тоже расслабятся. И позже, вечером, придя на кухню, чтобы последний раз посидеть у кальяна, я застал их всех врасплох: они хихикали над характеристикой, которую я написал – довольно прилежно – для мальчика-чернорабочего.
Мы уезжали ранним утром. Мистер Батт отвез нас на лодке к приозерному бульвару. Еще не рассвело. Гладь воды была неподвижна; на бульваре нас ждала тонга. Мы проехали мимо запертых плавучих домов, мимо лотосовых клумб. На балюстраде бульвара какой-то мужчина занимался гимнастикой. Покатая крыша над двуколкой опускалась очень низко – нам приходилось нагибаться, чтобы увидеть озеро и горы. Город собирался с минуты на минуту проснуться, а возле Центра приема туристов, когда мы до него доехали, царило адское оживление.
– Три рупии, – сказал кучер тонги.
За четыре месяца я пришел к взаимопониманию с кучерами приозерных тонг и никогда не платил больше рупии с четвертью за поездку в город. Но сейчас случай был особый. Я протянул кучеру две рупии. Он даже не притронулся к купюрам. Я не стал предлагать ему больше. Он пригрозил мне кнутом, и я обнаружил, к собственному удивлению – наверное, час был слишком ранний, – что вцепился ему в горло.
Азиз вмешался.
– Он не турист.
– О! – сказал кучер.
Он опустил руку с кнутом, я выпустил его горло.
Наши места в автобусе были заказаны заранее, но все равно нужно было протискиваться, пихаться и кричать. За нас протискивались и кричали Азиз и Али Мохаммед, а мы отступили к краю толпы.
И тут мы заметили Ларэйн-Зенобию.
Она была одна и близоруко щурилась на автобусы. На ней была юбка шоколадного цвета и кремовая блузка. Она выглядела похудевшей. Она не обрадовалась, увидев нас, и мало что захотела сообщить. Сказала только, что все-таки отправляется в свой индуистский ашрам; потом поедет к мужу. А сейчас ей было некогда – она разыскивала свой автобус. Это был автобус компании «Радхакишун», но она превратила это слово в «Радха-Кришну»: мыслями она все еще витала в индуистских легендах. Кришна был черным богом, а Радха – белой пастушкой, с которой он водил шашни.
Так, спрашивая у всех про Радха-Кришну, всматриваясь в таблички с номерами на автобусах, она растворилась в толпе.
Места наши были найдены, наши сумки закреплены на крыше автобуса под брезентом. Мы пожали руки Азизу и Али Мохаммеду и вошли в автобус.
– Вы не беспокоиться о кучере, – сказал Азиз. – Я все уладить. – На глазах у него показались слезы.
Завелся мотор.
– О кучере?
– Вы не беспокоиться, саиб. Правильная цена три рупии. Я заплатить.
Водитель уже сигналил.
– Правильная цена?
– Утренняя цена, саиб.
Он был прав – я это понял.
– Две рупии, три рупии, какая разница? До свиданья, до свиданья. Вы не беспокоиться.
Я стал шарить в карманах.
– Не беда, саиб. До свиданья!
Я просунул ему несколько рупий в окно.
Азиз взял их. По его щекам текли слезы. Но даже и в этот миг я не был до конца уверен, что он когда-либо был моим.
* * *
На ней была юбка шоколадного цвета и кремовая блузка. Рафик навсегда запомнит эту одежду; наверняка он видел накануне, как она вывешивает ее на спинке стула. После того утра он больше ее не видел. Она поехала в свой ашрам – а потом вообще уехала из Индии. Он писал ей; она отвечала; потом его письма стали возвращаться нераспечатанными. Ее родители давно расстались и жили в разных странах. Один из них встал на сторону Рафика, другой был против него. Рафик продолжал писать. Спустя много месяцев он все еще горевал.
Но обо всем этом я услышал уже в другой приезд. А в почтовом отделении для корреспонденции до востребования, в другом городе меня ожидало такое письмо:
ОТЕЛЬ «ЛИВАРД»
Предварительные заказы
на Пешие походы, Охоту и Рыболовство
Домики в Гульмарге & Опытный Гид из Пахальгама
Влад.: М. С. Батт
Дорогой сэр, Позвольте выразить Вам признательность за любезность, оказанную 7 числа текущего месяца, а также сожаление, что Вам пришлось столкнуться с множеством неприятностей по пути к месту назначения, так как автобус, в котором Вы ехали, сломался. Рад был услышать, что Вы при этом благополучно достигли цели Его Милостью.
Я прекрасно понимаю, что виды Кашмира и прочие красоты наших мест не изгладятся у Вас из памяти. Желаю Вам снова побывать здесь, и тогда я буду рад снова служить Вам.
В Вашей комнате жил один человек из Бомбея и еще один из Дели.
Вся наша семья передает Вам наилучшие пожелания.
Надеемся, что это письмо застанет Вас в добром здравии и благодушном настроении.
Заранее Вам благодарный,
Искренне Ваш,
М. С. Батт
(Мохд. Сидик Батт)
Часть третья
8. Фантазия и руины
Британцы владели этой страной так безраздельно. Их уход был столь бесповоротен. А мне – даже спустя много месяцев – во всем, что напоминало об их присутствии, мерещилось нечто фантастическое. Я вырос в британской колонии и, казалось бы, должен был встретить здесь много знакомого. Но Англия ничуть не менее многолика, чем Индия. Англия, которая заявила себя на Тринидаде, отнюдь не была Англией, в которой я жил потом; и ни одну из этих стран нельзя было соотнести с Англией, послужившей источником столь многих вещей, которые я видел повсюду теперь.
Эта Англия встревожила меня с самого начала – с того мига, когда, сидя на катере, я увидел английские имена и названия на кранах в бомбейских доках. Отчасти это было беспокойство такого рода, какое мы испытываем – внезапным ощущением нереальности, когда на долю секунды мы утрачиваем способность к трезвому суждению, – при подтверждении диковинного, но давным-давно известного факта. Но для меня было в этом и еще кое-что. Это подтверждение разоблачало ту крошечную область самообмана, которая – вопреки знанию и самопознанию – оказалась живучей в части моего сознания, считавшей возможным существование белоснежных гималайских конусов на фоне холодного синего неба, какими они изображались на религиозных картинах в доме моей бабушки. Ибо в Индии моего детства – стране, которая в моем воображении была продолжением (обособленным от той чужеземщины, которая окружала нас самих) бабушкиного дома, – не было никакого чужеземного присутствия. Как можно было представить себе такое? Наш собственный мир, пускай явно угасающий, по-прежнему существовал обособленно; а отношения с англичанами, о которых мы на острове знали совсем мало, должны были казаться куда менее вероятным нарушением табу, нежели отношения с китайцами или африканцами, о которых мы знали больше. С этой чужеземщиной мы соприкасались ежедневно, – и, наконец, совершенно растворились в ней. Но при этом мы сознавали, что перемена произошла, что-то было выиграно, что-то утрачено. Мы сознавали, что нечто – некогда цельное – было унесено навсегда. Но что было цельным, так это представление об Индии.
Чтобы сохранить это представление об Индии как о стране, по-прежнему цельной, не требовалось замалчивать исторические факты. Их следовало признавать – и не замечать; и только в Индии я сумел разглядеть в таком подходе часть индийской способности к отступлению, способности искренне не видеть очевидного: для других такой подход стал бы почвой для невроза, но для индийцев он лишь естественно входил в общую философию отчаяния, которая вела к бездействию, отстраненности, принятию. Лишь теперь, когда раздражение наблюдателя растворилось в процессе письма и копания в собственной душе, я понял, до какой степени я сам придерживался подобной философии. Ведь это она позволяла мне, долго живя в Англии и подвергаясь разного рода давлению, полностью устраняться от понятий о национальной принадлежности и испытывать привязанность лишь к отдельным людям; это она внушала мне, что достаточно быть лишь самим собой, своей работой, своим именем (а ведь последние так отличаются от первого); это она убедила меня, что каждый человек – остров, и приучила меня старательно оберегать все хорошее и чистое, что было во мне, от порчи причин.
А потому, наверное, я должен был сохранять покой, встречая напоминания об этой Англии в Индии. Но они обличали один тип самообмана как самообман; и хотя это происходило в той части сознания, где фантазия была допустима, такое разоблачение оказалось болезненным. Это была встреча с унижением, какого я никогда прежде не знал, и, пожалуй, я чувствовал его гораздо острее, чем те индийцы, что торопливо шагали по улицам с невероятными английскими названиями, в тени имперски-помпезных зданий; так, наверное, другие могли бы ощутить за меня колониальное унижение, которого я сам на Тринидаде не чувствовал.
Я никак не мог соотнести колониальную Индию с колониальным Тринидадом. Тринидад был британской колонией, но каждый ребенок понимал, что наш остров – лишь крохотная точка на карте мира, а значит, принадлежать Британии очень важно: эта связь, по крайней мере, надежно скрепляла нас с более обширной системой. Мы не ощущали, что эта система угнетает нас; и хотя мы являлись британцами – и в политическом отношении, и в области ведомств и образования, – мы находились в Новом Свете, наше население было чрезвычайно смешанным, самих англичан было мало, и они в основном общались между собой, а потому Англия была для нас всего лишь одна из стран, в чьем существовании мы отдавали себе отчет.
Это была страна во многом неизвестная; образованный островитянин мог еще развить в себе вкус ко всему английскому. Для большинства же куда важней была Америка. Англичане делали хорошие крошечные машины для внимательных водителей. Американцы делали настоящие автомобили, они же снимали настоящее кино и поставляли миру лучших певцов и лучшие оркестры. Американские фильмы рассказывали о понятных всем чувствах, их юмор был всем доступен. Американское радио было современным и великолепным, к тому же акцент воспринимался легко; а вот новости Би-Би-Си можно было слушать в течение пятнадцати минут – и не разобрать ни единого слова. Американские солдаты любили толстых уличных шлюх – чем чернее, тем лучше; они заталкивали их в свои джипы и разъезжали от одного клуба к другому, соря деньгами; их всегда можно было втянуть в драки с неравной расстановкой сил. Американцы были людьми, общение с которыми оказалось возможным. Рядом с ними британские солдаты выглядели иностранцами. На Тринидаде им никак не удавалось найти верный тон. Они вели себя или чересчур шумно, или чересчур скованно; они говорили на своем странном английском; они называли самих себя «чуваками» (однажды это даже послужило темой новостного сообщения в « Тринидад-гардиан»), не зная, что на Тринидаде слово «чувак» имеет оскорбительный оттенок; их форма, в особенности шорты, смотрелась уродливо. У них было мало денег и отсутствовало чувство приличия: можно было увидеть, как они покупают в сирийских лавках дешевое женское белье. Такой в расхожем представлении была Англия. Разумеется, имелась и другая Англия – та, что поставляла нам губернаторов и высших государственных чиновников, – но она находилась слишком далеко, чтобы вписываться в действительность.
Мы являлись колониальными жителями на особом положении. Британская империя в Вест-Индии существовала давно. Это была морская держава и, если не считать нескольких площадей да гаваней, оставила по себе мало памятников; а поскольку мы находились в Новом Свете – до 1800 года Тринидад был практически незаселен, – то казалось, что эти памятники относятся к нашему доисторическому прошлому. В силу самой своей давности империя перестала выглядеть неуместной. Требовался несколько отстраненный взгляд, чтобы увидеть, что все наши учреждения и сам наш язык – плоды империи.
Англия, которую я находил в Индии, была совершенно иной. Сразу бросалась в глаза неуместность ее навязанного присутствия. Форт Святого Георгия – серый, тяжеловесный, свидетельствующий об английских вкусах XVIII века, знакомых по однодневным ознакомительным поездкам, – никак не сочетался с мадрасским пейзажем; в Калькутте дом с широким передним фасадом и колоннами – его показывали как дом Клайва [51]51
Роберт Клайв (1725–1774) – чиновник Ост-Индской компании; полковник, командовавший британскими войсками при захвате Калькутты для охраны торговых интересов компании в Бенгалии. В 1757 году он возглавил армию наемников-сипаев, и его победа над бенгальцами фактически положила начало британскому правлению в Индии.
[Закрыть], – стоявший на запруженной машинами дороге к аэропорту Дум-Дум, явно требовал не столь экзотического окружения. А поскольку следы этой империи по-прежнему выглядели неуместными, то их возраст, хоть он и был моложе, чем возраст той же империи в Вест-Индии, поражал: казалось бы, эти памятники XVIII века должны смотреться наносными новшествами – но тут ты своими глазами видел, что они уже стали неотъемлемой частью этой страны, изобилующей чужими руинами. Такова была одна грань индийской Англии; она принадлежала истории Индии; и она была мертва.
Особняком от нее стояла Англия Раджа. Эта Англия была все еще жива. Она по-прежнему жила в разделении главных городов на «казармы», «гражданские кварталы» и базары. Она жила в общих трапезах армейских офицеров, в серебре, которое так часто дарили, так почтительно начищали и выставляли напоказ, в униформах, усах и офицерских тросточках, в армейских манерах и жаргоне. Она жила в коллекторатах, в поблекших чернилах и аккуратном почерке, которым описаны все земельные владения, которые могли бы составить «Книгу страшного суда» [52]52
Domesday (1086), кадастровая книга Вильгельма Завоевателя.
[Закрыть]субконтинента: все это вызывало в воображении нескончаемые дни, проведенные верхом на лошади, под раскаленным солнцем, со множеством слуг, но без особых житейских удобств, и вечера, полные кропотливого труда. («Этот труд утомил их, – сказал мне молодой чиновник Индийской административной службы. – После него они уже не в силах были заниматься ничем другим».) Она жила в клубах, утренней игре в бинго по воскресеньям, желтых обложках заграничных изданий «Дейли-миррор»в ухоженных руках индианок из среднего класса; она жила в танцполах городских ресторанов. Это была Англия куда более полнокровная, нежели мог себе вообразить любой выходец с Тринидада. Она была более помпезной, созидательной и вульгарной.
И все-таки было в ней что-то фальшивое. Для меня в ней всегда было что-то фальшивое и у Киплинга и других писателей; было в ней что-то фальшивое и теперь. Может быть, это была смесь Англии с Индией? Может быть, мое колониальное, тринидадско-американское, англоязычное предубеждение не давало мне принять за чистую монету это наложение – без видимой конкуренции – одной культуры на другую? С одной стороны, я ощущал, что это слияние Англии и Индии насильственно; с другой же, видел в нем нечто смехотворное – из-за комичного смешения костюмов и повсеместного использования плохо усвоенного языка. Но было тут и что-то еще – нечто такое, на что намекала архитектура эпохи Раджа: все эти коллектораты, под сводами которых покоились плоды колоссальных усилий, эти клубы, эти здания для выездных судов и инспекторов, эти залы ожидания первого класса на железнодорожных вокзалах. Все эти помещения были чересчур просторны, их потолки – чересчур высоки, их колонны, арки и фронтоны – чересчур напыщенны; они не принадлежали ни Англии, ни Индии; они были слишком помпезны, если учесть их предназначение, как и слишком помпезны, если учесть ничтожество, нищету и беспросветность, на фоне которых они возвышаются. Они говорили скорее о стремлении к усердию, нежели о самом усердии. Они кричали о своей чуже-родности и действительно были более чужеродными, нежели более ранние британские здания, многие из которых выглядят так, словно их целиком перевезли сюда из Англии. Они породили такую скукотищу, как мемориал Виктории в Калькутте и дары лорда Керзона Тадж-Махалу, – скукотищу, которая сама сознавала, что становится предметом насмешек, однако исходила из уверенности в том, что все эти насмешки безболезненно снесет. Попадая в такие здания, я испытывал замешательство; похоже, они все еще старались навязать свое отношение и тем, кто находился внутри, и тем, кто оставался снаружи.
Все это можно найти у Киплинга – и это возбраняет написание эпилога к индийскому наследию. Совершать путешествию в Индию вовсе не обязательно. Не найти писателя более честного и точного: ни один другой писатель не рассказывал так много о себе самом и о своем обществе. Он оставил нам Англо-Индию; чтобы заново населить эти обломки Раджа, достаточно лишь почитать его книги. Мы находим в них людей, прекрасно сознающих свои роли, сознающих свою власть и свою обособленность – и в то же время боящихся показывать, насколько им отрадно такое положение: все они обременены обязанностями. Обязанности эти вовсе не выдуманные; но в целом выходит так, что все эти люди притворяются. Все они – актеры: они прекрасно знают, чего от них ожидают, и никто добровольно не откажется от такой игры. Киплинговский управляющий, почтительно именуемый саибом и хазуром, окружаемый со всех сторон сказочной страной, является как бы изгнанником – измученным, гонимым, не встречающим понимания ни у начальства, ни у туземцев, которых он тщится облагородить; и, говоря от его лица, Киплинг воздвигает целые горы притворного гнева и может даже достигать притворно-агрессивной жалости к себе: настоящий театр в театре.
На родине они, другие мужчины, во всем равные нам, имеют в своем распоряжении все городские радости: уличный шум, огни, приятные лица, миллионы себе подобных, толпы хорошеньких англичанок со свежими лицами… А нас лишили всего это наследства. На родине люди наслаждаются всем этим, даже не сознавая своего счастья и богатства.
Довольство самим собой кокетливо скрывается за жалобами, чтобы тем лучше проявиться: такова женская нотка клубного писателя, который принимает ценности своего клуба и искренне смотрит на членов клуба их собственными глазами. Именно такой тон очень точно описала Ада Леверсон [53]53
Ада Леверсон (1862–1933) – английская писательница, которой Оскар Уайльд дал прозвище «Сфинкс».
[Закрыть]в своем романе «На крючках», опубликованном в 1912 году:
«У меня все время такое чувство, будто он [Киплинг] окликает меня по имени, не будучи представленным, или как будто предлагает мне поменяться шляпами… Насколько же пугающе хорошо он знаком со своими читателями».
«Но вы считаете, что от своих персонажей он держится на почтительном расстоянии?»
Конечно, называя Киплинга «клубным писателем», мы употребляем веское слово. Клуб – это один из символов Англо-Индии. В книге «Кое-что о себе»Киплинг рассказывает, как в Лахоре он каждый вечер приходил ужинать в клуб и встречал там людей, которые только что прочитали то, что он написал накануне. Он видел в этом ценный дисциплинирующий опыт. Одобрение клуба было для него очень важно: он ведь писал о клубе и для клуба. И в этом состоит его особая честность, его достоинство как поэтического летописца Англо-Индии. Но в этом же кроется и его особая уязвимость: ведь, применяя к клубу исключительно ценности клуба, он тем самым разоблачает и клуб, и самого себя.
Его сочинения составляют одно целое с архитектурой эпохи Раджа; и в этой имперской оболочке мы находим не карикатуры из биллиардных залов и не любовь жителей пригорода к романам, как в клубах местного значения, а миссис Хоксби – эту остроумицу, королеву, манипуляторшу и визитную карточку Шимлы. Как она страдает от щедрости, наградившей ее всеми качествами, о которых она сама мечтала! Ее остроумие – это не остроумие вовсе; и сегодня чувствительность ее поклонников кажется нам чуточку провинциальной, чуточку тоскливой. Однако сам этот круг – королева, придворные, шут, – безупречен; создано нечто такое – одобряем мы его или нет, – благодаря чему люди могут жить в особенных обстоятельствах; а потому кажется немыслимой жестокостью указывать на его фальшь. Только таким образом – на личном уровне – и можно откликаться на Киплинга. Слишком он честен и великодушен, слишком бесхитростен и слишком талантлив. Сама его уязвимость смущает: критика, на которую он напрашивается, кажется проявлением жестокости с нашей стороны. Мистер Сомерсет Моэм уже разделался с притязаниями миссис Хоксби. Как-то раз она сказала про голос другой женщины, что он напоминает ей скрежет тормозов поезда подземки, когда он подъезжает к станции Эрлз-Корт. Если миссис Хоксби действительно является той, за кого выдает себя, заметил мистер Моэм, то ей нечего делать в Эрлз-Корте; и уж во всяком случае, она не стала бы ехать туда на подземке. У Киплинга можно найти еще много такого, с чем можно вот так разделаться. Люди и вправду представлялись ему крупнее, нежели были на самом деле; да и они – быть может, не так уверенно, – представлялись себе крупнее, нежели были. Они жили с оглядкой друг на друга; фантазия, костенея, перерастали в убежденность. А нам время давно уже выдало их с головой.
* * *
Из Дели в Калку идет ночной поезд; от Калки можно добираться до Шимлы или по автомобильной дороге, или по узкоколейной, почти игрушечной железной дороге, которая извивается, поднимаясь в гору. Я ехал по автомобильной дороге, в компании молодого чиновника Индийской административной службы, с которым познакомился в поезде до Калки. Он с грустью рассказывал о том, в какой упадок пришел город после 1947 года. Для него, как и для всех индийцев, миф был реальностью. Слава Шимлы составляла часть индийского наследия, которое безрассудно проматывалось: теперь по всему городу завелись лавки, торговавшие бетелем. Пока мы разговаривали, из задней части фургона доносились какие-то шорохи – чиновник вез ручных птиц ткачиков. Они сидели в большой крытой клетке, и когда шорох переходил в яростную возню, мой попутчик начинал квохтать, ворковать и ласковым голосом говорить с клеткой. Время от времени мы видели, как игрушечный поезд выезжал из игрушечного тоннеля. Стояла морозная середина января, но из открытых окон высовывались пассажиры в одних рубашках, как будто свято верившие, что в Индии всегда лето.
И вначале мне показалось, что тот чиновник прав, что киплинговский город пришел в окончательный упадок. Было сыро и холодно; узкие улицы покрывала грязь; в гору поднимались босые низкорослые люди с тяжелыми грузами, привязанными к спинам; их шапочки вызывали в памяти Кашмир и тех носильщиков-оборванцев, которые с криками гонялись за всеми автобусами, приезжавшими в курортные деревеньки. Неужели здесь когда-то царило обаяние роскоши? Но ведь точно так же дело обстояло с любым из индийских пейзажей, знакомых по книгам. Обман, думал ты сначала; а потом – упадок. Но стоило только фигурам, оказавшимся на первом плане, отпечататься в памяти, а потом отойти, исчезнуть из поля зрения, – и видение делалось таким же избирательным, как бывает, когда ты оказываешься в темной комнате, заставленной знакомыми предметами, и твои глаза постепенно привыкают к темноте.
Поле зрения сужалось – и Шимла медленно проступала: город, построенный на ряде горных хребтов, сеть перекрещивающихся улиц, в которых легко потеряться. В моем воображении аллея была широкой и прямой – в жизни она оказалась узкой и извилистой. Через каждые несколько метров попадались на глаза таблички, воспрещавшие плевать; но тут повсюду действительно были лавки, торговавшие бетелем, как и говорил чиновник ИАС, и все улицы были заплеваны красным соком от бетелевой жвачки. В витринах фотоателье красовались выцветшие фотографии англичанок, одетых по моде тридцатых годов. И это были не просто реликвии: дела в ателье шли бойко. Но в Индии все наследуется, ничто не упраздняется; все вырастает из чего-то другого: вот и сейчас аллея перешла под конторы – снабженные крикливыми вывесками – администрации Химачал-Прадеша, чиновники которой разъезжали по здешним узким переулкам на зеленых «шевроле» конца сороковых годов: упадок среди упадка. Солнце садилось за горы; холод становился все ощутимее. Тревожащие фигуры скрылись, впечатление базара исчезло. Горный хребет сверкал электрическими огнями, и в этой залитой светом фонарей темноте центр города проступал еще более четко: английский городок сказочной страны, архитектура в ложно-ложных стилях, огромное церковное здание, утверждающее чуждую веру, лавочки с убогими фасадами и нарядными остроконечными крышами, из окон которых вполне могли бы выглядывать люди в ночных колпаках и ночных сорочках, с фонариками или свечами в руках. Все это высокопарным языком говорило о камерности и уюте, в действительности никогда не существовавших. Баснословная выдумка, порождение фантазии, опиравшейся на такую самоуверенность, которой нельзя было не восхититься. Но не этого я ожидал. Мое разочарование было разочарованием такого рода, какое испытываешь на мгновенье, когда, прочитав о доме в Комбрэ, мы видим фотографию дома в Илье. Образ правильный; но сам взгляд – детский, мифотворческий. Ни один город, ни один пейзаж не обретает истинного существования до тех пор, пока ему не придаст обаяния мифа какой-нибудь писатель, художник или связь с каким-то великим событием. Шимла навсегда останется кип-линговским городом: это детская мечта о Доме, волшебная страна вдвойне. Индия все искажает и увеличивает; в эпоху Раджа она увеличила то, что и без этого уже превратилось в фантазию. Это и уловил Киплинг; в этом и заключается его неповторимость.
Ночью выпал снег – первый снег за эту зиму. Утром гостиничный слуга, будто волшебник, объявил: «Барф!Снег!» и откинул занавески. Я увидел долину, белую от снега и влажную от тумана. После завтрака туман рассеялся. С крыш капало; вороны каркали и перепархивали с сосны на сосну, стряхивая снег с веток; далеко внизу лаяли собаки, и доносился шум пирушки. На правительственных щитах с надписью «Химачал-Прадеш» (сладостное имя: Снежный Штат) картинно, будто на рождественских открытках, лежал снег. По Аллее сновало множество отпускников, совершавших утренний променад. Внизу во многих местах снег еще лежал толстым покровом. Мы покинули Шимлу, и, по мере того как она отодвигалась вдаль, словно взмывая к небу, снег становился все тоньше, больше походя на горсти соли, рассыпанные по твердой земле, а потом и вовсе исчез; и до самого Дели мы ползли сквозь густой и очень белый пенджабский туман, из-за которого опаздывали поезда и задерживались самолеты.
Чтобы понять, что такое та Англия XVIII века, которую можно застать в Индии, было необходимо воспринимать ее как часть Индии. Как англичанин, Уоррен Гастингс [54]54
Уоррен Гастингс (1732–1818) – генерал-губернатор всех территорий Ост-Индской компании в Индии с 1774 по 1785 г. Укреплял позиции англичан в стране, вел войны с местными народами.
[Закрыть]может быть понят, лишь с большим трудом; а вот как индиец, он вполне ясен. Но Радж – хотя он всецело принадлежит Индии – это часть Англии XIX века.
* * *
Вспомним Аделу и Ронни из романа «Поездка в Индию».Солнце заходит над майданомв Чандрапоре; они, повернувшись спиной к игре в поло, отходят в сторону, чтобы поговорить. Он приносит извинения за свою вспыльчивость, которой поддался утром. Она обрывает его извинения и говорит: «Я все-таки решила, что мы не поженимся, мой дорогой мальчик». Они оба взволнованны. Но оба сохраняют самообладание; не позволяют себе сказать ничего страстного или прочувствованного; и подходящий момент проходит. А потом Адела говорит:








