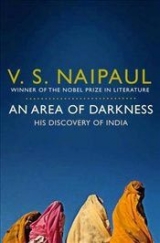
Текст книги "Территория тьмы"
Автор книги: Видиадхар Найпол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)
Он взглянул на меня. Голова у него была обрита, кроме пучка на макушке, лицо тощее, глаза горели. Мое нетерпение мгновенно переросло в тревогу. Монах, подумал я, монах: я как раз читал «Братьев Карамазовых».
– Я – Рамачандра Дуб, – сказал он. – Я вас вчера не увидел.
Я представлял себе его менее заискивающим, менее чахлым. Попытка улыбнуться не добавила его лицу теплоты. В углах губ собралась слюна – белая и вязкая.
В гостинице жило несколько кадетов ИАС. Трое из них подошли, чтобы выступить переводчиками.
– Я искал вас целый день, – сказал Рамачандра.
– Скажите ему, что я благодарен ему, – ответил я. – Но в этом не было нужды. Я же сказал там, в деревне, что еще вернусь. А впрочем, спросите у него, как он меня разыскал. Я ведь не оставлял своего адреса.
Он прошел несколько километров пешком; потом доехал до города на поезде; потом он обратился в секретариат и стал расспрашивать про чиновника НАС, который сопровождал человека с Тринидада.
Пока кадеты переводили, Рамачандра улыбался. Теперь я увидел, что его лицо – лицо не монаха, а скорее человека, страдающего от крайнего истощения; его глаза горели от болезни; он был болезненно худ. Он держал большой белый мешок и теперь с усилием перевалил его на мой стол.
– Я принес вам рис, выращенный на земле вашего деда, – сказал Рамачандра. – А еще я принес вам прасад —приношение из святилища, выстроенного вашим дедом.
– Что мне делать? – спросил я у кадетов. – Мне не нужно 14 килограммов риса.
– Он и не просит вас взять все. Возьмите несколько зерен. Но прасад возьмите весь.
Я взял несколько зернышек плохого риса, взял прасад – грязновато-серые шарики твердого сахара, – и положил их на стол.
– Я искал вас целый день, – сказал Рамачандра.
– Знаю.
– Я шел пешком, потом ехал на поезде, а потом бродил по городу и расспрашивал про вас.
– Благодарю вас за проявленную заботу.
– Я хочу встретиться с вами. Я хочу принять вас в своей бедной хижине и угостить вас.
– Я приеду в деревню через несколько дней.
– Я искал вас целый день.
– Знаю.
– Я хочу принять вас в своей бедной хижине. Я хочу поговорить с вами.
– Мы поговорим, когда я приеду в деревню.
– Я хочу увидеться с вами. Я хочу поговорить с вами. Я хочу сказать вам что-то важное.
– Мы поговорим, когда придет время.
– Хорошо. Сейчас я покину вас. Я искал вас весь день. Я хочу сказать вам что-то важное. Я хочу принять вас в своей бедной хижине.
– Я больше не могу все это слышать, – сказал я кадетам ИАС. – Попросите его уйти. Поблагодарите его и так далее, но попросите его уйти.
Один из кадетов передал то, что я сказал, добавив от себя много вежливых слов и выражений.
– Теперь мне пора уходить, – ответил Рамачандра. – Мне нужно добраться в деревню до темноты.
– Да-да, вам нужно вернуться домой до темноты.
– Но как я смогу поговорить с вами в деревне?
– Я привезу переводчика.
– Я хочу принять вас в своей бедной хижине. Я потратил целый день, чтобы разыскать вас. В деревне слишком много людей. Как я смогу поговорить с вами в деревне?
– А почему мы не можем поговорить в деревне? Неужели нам не удастся выставить его отсюда?
Кадеты начали подталкивать Рамачандру к двери.
– Я привез вам рис с поля вашего деда.
– Спасибо. Скоро уже стемнеет.
– Я хочу поговорить с вами, когда вы приедете.
– Мы поговорим.
Дверь закрылась. Кадеты ушли. Я улегся на кровать под вентилятором. Потом принял душ. Я вытирался, когда в запертое окно кто-то поскребся.
Это был Рамачандра – он стоял на веранде и пытался улыбаться. Я не стал звать никаких переводчиков. Мне не требовалось ничьей помощи, чтобы понять, что он говорит.
– Я не могу говорить в деревне. Там слишком много людей.
– Мы поговорим в деревне, – ответил я по-английски.
– А теперь возвращайтесь домой. Вы слишком много разъезжаете.
Знаками я убедил его отойти от моего окна. А потом быстро задернул занавески.
* * *
Прошло несколько дней, прежде чем я решился снова съездить в деревню. Поездка началась неудачно. Возникла какая-то заминка с транспортом, и мы смогли выехать только в середине дня. Продвигались мы медленно. В поселке у пересечения дорог был базарный день, и дорога была опасно запружена телегами, которые то ехали справа от шоссе, то без предупреждения перемещались на левую сторону, и их маневры были плохо видны из-за клубов пыли. Пыль была очень густой и непрерывно держалась в воздухе; она окутывала деревья, поля, деревни. Возникали дорожные заторы, телеги с грохотом сталкивались друг с другом, а возчики при этом вели себя так же равнодушно, как и волы.
На перекрестке царил сущий хаос. Я дышал пылью. Пыль забивалась в волосы, пыль забиралась под рубашку, тошнотворная пыль оседала на ногти. Мы остановились и стали ждать, когда дорога расчистится от повозок. А потом наш шофер куда-то пропал, забрав с собой ключ зажигания. Искать его было бесполезно: мы бы только понапрасну блуждали в пыли. Мы сидели в джипе и время от времени сигналили. Через полчаса шофер вернулся. Его ресницы, усы и напомаженные волосы осветлились от пыли, зато улыбка оказалась влажной и торжествующей: ему удалось купить овощей. Уже близился вечер, когда мы доехали до набережной; когда же мы добрались до деревни, то солнце уже садилось, преображая пыль в облака чистого золота, так что каждая человеческая фигура шагала внутри золотой ауры. Теперь эта земля не таила никаких страхов, никаких чудес. У меня было такое чувство, что я хорошо ее знаю. И все же некоторая тревога оставалась: в деревне жил Рамачандра.
Он ждал меня. Теперь на нем не оказалось мантии, в которой он явился в гостиницу. На нем было лишь дхоти да священная нить, и мне было невыносимо смотреть на его костлявое, хрупкое тело. Завидев меня, он сразу же принял экстатически-благоговейную позу: блестящая бритая голова запрокинута, глаза вытаращены, губы в чешуйках засохшей слюны плотно сжаты, обе руки-палки воздеты кверху. Вокруг нас уже собрались зрители – и он демонстрировал им, что я принадлежу ему. Лишь несколько секунд спустя он расслабился.
– Он говорит, что Господь послал вас ему, – сказал мой друг из ИАС.
– Посмотрим.
ИАСовец превратил мою реплику в официальное приветствие.
– Не желаете ли вы съесть что-нибудь в его бедной хижине?
– Нет.
– Выпейте хотя бы воды.
– Мне не хочется пить.
– Вы отвергаете его гостеприимство, потому что он – бедняк.
– Пускай думает так, если хочет.
– Хотя бы крошку еды.
– Скажите ему, что уже поздно. Скажите ему, что вам нужно расследовать ту растрату в Фонде национальной обороны, о которой вы мне рассказывали.
– Он говорит, что Господь послал вас ему сегодня.
– Если он будет продолжать в таком же духе, я долго не выдержу. Спросите его, зачем он хотел со мной встретиться.
– Он говорит, что не скажет вам, пока вы что-нибудь не съедите в его бедной хижине.
– Тогда скажите ему «До свиданья».
– Он предлагает вам удалиться в более укромное место.
И Рамачандра повел нас через свою лачугу в маленький мощенный плитами дворик, где его жена – та самая женщина, что плакала, схватившись за мои «вельдтшены», – сидела на корточках в углу с нарядно покрытой головой и делала вид, будто начищает медную утварь.
Рамачандра принялся вышагивать туда-сюда. Потом снова спросил: не желаю ли я поесть?
ИАСовец перевел ему мое молчание.
Поистине удивительно, сказал Рамачандра, что я приехал в деревню именно в это время. Так вышло, что сам он как раз попал в затруднительное положение. Он собирался затеять небольшую тяжбу, но та тяжба, которая только что закончилась, обошлась ему в двести рупий, и вот теперь ему не хватает денег.
– Но это же решает все трудности. Пускай забудет о новой тяжбе.
– Как же ему забыть о ней? Эта новая тяжба касается вас.
– Меня?
– Речь идет о земле вашего деда – о той самой земле, где вырос рис, который он вам привозил. Вот почему Господь прислал вас сюда. Участок вашего деда занимает всего девятнадцать акров, и часть этой земли будет потеряна, если он не сможет начать сейчас новую тяжбу. А если это случится, то кто будет ухаживать за святилищами вашего деда?
Я посоветовал Рамачандре забыть о тяжбе и о святилищах и сосредоточиться на девятнадцати акрах. Это ведь большой участок – на девятнадцать акров больше, чем у меня, – к тому же он может получить изрядную помощь от государства. Он знает, знает, ответил он снисходительно. Но его тело – он повернулся ко мне длинной костлявой спиной, и в этом движении я уловил гордость, – измождено; он предается религиозному аскетизму; он по четыре часа в день ухаживает за святилищами. К тому же он хочет затеять эту тяжбу. Да и много ли соберешь с девятнадцати акров?
Наш разговор пошел по кругу. От ИАСовца толку было мало: при переводе он смягчал все мои резкости. Открытый отказ не приносил мне избавления: он только давал Рамачандре повод начинать все сначала. Избавление мог дать только уход. И наконец, без лишних обиняков, я ушел, и в рощу за мной последовало множество деревенских мальчишек и мужчин.
Рамачандра тоже увязался за мной – улыбаясь, прощаясь, демонстрируя до последнего мига, что я принадлежу ему. Один из деревенских – по-видимому, его соперник, – видом покрепче, красивее и величавее, – вручил мне письмо и удалился; чернила на конверте еще не просохли. К джипу, заталкивая рубашку в штаны, подбежал какой-то мальчишка и попросил подвезти его в город. Пока Рамачандра излагал мне свои намерения относительно тяжбы, пока тот, другой, писал письмо, этот мальчишка успел быстро вымыться, одеться и приготовить узелок; одежда на нем была чистая, волосы еще блестели от влаги. Мой визит привел брахманов в бешеную активность. Они возомнили невесть что; я был ошеломлен; мне хотелось поскорее выбраться отсюда.
– Возьмем его? – спросил ИАСовец, кивая в сторону мальчишки.
– Нет. Пускай бездельник пройдется пешком.
Мы уехали. Я не стал махать на прощанье. Фары джипа пробили двумя отдельными лучами медленно оседавшую пыль ушедшего дня, которая, снова поднявшись в воздух от движения нашего автомобиля, встала заслоном от разбросанных огоньков удалявшейся деревни.
Так обернулось пустотой и раздражением, а закончилось бегством это добровольное проявление жестокости и самобичевания.
Бегство
Упаковать чемоданы после путешествия длиною в год, до ужина; поужинать; приехать в контору авиакомпании в десять часов, увидеть, что в декоративном фонтане нет воды, а крыловидный прилавок пуст, бирюзовый кафельный резервуар фонтана пуст, мокр и замусорен, лампы горят тускло, всюду беспорядочно разбросаны глянцевые журналы, а в углу возле весов с несчастным видом сидят со своими узлами пенджабские эмигранты; приехать в аэропорт, чтобы сесть на самолет, вылетающий в полночь; а потом ждать до трех часов утра, периодически подвергая себя кошмару индийской общественной уборной, – значит изведать тревогу, злость и наползающее оцепенение. Наступает такой миг, когда ночь уже вычеркивается – и ты ждешь утра. Минуты растягиваются; прошедшая ночь отступает в такую даль, как будто и не была всего лишь прошедшей ночью. Ясность сознания обостряется, но и сужается. Действия, совершавшиеся несколько минут назад, кажутся туманными и ни с чем не связанными, а когда вспоминаешь о них, то чувствуешь легкое удивление. Так Индия потускнела для меня уже в аэропорту; так в эти выморочные часы вся ее действительность испарилась, и отныне уже не только пространство и время отделяли меня от нее.
В самолете мне на колени упала газета. Над сиденьем кресла впереди меня показались длинные светлые волосы и пара голубых глаз, а по моей пояснице забарабанили крошечные ножки.
– Дети! – вскричал американец, сидевший рядом со мной, пробудившийся от пожилого, перехваченного ремнем безопасности сна. – Куда они везут всех этих детей? Почему все эти дети путешествуют? Почему мне так чертовски везет, что всякий раз, засыпая в самолете, я просыпаюсь и вижу детей? Хотите, расскажу вам, какую забавную вещь сказал мой приятель ребенку в самолете? Он сказал: «Сынок, почему бы тебе не выйти на улицу и там не поиграть?» Девочка, почему бы тебе не взять свою чудесную газету и не пойти поиграть на улицу, а? – Глаза и волосы исчезли за темно-синей спинкой кресла. – Этот ребенок сзади меня, наверное, покалечится. Байстрючонок совсем почки мне отбил. Сэр! Мадам! Может быть, вы присмотритеза своим чадом? Оно…оно досаждает моей жене.
Она – жена – безмятежно лежала в кресле рядом с ним, ее юбка задралась над пожилым коленом в обвисшем чулке. Она спала и улыбалась во сне.
Ко мне же сон не шел. Я только надолго впадал в оцепенение, которое усугублял шум турбин. Я часто ходил в уборную, чтобы обтереться самолетным одеколоном. Пенджабцы, сидевшие в хвосте, тоже не спали; от них исходил едкий запах: одного или двух уже вытошнило на синий ковер. Лампочки горели тусклым светом. Ночь оказалась долгой. Мы летели против вращения земли, и утро все время отступало. Но свет все же показался; а когда на рассвете мы прилетели в Бейрут, я как будто перенесся после волшебного странствия – со всеми сопутствующими мучениями, – в новенький, сверкающий мир. Недавно здесь прошел дождь; бетонированная площадка аэродрома была влажной и холодной. А дальше раскинулся город – город, наверняка заполненный такими же цельными людьми, как вот эти, одетые в комбинезоны служащих аэропорта, которые катили трапы и подъезжали на электромобилях к самолету, чтобы выгружать багаж. Это были простые труженики, работяги, но в их походке чувствовалась дерзость, они сознавали крепость и ловкость своих крупных тел. Индия сделалась частью ушедшей ночи: мертвый мир, долгое странствие.
Рим, аэропорт, все еще утро. «Боинги» и «Каравеллы», стоящие тут и там, будто игрушечные. А внутри здания аэропорта расхаживала взад-вперед по вестибюлю девушка в форме. На ней была шапочка вроде жокейской – новый для меня фасон; сапоги тоже показались мне новыми. Эта девушка ярко накрасилась: она явно требовала к себе внимания. Как же мне объяснить, как назвать разумным – хотя бы самому себе, – мое отвращение, мое отторжение как от чего-то выморочного и неправильного – от этого нового мира, в который я столь стремительно перенесся? Ведь этажизнь подтверждала, что та, другая, есть смерть; но та смерть делала все этообманом.
Уже под вечер я прилетел в Мадрид, изящнейший город. Здесь мне предстояло провести два или три дня. В последний раз я был в этом городе еще студентом, десять лет назад. Здесь я мог бы вернуться к моей прежней жизни. Я – турист, я свободен, при деньгах. Но ведь только что я обрел огромный опыт; Индия закончилась только двадцать четыре часа назад. Это было путешествие, которого, возможно, не следовало совершать; оно раскололо мою жизнь надвое. «Напиши мне сразу же, как только окажешься в Европе, – просил меня один друг-индиец. – Мне интересны твои самые свежие впечатления». Теперь я уже не помню, что написал тогда. Письмо вышло бурным и бессвязным; но – как и все, что я писал об Индии, – оно не изгнало никаких бесов.
В течение моей последней недели в Дели я заходил в разные магазины тканей, и в Мадрид я прибыл с коричневым неперевязанным свертком, испещренным словами на хинди: там был отрез материи на пиджак – подарок архитектора, с которым я недавно познакомился. На третий или четвертый день нашего знакомства он выказал мне свою дружбу и приязнь, и я ответил тем же. Такой обычай – одна из приятных сторон Индии; она сочетается со всеми остальными сторонами. Архитектор довез меня до аэропорта и смирно сносил мои вспышки раздражения, когда я узнал о задержке рейса. Мы выпили кофе, а потом, перед тем как уйти, он вручил мне этот сверток. «Пообещайте, что закажете себе пиджак из этой ткани, как только окажетесь в Европе», – сказал архитектор.
Так я и сделал; и на все перемешавшиеся впечатления за целый год легло это свежее воспоминание о друге и его подарке – отрезе индийской ткани.
Несколько дней спустя, в Лондоне я будто впервые столкнулся с культурой, смысл которой – если судить по содержанию рекламы и содержимому магазинных витрин – сводился к созданию домашнего уюта, к обустройству отдельных теплых ячеек; я ходил по улицам, заполненным такими ячейками, мимо садов, обобранных суровой зимой; я тщетно пытался вызвать в себе позитивное отношение к этому городу, где я долго жил и работал; я оказывался наедине с собственной пустотой, с чувством физической потерянности; и вот там-то мне приснился сон:
Передо мной лежал прямоугольник жесткой новой ткани, и я точно знал, что, если только мне удастся выкроить из этой самой ткани прямоугольник поменьше, имеющий заданные размеры, то тогда ткань сама начнет распускаться, а потом это распускание перекинется с ткани на стол, со стола – на дом, с дома – на всю материю вообще, пока весь этот морок не рассеется.Именно такие слова звучали в моей голове, пока я раскладывал ткань на столе и всматривался в нее, ища подсказок, которые, как я знал, существуют, и которые я больше всего на свете хотел обнаружить, одновременно понимая, что мне никогда это не удастся.
Наш мир – иллюзия, уверяют индусы. Мы говорим об отчаянии, но истинное отчаяние кроется слишком глубоко, чтобы его сформулировать. Лишь теперь, когда обретенный в Индии опыт яснее проступил на фоне моей собственной бесприютности, я понял, насколько близко подошел за этот последний год к полному индийскому отрицанию, до какой степени оно сделалось основой моих мыслей и чувств. И вот, едва я осознал это, очутившись в мире, где иллюзия может быть только отвлеченным понятием, а не тем, что ощущаешь до мозга костей, – это открытие уже ускользало от меня. Я ощутил это как частицу истины, которой мне никогда не выразить внятно и никогда больше не уловить.
Февраль 1962 – февраль 1964









