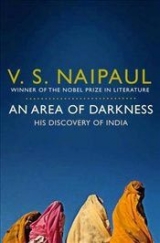
Текст книги "Территория тьмы"
Автор книги: Видиадхар Найпол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Будто что-то где-то захлопнулось. Где же начинать поиски этого провала? Хотя бы в храме Курукшетры. К нему прибита табличка, на которой написано буквально следующее:
ЭТОТ ХРАМ ПОСТРОЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ РАДЖИ СЕТХА БАЛДЕО ДАС БИРЛЫ И ПОСВЯЩЕН ШРИ АРЬЯ ДХАРМА СЕВА САНГХУ В НЬЮ ДЕЛИ.
ПАЛОМНИКИ ИНДУСЫ ВСЕХ СЕКТ НАПР. САНАТАНИСТЫ, АРЬЯ САМАДЖИСТЫ, ДЖАЙНЫ, СИКХИ, БУДДИСТЫ И ПР. БУДУТ ДОПУЩЕНЫ, ЕСЛИ ОНИ НРАВСТЕННО И ФИЗИЧЕСКИ ЧИСТЫ.
ВНИМАНИЕ ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ИНФЕКЦИЯМИ ИЛИ ЗАРАЗНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Грубость языка здесь под стать грубости самолюбования. Пускай Индия бедна, – говорит по сути эта табличка, – зато духовно она богата; и ее народ нравственно и физически чист. Самолюбование, грубость каменной кладки и мраморной скульптуры, несовершенное владение иностранным языком: все это взаимосвязано.
* * *
Некоторые индийцы отрицают, что индийское чувство пластики угасло. Те же, кто это признает, отвергают мнение, что в этом частично повинны моголы (в силу количества и экстравагантности их сооружений: Акбар исчерпал экспериментирование, а его преемники довели украшательство до крайности), и валят все на британское вмешательство. Британцы полностью разграбили страну; при них пришли в упадок все мануфактуры и ремесла. Это следует признать – и противопоставить всем тем достижениям, которые перечисляет Вудрафф: ведь бисквитная фабрика – довольно жалкая замена золотому шитью. Страну грабили и раньше. Но тогда сохранялась преемственность. А с приходом британцев эта преемственность прервалась. И, возможно, именно британцы повинны в нынешнем художественном бессилии индийцев, которое стало частью общей индийской неразберихи, – в том же смысле, в каком испанцы повинны в оцепенении мексиканцев и перуанцев. Произошло столкновение позитивного начала с негативным; и невозможно представить себе ничего более негативного, чем случившееся в XVIII веке соединение статичного ислама с упадочным индуизмом. В любом столкновении между постренессансной Европой и Индией Индия была обречена на поражение.
Если бы я прочел «Человека бунтующего» Камю до написания этой главы, то, возможно, воспользовался бы его терминологией. Там, где Камю сказал бы «способный на бунт», я употреблял слово «позитивный» и «способный на самооценку»; и любопытно, что Камю, приводя примеры народов, неспособных к бунту, называет индусов и инков. «Проблема бунта имеет смысл только в нашем западном обществе… Благодаря теории политической свободы в человеческой душе укореняется высокое понятие о человеке и в результате практического использования этой же свободы растет соответствующая неудовлетворенность своим положением… Род человеческий все глубже осознает самого себя в ходе своей истории. Действительно, в случае с инками или париями проблемы бунта не возникает, поскольку она была разрешена для них традицией – еще до того, как они могли поставить перед собой вопрос о бунте, ответ на него уже заранее был дан в понятии священного. В сакрализованном мире нет проблемы бунта, как нет вообще никаких реальных проблем, поскольку все ответы даны раз и навсегда. Здесь место метафизики занимает миф. Нет никаких вопрошаний, есть только ответы и бесконечные комментарии к ним, которые могут быть и метафизическими». (Примечание автора.)[Цит по изд.: Альбер Камю. «Бунтующий человек». М., 1990]
Оцепенение народов – это одна из наших тайн. В школе на Тринидаде нас учили, что аборигены Вест-Индии «стали болеть и умирать», когда пришли испанцы. На Гренаде [71]71
Гренада – остров в Карибском море, в архипелаге Малые Антильские о-ва; с 1783 по 1967 – британская колония; с 1974 – независимое государство в составе Британского Содружества.
[Закрыть], острове пряностей, есть утес со страшным названием Sauteurs [72]72
Прыгуны (фр.)
[Закрыть]: там америнды совершали самоубийство, бросаясь в море. Оцепенелые общины других, более поздних, народов, выживают. Есть, например, деградировавшие индусы на Мартинике и Ямайке, растворившиеся в Африке; и как-то трудно соотнести выдохшихся яванцев из Суринама в Южной Америке, служащих местным посмешищем, с бунтарями и поджигателями посольств из Джакарты. Индия не увяла, как это случилось с Мексикой и Перу, от прикосновения Европы. Возможно, будь она целиком мусульманской страной, это бы произошло. Но у нее был огромный индуистский опыт общения с завоевателями прошлого; а индуистская Индия всегда шла навстречу завоевателям, и ей всегда удавалось растворить этих пришельцев в себе. И любопытно – а теперь еще и немного грустно – видеть, что индийцы, и прежде всего бенгальцы, реагировали на приход британцев точно так же, как на любого другого завоевателя – будь то индийского или азиатского.
Попытки и здесь «пойти навстречу» мы находим у раннего реформатора, вдохновленного англичанами, – Рама Мохана Роя [73]73
Рам Мохан Рой (1772–1833) – бенгальский интеллектуал и полиглот; пытался возродить индуизм, при этом очистив его от всяких «устаревших» предрассудков, вроде кастовой системы, самосожжения вдов, детских браков и т. д.
[Закрыть], похороненного в Бристоле. Находим мы их и позже, в воспитании Шри Ауробиндо – революционера, ставшего затем мистиком, – отец которого, отправляя его семилетним учиться в Англию, потребовал от его английских опекунов оградить мальчика от любых контактов с индийцами. Находим мы их и еще чуть позже – но теперь уже в жалком виде – во дворце Маллик в Калькутте. Ветшающий дворец (ведь это же Индия!), где слуги готовят еду в мраморных галереях, мог бы послужить отличной декорацией для съемок фильма. Проходя через высокие ворота, мы чувствуем, что так мог бы начинаться фильм; камера будет продвигаться вместе с нами, остановится вот здесь, помедлив на разрушенной каменной кладке, и вон там, задержавшись на выцветшей росписи; сначала будет тишина, а потом через эхокамеры ворвутся голоса, донесется шум экипажей с серповидной подъездной аллеи: Маллик славился своими шумными развлечениями. В фасаде здания задают тон огромные колонны в калькуттско-коринфском стиле; в саду все еще бьют фонтаны, завезенные из Европы; по углам мраморного патио, где сегодня семья держит клетки с птицами, стоят статуи, олицетворяющие четыре континента; на нижнем этаже большой зал кажется маленьким из-за колоссальной статуи королевы Виктории; в других помещениях, под потолками с чрезмерным количеством люстр, пыль оседает на кучу предметов, напоминающих содержимое сотни английских антикварных лавок (страсть коллекционера переросла в манию): бенгальский землевладелец вознамерился продемонстрировать свое увлечение европейской культурой высокомерным европейцам. Здесь нет ничего индийского, кроме, разве что, портрета владельца; но мы уже чувствуем, что этот англо-бенгальский союз прокисает.
Английскость, в отличие от веры других завоевателей, не нуждалась в новообращенных; и для бенгальцев, которые оказались наиболее восприимчивы ко всему английскому, англичане в Индии приберегали особое презрение. Имперский идеал, уже близкий к неизбежно запаздывавшему осуществлению, разбивался об империалистический миф, столь же запоздалый, о строителе империи, и об английскую фантазию об английскости – «взлелеянное убеждение», как писал в 1838 году один английский чиновник, «которое разделял каждый англичанин в Индии, от высших до низших, будь то помощник фермера, ютящийся в скромном бунгало…, или вице-король на своем троне…, что он принадлежит к народу, которому Бог велел подчинять и править». Эпитафией этому так и не состоявшемуся имперскому союзу могло бы послужить исполненное псевдо-имперской риторики посвящение, которое предваряет «Автобиографию неизвестного индийца» Нирада Чаудхури. Переведенное на латынь и высеченное траянов-скими буквами, оно могло бы украсить Ворота Индии в Нью-Дели: «Памяти Британской Империи в Индии, которая навязала нам подданство, не поделившись с нами гражданством, и которой, однако, каждый из нас бросил вызов: Civis Britannicus sum [74]74
Я – британский гражданин (лат.) (по аналогии с выражением Civis Romanus – «гражданин Рима»).
[Закрыть]ибо все хорошее и живое внутри нас создано, сформировано и вдохновлено все тем же британским владычеством».
Ни одна другая страна не приветствовала завоевателей с такой готовностью; ни один другой завоеватель не был здесь более желанен, чем британцы. Так что же произошло? Одни говорят, что виновато Восстание; другие говорят, что виноваты белые женщины, со временем приехавшие в Индию. Возможно. Но французы – будь при них женщины или нет – может быть иначе бы реагировали на бенгальцев-франкофилов. Причину, как мне кажется, нужно искать не в Индии, а в Англии, где в определенный момент (точно не фиксируемый) произошел такой же коренной и, похоже, такой же резкий перелом в сознании, как тот, что мы переживаем сейчас. Цивилизацию, к которой потянулись индийцы, сменила совсем другая. Возникла неразбериха – ведь гости, которых ресторан «Симпсонз» на Стрэнде продолжал вскармливать ради имперских целей, внешне по-прежнему походили на священника Адамса и Тома Джонса, – и многие индийцы, от Ауробиндо до Тагора, от Неру до Чаудхури, отмечали свою растерянность.
Возможно, лишь сейчас мы можем увидеть, каким безоговорочным разрывом с прошлым явился Радж. Британцы не пожелали растворяться в Индии; они не стали провозглашать, как это делали моголы, что если есть рай на земле, то он здесь, и только здесь. Владычествуя над Индией, они выражали презрение к ней и все время думали об Англии; индийцам же не оставалось ничего другого, кроме как исполниться патриотизма, который начинался с подражания британцам. Чтобы взглянуть на самих себя, научиться мерить себя новыми, позитивными мерками завоевателей, индийцам приходилось отступать от собственных правил и привычек. Для них это означало немыслимое насилие над собой; и между прочим, в начале лестная самооценка стала возможной лишь благодаря помощи европейцев вроде Макса Мюллера [75]75
Фридрих Макс Мюллер (1823–1900) – немецкий и английский филолог, индолог и мифолог, профессор Оксфордского университета, автор 51-томной работы «Священные книги Востока» (1879–1904).
[Закрыть]и других, кого так обильно цитируют теперь авторы-патриоты.
Итогом всего это стало то осознаваемое обладание духовностью, которое превозносится табличкой на храме в Курукшетре. «Одухотворите науку, говорит Прасад» – вот газетный заголовок, предпосланный репортажу об одной из почти ежедневных парламентских речей покойного президента. Итогом является и такая публикация в «Таймс оф Индиа»:
«ЛАВКА» ДУХОВНОСТИ Сантиникетан, 16 января
Вчера Ачарья Виноба Бхаве назвал себя «мелким лавочником», имея в виду богатство нашего духовного мира.
На устроенном здесь приеме он заметил, что Будда, Иисус, Кришна, Тагор, Рамакришна и Вивекананда были «оптовиками духовности, а я – всего лишь мелкий лавочник, берущий товар на этих неиссякаемых складах, чтобы поставить его жителям деревень». – РТI
Итогом оказывается и осознанное обладание древней культурой. На одном официальном приеме в честь бывшего губернатора штата кто-то крикнул, обращаясь ко мне, когда мы молча сидели в глубоких креслах, поставленных возле разных стен комнаты: «А как поживает индийская культура в вашем уголке мира?» Это бывший губернатор, ветеран войны за Независимость, одетый в толстые чулки, подался вперед и заметил меня. Говорили, что он большой любитель индийской культуры; потом я даже читал газетные репортажи о его речах, посвященных этой теме. Желая показать, что я отнесся к вопросу серьезно и хочу найти отправную точку для обсуждения, я прокричал в ответ через всю эту просторную комнату: «А что вы понимаете под индийской культурой?» Мой друг из ИАС, под чьей опекой я находился, в замешательстве закрыл глаза. Бывший губернатор подался назад; в комнате вновь воцарилось молчание.
Получается, духовностью и древней культурой обладали так же осознанно, как и священником Адамсом и Томом Джонсом в «Симпсонзе». Но при таком неестественном са-моосмыслении всякое течение, опиравшееся на истинное чувство, было обречено на неудачу. Старый мир, руины которого говорили лишь о преемственности и о творении как об изначальной повторяемости, не мог выжить; индийцы же метались в новом мире, очертания которого они видели, но духа постичь не могли. Силясь обрести собственное лицо в собственной стране, они оказывались в ней лишними.
У них появился двойной стандарт. О пятистах смертях от холеры в Калькутте индийская газета сообщает в короткой сводке новостей. Смерть двадцати детей нуждается лишь в констатации.
ОСПА В ФЕРОЗАБАДЕ
Служба новостей «Таймс оф Индиа»
АГРА, 1 июня: Сообщается, что в Ферозабаде в эпидемической форме вспыхнула оспа.
Сообщается, что в деревне Джароли Калан умерло двадцать человек, в основном дети.
Зато гибель шестнадцати шахтеров в Бельгии в той же самой газете становится важной новостью. Крестьяне в судах при коллекторатах с раскрытыми ртами слушают дебаты на языке, которого не понимают, а тем временем снаружи, в сутолоке базара, другие крестьяне, у которых, похоже, свободного времени невпроворот, слоняются по пыльным улицам, и в жидкой тени деревьев сидят писцы со старинными пишущими машинками, и поджидают клиентов адвокаты в парадной одежде законников, которая смотрится на этом фоне довольно дико. Эти базары при коллекторатах действуют в рамках измененного представления о ценности человека, которое имеет лишь юридический смысл, ограничиваясь стенами коллектората или суда, некой игры ума, входящей в сложный ритуал, призванный оказать поддержку индийцу в его пыльном существовании. Столь же бережно относятся к касте – еще одному закону, обезличивающему миллионы людей. За мимикрией скрывается индийская шизофрения. Индия должна двигаться вперед, она должна искоренить коррупцию, догнать Запад. Но так ли это важно? Неужели немножко коррупции кому-то повредит? Неужели материальное благосостояние имеет такое значение? Разве Индия уже не проходила через все это – разве не было у нее атомной бомбы, аэроплана, телефона? А потому при разговоре индийцы способны приводить в бешенство своей уклончивостью. Но стоило мне только вспомнить дом моей бабушки, это туманное, невыраженное отношение к миру внутри и миру снаружи, – как я начинал понимать, начинал угадывать их логику, понимать и их страсть, и их тихое отчаяние, позитивное и негативное. Но я уже научился видеть; я не умел отрицать того, что вижу. А они оставались в том, другом мире. Они не видели всех этих людей, по утрам сидевших на корточках возле железной дороги и справлявших нужду; больше того – они отрицали их существование. Да и к чему их вообще замечать, этих людей? Разве я не видел нищих в Каире или негритянских трущоб в Рио?
Язык – это тоже часть общей неразберихи. Каждый новый завоеватель завещал Индии свой язык. Английский же так и остается иностранным языком. Это величайшая из нелепостей британского правления. Язык подобен смыслу; и невозможно измерить размер психологического ущерба, наносимого продолжающимся официальным использованием английского, который всегда будет оставаться лишь вторым языком. Это все равно что приговорить совет какого-нибудь, скажем, Барнсли к тому, чтобы он обсуждал свои дела исключительно по-французски или на урду. Это приводит к неэффективности; это отдаляет администратора от селянина; это становится преградой на пути к самопознанию. Клерк, пользующийся английским в каком-нибудь государственном учреждении, мгновенно тупеет. Для него этот язык состоит из определенных, не до конца понятых заклинаний, которые ограничивают его восприятие и лишают его гибкости мышления. Так он и проводит всю свою трудовую жизнь в некоем подводном мире с зыбкими представлениями; но, если бы ему позволили мыслить на своем родном языке, он, скорее всего, сделался бы проворнее и смышленее. Хинди был провозглашен национальным языком. Его понимает полстраны; изъясняясь на нем, вы можете проехать от Шринагара до Гоа и от Бомбея до Калькутты. Но на Севере многие притворяются, будто не понимают этого языка. А на Юге патриотичная любовь к хинди, которую когда-то разжег Ганди, вовсе угасла. Хинди, скажут вам, предоставляет Северу преимущество; уж лучше и Северу, и Югу оставаться безграмотными и неспособными, зато равными – и приговоренными к английскому. Это чисто индийский довод: Индия никогда не перестанет нуждаться в арбитраже завоевателей. А поборники хинди – на свой новый самовлюбленный лад – стремятся отнюдь не упростить язык, а сделать его еще более недоступным. Универсальное слово «радио» им не годится – его непременно нужно передавать изысканным, отдающим вампума-ми и вигвамами оборотом «голос с небес».
Индийские попытки писать романы обнаруживают все ту же индийскую неразбериху. Роман характерен для Запада. Он – часть западного интереса к человеческому состоянию, отклик на современность. В Индии думающие люди как раз предпочитали отворачиваться от современности и удовлетворять то, что президент Радхакришнан называет «врожденной человеческой жаждой незримого». Эти навыки не очень-то способствуют написанию или чтению романов. Врожденная жажда незримого делает многих индийцев восприимчивыми к романам вроде «На острие бритвы» и «Адвоката дьявола», ценность которых в качестве благочестивой литературы очевидна. Кроме того, остается неясность. Чего же люди ищут в романах? Историю, «описания характеров», «художественности», реализма, морали, повода всласть поплакать, изящного слога? Ответ так и остается неизвестным. Потому-то и можно увидеть дешевые книжки из серии «Библиотека школьницы» в руках университетских студентов-мужчин, детские американские комиксы в комнате студента из Сент-Стивенз, Нью-Дели, и целый ряд книжек Денизы Робинс рядом с астрологическими томами. Потому-то индийские издательства предлагают романы Джейн Остин в бумажной обложке, рекомендуя ее как мастера блестящих сравнений.
Это часть подражания Западу, часть индийской страсти насиловать самих себя. Видна она и в Чандигархе, в этом новом театре для так и не написанных пьес, и в этих бесконечных писательских конференциях, где писателей призывают работать во имя «эмоционального единения» или пятилетних планов и где неустанно обсуждаются писательские проблемы. Мне же представляется, что эти проблемы имеют меньше отношения к писательству, нежели к переводу на английский; бытует широко распространенное мнение, будто английский язык, хотя он вполне сгодится для Толстого, никогда не сможет воздать должное «индоязычным» писателям. Возможно, это так; но то немногое, что я прочел из этих писателей в переводах, отбило у меня охоту читать еще что-либо. Премчанд – великий и любимый – оказался второсортным автором нравоучительных басен, озабоченным в основном социальными вопросами вроде положения вдов или невесток. Другие писатели быстро утомили меня своими утверждениями, что бедность печальна и что смерть печальна. Я читал о бедных рыбаках, бедных крестьянах, бедных рикшах; бессчетное количество хорошеньких девушек или просто и внезапно умирали, или делили ложе с помещиком, платили за лечение родственников, а потом совершали самоубийство; а многие из «современных» рассказов – всего лишь подновленные народные сказки. В Андхре мне дали брошюрку, посвященную конференции писателей, пишущих на языке телугу. Брошюра рассказывала о героической борьбе народа за создание те-лугского государства (по-моему, такое стремление говорит лишь о легкомыслии чистой воды), приводила перечень имен мучеников, а затем вкратце излагала историю телугс-кого романа. Похоже, телугский роман начался с телугских адаптаций « Вейкфилъдского священника» и «Ист-Линна».Когда я заехал еще немного южнее, мне рассказали о писателе, на чье творчество большое влияние оказал Эрнест Хемингуэй.
«Вейкфилъдский священник» и « Старик и море»: трудно хоть как-то соотнести их с индийским пейзажем или с индийскими взглядами. Японский роман тоже начинался отчасти с подражания Западу. Танизаки, если я не ошибаюсь, признавался как-то, что в своем раннем творчестве он испытывал слишком сильное влияние европейцев. Однако даже сквозь это подражательство можно разглядеть, что японцы определенно обладают собственным углом зрения. И в раннем творчестве Танизаки это ощущается точно так же, как и в недавних произведениях Юкио Мисимы: это любопытная буквальность, которая приводит к отстраненности настолько неодолимой, что она делает само письмо бессмысленным. Как ни странно, это проистекает из жажды незримого и является выражением интереса к людям. А та сладость и грусть, которую мы обнаруживаем в индийских романах и в индийских фильмах, является нежеланием смотреть в глаза чересчур гнетущей реальности; эти сладость и грусть ослабляют ужас, превращая его в теплую и добродетельную прочувствованность. Индийская сентиментальность – полная противоположность подлинного интереса.
Достоинства Р. К. Нараяна суть магически преображенные индийские неудачи. Я говорю это безо всякого неуважения: Нараян – писатель, чьи произведения вызывают у меня искреннее восхищение и удовольствие. По-моему, он вечно стремится к той бесцельностииндийской беллетристики, каковая происходит из глубочайших сомнений относительно предназначения и ценности беллетристики, – однако его вечно спасает собственная честность, чувство юмора и, главное, позиция полного примирения. Его произведения отражают глубинные процессы его общества. Несколько лет назад в Лондоне он сказал мне, что, что бы ни случилось, Индия останется навсегда. Он заметил это мимоходом; он просто высказал убеждение настолько глубоко въевшееся, что оно не нуждалось в особом подчеркивании. Это негативная позиция, часть той старой Индии, которая неспособна на самооценку. И вот результат: Индия, которую видит иностранный гость, далека от Индии из романов Нараяна. Он ведь рассказывает индийскую правду. Слишком многое из гнетущей действительности обходится молчанием; слишком многое предлагается принимать как должное. У Нараяна мы видим противоречие между формой, которая предполагает интерес, и позицией, которая его отрицает; в этом-то тихом противоречии и заключается его магия, которую некоторые называют «чеховской». Он неподражаем, и невозможно предположить, что он добился синтеза, к которому когда-нибудь придет вся индийская литература. Более молодые писатели, пишущие по-английски, далеко ушли от Нараяна. В романах, повествующих о сложностях, с какими сталкиваются студенты, вернувшиеся из Европы, они лишь выражают личное замешательство; сами такие романы лишь документируют индийскую неразбериху. Единственным автором, работающим внутри общества и вместе с тем способным навязать ему такой способ видения, в котором можно признать приемлемый тип критики, является писательница Р. Проэр Джхабвала. Но она европейка.
«С известной точки зрения литературу можно разделить на соглашательскую – она, грубо говоря, относится к древности и классике, – и диссидентскую, порожденную Новым временем. Нетрудно заметить, что в первой из них роман был редкостью. Почти все его образцы вдохновлены не действительностью, а фантазией… В сущности, это сказки, а не романы. Во второй, напротив, появляется подлинный жанр романа, не перестающий развиваться и обогащаться вплоть до наших дней… Роман зарождается одновременно с духом мятежа и выражает – в эстетическом плане – те же мятежные устремления». (Камю А., «Бунтующий человек») (Прим. авт.)
Индо-британское соединение оказалось бесплодным; его итогом стала двойная фантазия. Новое самосознание индийцев не позволяет им двигаться назад; «индийскость», которую они лелеют, затрудняет им продвижение вперед. Можно обнаружить такую Индию, которая якобы не изменилась с эпохи Моголов, на самом же деле изменилась в корне; можно обнаружить и такую Индию, чье подражание Западу кажется убедительным – до тех пор, пока ты не осознаешь – порой растерянно, порой раздраженно, – что полное взаимопонимание невозможно, что способностью видения мы наделены по-разному, и что существуют такие уголки индийского сознания, куда европейцу путь заказан.
И негативный, и позитивный принципы размылись; один уравновешивает другой. Проникновение не было полным; попытку обращения забросили. Сила Индии, ее выносливость являлись плодом негативного принципа, ее неизученного чувства преемственности. Это принцип, который, размываясь, теряет свою ценность. В понятии индийское – ти чувство преемственности было обречено на исчезновение. Творческий порыв угас. И преемственность подменили статикой. Она ощущается и в архитектуре «древней культуры»; она и во всеми оплакиваемой потере стимула, которая носит скорее психологический, нежели политический или экономический характер. Она дает о себе знать и в политических разглагольствованиях Банти. Она видна и в тех мертвых конях и неподвижной колеснице в храме Курукшетры. Шива перестал танцевать.








