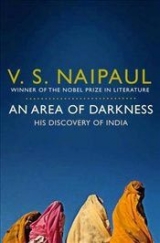
Текст книги "Территория тьмы"
Автор книги: Видиадхар Найпол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
– Здесь никто не будет ночевать.
Он уже начал запинаться; возможно, ему пришло в голову, что его фирма отнюдь не так желанна, как «дипломатические» иностранцы, которые требовались во многих объявлениях.
– Мы внесем арендную плату за год вперед и подпишем договор об аренде на три года.
– М-м. – И она ответила на хиндустани, игнорируя его английский, что поговорит об этом с мужем. К тому же есть много других желающих.
– Мы собираемся использовать это помещение только под офис. – Его чувство собственного достоинства уже начало сменяться некоторым раздражением. – Единственное, мы хотели бы, чтобы здесь ночевал сторож. Этот дом будет оставаться вашим домом. Мы сразу же выплатим вам двенадцать тысяч рупий.
Миссис Махиндра продолжала рассеянно смотреть в пустоту, как будто принюхиваясь к запаху свежей краски и думая про занавески.
– Чурбан, – сказала она, когда мужчина ушел. – По-английски говорил. Барра саиб.Чурбан.
На следующее утро мы увидели ее в хмуром настроении.
– Письмо.Приезжает мой свекр.Сегодня. Завтра. – Такая перспектива явно удручала ее. – Говорит, говорит, кроме шуток.
В тот же день, вернувшись домой, мы застали ее, печальную и покорную, сидящей рядом с седовласым мужчиной в индийском наряде. Казалось, она даже стала ниже ростом; вид у нее был смиренный, даже смущенный. Представляя нас, она сделала особый упор на то, что мы – иностранцы. Потом стала глядеть в сторону, сделалась рассеянной и перестала участвовать в разговоре.
Седовласый человек посматривал на нас с подозрением. Но, как и предрекала миссис Махиндра, он оказался очень говорливым. Себя самого и особенно свой возраст – а ему было слегка за шестьдесят – он как бы рассматривал с удивлением со стороны. Он рассказывал не столько о происшествиях из своей жизни, сколько о привычках, которые сложились у него за эти шестьдесят лет. Он сообщил, что ежедневно встает в четыре часа утра, потом отправляется на прогулку и проходит четыре или пять миль, затем прочитывает отрывок из Гиты. Такого распорядка дня он придерживается вот уже сорок лет, и такой распорядок дня он рекомендовал бы каждому молодому человеку.
Миссис Махиндра вздохнула. Я догадался, что она уже вдоволь наслушалась, и решил выручить ее. Я попытался разговорить старика, стал расспрашивать о его прошлом. Его жизнь оказалась бедной на приключения; он лишь перечислял разные места, где ему довелось жить или работать. Я задавал конкретные вопросы, просил описать ту или иную местность. Но миссис Махиндра, видимо, не понимая моего замысла, не принимая – или, быть может, из чувства долга не соглашаясь принять – мою помощь, продолжала сидеть и страдать. В конце концов, не старик меня извел разговорами, а я его. Он ушел и уселся в одиночестве в маленьком саду перед домом.
– Несносный, несносный, – проговорила миссис Махиндра, улыбнувшись мне с видом полного изнеможения.
– Лето уже пришло, – заявил старик после обеда. – Я уже две недели сплю под открытым небом. И всегда оказывается, что я начинаю спать на улице на несколько недель раньше, чем другие люди.
– Вы и сегодня будете спать на улице? – спросил я.
– Конечно.
Он спал как раз рядом с нашей дверью. Мы его видели, и он наверняка видел нас. В четыре часа (надо полагать, именно в это время) он встал и стал собираться на прогулку: звяканье цепочки в уборной, бульканье, лязг дверей. Потом мы слышали, как он возвращается. А когда встали мы, он уже читал Гиту.
– Я всегда читаю несколько страниц из Гиты после того, как возвращаюсь с прогулки, – сказал старик.
Потом он слонялся по дому. Заняться ему было нечем. Не обращать на него внимание было трудно – он явно нуждался в собеседниках. Он разговаривал, но я уже начал ощущать, что он еще и приглядывается к происходящему.
Вернувшись позже, мы застали тягостную сцену – расспросы очередного посетителя, желавшего арендовать нижний этаж. Посетитель явно испытывал неловкость; старик, задававший вопросы, держался вежливо, но укоризненно; предметом его укора, как я догадался, являлась миссис Махиндра, которая почти совсем спрятала лицо под верхним концом сари.
Мы лишились большей части прежнего внимания миссис Махиндры. За короткое время она быстро превратилась в шелковую индийскую невестку. Теперь мы уже не слышали о том, как она обожает все иностранное. Мы сделались обузой. И когда, внимая разговорам свекра, она встречалась с нами глазами, то улыбка у нее выходила усталая. В этой улыбке не было ничего заговорщического – одна лишь отстраненная вежливость. Выходит, в самый первый день мы застали ее в один из редких моментов блеска.
В ближайшие выходные мы собирались поехать в деревню, и, чувствуя себя едва ли не предателями, мы сообщили миссис Махиндре, что на несколько дней оставим ее наедине со свекром. Она обрадовалась такой новости, оживилась. Конечно, поезжайте, сказала она, и ни о чем не беспокойтесь. Не нужно паковать вещи, она приберет в нашей комнате. Она помогла нам подготовиться к поездке, покормила. Она стояла в каменных воротах с неправильной стрельчатой аркой и махала нам рукой, а потом ее шофер-бихарец – чурбан, как мы помнили, – увез нас. Полная, грустная, большеглазая миссис Махиндра!
Выходные в деревне! Сами эти слова обещают прохладные купы деревьев, зеленые поля, речки. Когда мы уезжали из Дели, то все наши мысли вертелись вокруг воды. Но впереди не было никакой воды и почти никакой тени. Дорога представляла собой узкую полоску щебенки посреди сплошной пыли. Пыль окутывала придорожные деревья и поля. Один участок пути, растянувшийся на несколько миль, представлял собой плоскую коричневую пустыню. В конце пути находился небольшой городок – и убийство внутри общины. Убийца-мусульманин скрылся; убитого индуса следовало оплакать и кремировать – быстро и тайно, до рассвета следующего дня; затем следовало вести наблюдение за смутьянами с обеих сторон. Это и занимало нашего хозяина почти все выходные. Мы оставались в здании инспекции, благодарные за высокий потолок, и отдыхали под крутящимся вентилятором. На одной из стен висел в рамке под стеклом отпечатанный на машинке свод правил и инструкций. В другую стену был встроен камин. Зимы, которые обещал этот камин, казались сейчас совершенно неправдоподобными; было ощущение, что нам вечно суждено оказываться в таких местах, где все знаки – ложные: автомат для сладостей на железнодорожной платформе, не работающий уже несколько лет; реклама товаров, которые уже не производятся; устаревшее расписание. Над каминной полкой висела фотография: дерево, стоящее на размытом берегу скудного ручейка. И в этой фотографии, рассказывающей об истощении и упорстве, угадывалось нечто такое, в чем мы уже начали опознавать характерную индийскую черту.
Мы возвращались в Дели поездом, под темнеющим небом. Мы ждали, что вот-вот начнется гроза. Но то, что издалека походило на дождевую тучу, оказалось лишь облаком пыли. Мальчишка, разносивший чай, обсчитал нас (на том же перегоне спустя несколько месяцев тот же самый мальчишка снова обсчитает нас); один из пассажиров сетовал на коррупцию; один рассказчик пробуждал словоохотливость в другом. Дул ветер, и всюду набивалась пыль – пыль, которая, как уверяют инженеры, способна проникать туда, куда даже вода не может просочиться. Мы соскучились по городу – по горячим ваннам, по комнатам с кондиционерами, за закрытыми ставнями.
Нижний этаж дома Махиндры был погружен во тьму. Дверь оказалась заперта. Ключа у нас не было. Мы звонили, звонили. Через несколько минут нас впустил слуга – он ступал на цыпочки и говорил шепотом, как будто мы были его персональными друзьями. В нашей комнате все было таким же, как в день нашего отъезда. Постель так и осталась неубранной, чемоданы стояли на прежних местах; письма, брошюры и полные пепельницы так и грудились на прикроватном столике; на все эти застывшие в беспорядке вещи осела пыль. До нас доносились звуки какой-то тихой возни наверху, в комнате с индийским медным подогревателем блюд.
Саиб вернулся из джунглей, сообщил нам слуга. И саиб поссорился с мемсаиб. «Он говорит: „Ты пускаешь жильцов за плату? Ты берешь деньги?“»
Мы все поняли. Мы были первыми и последними постояльцами миссис Махиндры. Мы были для нее одним из средств разогнать скуку – наверное, как и те люди, которые приходили договариваться об аренде первого этажа. Наверное, это миссис М. Мета, секретарь Женской лиги, сдавала в аренду свой первый этаж; наверное, это миссис М. Мета принимала у себя блестящую череду постояльцев-иностранцев.
Милая миссис Махиндра! Ей нравились деньги, и, наверное, радуясь им, она хотела заработать еще немного. Но ее внимание к нам было окрашено неподдельной индийской теплотой. Мы так и не видели ее больше; мы больше не видели ее сыновей; мы так и не увидели ее мужа. Ее свекра мы только слышали – и, затаившись у себя в комнате, ждали, пока он устроится на ночлег. Мы слышали, как он поднялся ранним утром, слышали, как он уходит на прогулку. Мы выждали несколько минут. А потом прокрались на улицу с собранными чемоданами и разбудили спящего таксиста на ближайшей стоянке. Потом мы попросили приятеля передать миссис Махиндре деньги, которые остались ей должны.
* * *
Дни в Дели оказались сплошным маревом зноя. Мгновенья, которые задержались в памяти, – это мгновенья бегства от жары: затемненные спальни, обеды, клубные залы за закрытыми ставнями, поездка на рассвете к развалинам Туглакабада [37]37
Туглакабад – огромная крепость XIV века, построенная правителями Делийского султаната Туглаками – династией монголотюркского происхождения; ее развалины находятся на южной окраине современного Дели.
[Закрыть], видение Лесного Пламени. Осмотр достопримечательностей был делом нелегким. Слишком во многих местах требовалось ходить босиком. Входы в храмы были мокрыми и грязными, а плиты во внутренних дворах мечетей обжигали ступни сильнее, чем песок тропических пляжей в полдень. И в каждой мечети, в каждом храме слонялись бездельники, с радостью набрасывавшиеся на тех, кто не снял обуви. И их радость, и их безделье бесили меня. Взбесила и табличка с надписью: «Если вы считаете, что снимать обувь – ниже вашего достоинства, можете взять напрокат шлепанцы». В Раджгхате, где, чтобы попасть к месту кремации Ганди, требовалось проделать босиком слишком длинный путь по горячему песку, я не стал идти за гидом из туристического департамента и уселся в тени – полностью обутый еретик. Школьники в голубых рубашках высматривали среди туристов американцев. Эти мальчишки были упитанны и прилично обуты, держали в руках учебники как знаки своего достоинства. Они ринулись к старушкам-американкам. Старушки, осведомленные о бедности Индии, остановились, раскрыли кошельки и принялись раздавать детям монеты и бумажки. За этой сценой завистливо наблюдали с дороги профессиональные нищие, которых сюда не пускали. Жара действовала мне на нервы. Я шагнул к мальчишкам, и вид у меня был, наверное, очень свирепый. Они убежали, шустро растворившись в воздухе. Американки оценивающе поглядели на меня: вот гордый молодой индийский националист. Что ж, неплохо. Я зашагал обратно к автобусу, чувствуя, как усталость превращается в гнев и стыд.
Вот как это было в Дели. Теперь же я срывался на крик почти сразу же, как только переступал порог государственного учреждения. Порой один вид молодых людей, рядами сидящих за длинными столами, схоронившись за грудами бумаг, молодых людей, изучающих какие-то бланки, молодых людей, пересчитывающих банкноты и связывающих их в пачки по сто штук, – зрелище, символизировавшее всю человеческую тщету Индии, – выводил меня из себя. «Не жалуйтесь мне. Подайте жалобу через должную инстанцию». «Через должную инстанцию! Должную инстанцию!» Но все было напрасно: ирония, насмешка в Индии были обречены. И снова: «Не жалуйтесь мне. Жалуйтесь моему начальнику». «И кто тут ваш чертов начальник?» Все это я произносил с какой-то освободительной надеждой, что моя ярость спровоцирует ответную грубость. Но почти всегда ответом была лишь холодная, колкая вежливость; и мне волей-неволей приходилось утихать, испытывая стыд и усталость.
В городе Лютьенса [38]38
Сэр Эдвин Лютьенс (1869–1944) – один из двух ведущих архитекторов, в 1931 году спроектировавших Нью-Дели как официальный столичный центр.
[Закрыть]я искал уединения, и защиты. Лишь тогда я избавился от того расстройства сознания, при котором различные стороны моей личности казались мне гипертрофированными до неузнаваемости. Я ощутил изящество этого города – в колоннадах, спрятанных за дорожными указателями и соломенными шторами, в открывающихся перспективах: новая башня в одном конце обсаженного деревьями проспекта и старый купол – в другом. Я ощутил ту «трудолюбивую» атмосферу, о которой мне говорили в Бомбее. Я ощущал здешнее оживление как примету нового столичного города – в собраниях в клубе «Джимкана» [39]39
Gymkhana (англ. – инд.) – спортивный центр, спортзал.
[Закрыть]воскресным утром, в проконсульских разговорах бывших ооновских сотрудников о мерзостях Конго, в газетных афишах, анонсировавших «культурный» досуг при посольствах соревнующихся государств; вот приметы города, который совсем недавно обрел значение, которому все «дипломатические» игрушки были еще в новинку. Но для меня это был город, где я мог лишь переходить из одного затемненного помещения в другое, спасаясь от уличной действительности, от пыли, яркого света и вида женщин из низших каст в цветастых сари (сама эта цветастость служила знаком низкого положения), трудящихся на строительных площадках. Город, вдвойне нереальный, внезапно вырастающий среди равнины: раскинувшиеся на многие акры руины XVII и XVIII веков, а затем – ультрасовременные выставочные здания; город, символическое величие которого словно говорило о богатой и благополучной глубинке, а отнюдь не о той бедной, выжженной земле, по которой мы ехали целые сутки.
Но в тот вечер, лежа на своей полке в алюминиевом вагоне «Шринагарского экспресса» и ожидая, когда тронется поезд, я вдруг обнаружил, что уже начал получать извращенное удовольствие от стремительности происходящего – удовольствие при мысли о двадцатичетырехчасовом путешествии, которое привело меня в Дели и о предстоящем мне тридцатишестичасовом путешествии еще дальше к северу, через все плоские просторы Пенджаба – к мощнейшему горному хребту в мире. Удовольствие от осязаемого уголка роскоши, который я выгородил себе, чтобы удалиться от того неприятного, что я пока еще мог видеть сквозь легко приводимые в движение окна с резиновым валиком: носильщики в красных тюрбанах, тележки с книгами и журналами, развозчики товаров, бешеные вентиляторы, висящие так низко, что с моей койки казалось, будто над платформой подвешен потолок из крутящихся лезвий; некогда всё это было ненавистными символами неудобства, теперь же отвечало моему нетерпению и возбуждению, которых – пускай я понимал, что эти чувства обманчивы, – я уже боялся лишиться, потому что с падением температуры на двадцать градусов все в скором времени должно было вернуться к заурядности.
Пенджаб, на который в течение ночи я то и дело поглядывал из окна, был беззвучным и невыразительным, если не считать бегущих прямоугольников света от нашего поезда. Черные поля, на их фоне – еще более черная тихая хижина, замершие в ожидании солнца, которое вновь придет на целый день: чего же еще я ждал? Утром мы прибыли в Патханкот, в конечный пункт: и как странно мне было слышать это короткое определение – сугубо техническое, промышленное и резкое, – растянутым в целое предложение на хиндустани: конечный железнодорожный пункт на пути в Кашмир. В этот ранний утренний час на станции было прохладно; вдалеке виднелись какие-то кусты, и даже мерещилось – пускай это был только обман чувств, – что горы уже близко. А пассажиры нашего поезда появились в шерстяных фуфайках, спортивных шапках, куртках, кардиганах, свитерах и даже перчатках. Вся эта шерстяная экипировка была типична для летнего отпуска в Индии, и хотя пока в ней не было особой необходимости, она уже говорила о предвкушении отдыха, который почти начался.
Поначалу единственное, что бросилось нам в глаза на этих поросших низким кустарником равнинах вблизи пакистанской границы, – это присутствие армии: лагеря с указательными столбами (сплошь побелка и прямые линии), ряды грузовиков и джипов, кое-где – маневры легких танков. Казалось, эти люди в походной форме оливкового цвета и в маскировочных панамах принадлежат уже к другой стране. Они по-другому ходили, они были красивы. В Джамму мы сделали остановку, чтобы пообедать. А потом начали подниматься вверх, подъезжая к Кашмиру по дороге, построенной индийской армией в 1947 году, во время пакистанского вторжения. Становилось прохладнее; появились горы и ущелья, неровная местность – холм за холмом, отступающие равнины, издалека теряющие цвет. Мы ехали вдоль реки Ченаб, русло которой по мере подъема, переходило в теснину, заваленную бревнами.
– И откуда же вы?
Это был индийский вопрос. Мне приходилось отвечать на него раз по пять в день. И вот я снова пустился в объяснения.
Человек, заговоривший со мной, сидел сбоку, по другую сторону прохода. На нем был приличный костюм. У него была лысина, остроконечный гуджаратский нос; казалось, он чем-то расстроен.
– И что вы думаете о нашей великой стране?
Это был еще один индийский вопрос; и сарказм при ответе не годился.
– Только честно. Скажите мне, что вы думаете.
– Хорошая страна. Очень интересная.
– Интересная. Вам повезло. Вот пожили бы вы тут! Мы же здесь как в западне. Понимаете, о чем я? В настоящей западне.
Рядом с ним сидела его полная, довольная жена. Наш разговор явно занимал ее меньше, чем я сам. Всякий раз, как я глядел в сторону, она меня изучала.
– Всюду коррупция и кумовство, – продолжал мой собеседник. – Все хотят устроиться на ооновскую работу. Врачи уезжают за границу. Ученые бегут в Америку. Будущее – сплошная чернота. Вот вы, например, сколько зарабатываете у себя в стране?
– Около пяти тысяч рупий.
Несправедливо было наносить такой жестокий удар. Но он его выдержал.
– И что же вы делаете? – спросил он.
– Преподаю.
– И что же вы преподаете?
– Историю.
Похоже, это его не впечатлило.
Я прибавил:
– И еще немного – химию.
– Странное сочетание. Я сам – учитель химии.
Такое случается с каждым выдумщиком.
Я нашелся:
– Я работаю в общеобразовательной школе. Там приходится учить всему понемножку.
– Понимаю. – Сквозь замешательство пробивалась досада; его нос начал подергиваться. – Странное сочетание. Химия!
Мне стало не по себе. Впереди было еще несколько часов совместного путешествия. Я сделал вид, что у меня разболелась голова от детского плача. Так не могло больше продолжаться. Но скоро пришло избавление. Мы остановились на автостоянке среди сосен, над зеленой лесистой долиной. Мы вышли размять ноги. Было прохладно. Оставшиеся позади равнины уподобились болезни, точные симптомы которой уже невозможно припомнить после выздоровления. Теперь шерстяные вещи были очень кстати. Надежды на каникулы начали оправдываться. А когда мы вернулись в автобус, то оказалось, что учитель химии и его жена поменялись местами, чтобы ему уже не пришлось продолжать беседу со мной.
Была ночь – ясная и холодная, когда мы делали остановку в Банихале. Гостиница для путешественников была погружена во тьму: электричество выключилось. Повсюду суетились служители со свечами; при свечах готовили еду. В лунном свете террасированные рисовые поля походили на старые окна в свинцовых переплетах. Утром они выглядели совсем иначе – зеленые, грязные. После банихальского тоннеля мы начали спускаться все ниже и ниже, мимо сказочных деревенек – утопающих в ивовых рощах, орошаемых речушками с травянистыми берегами, – в Кашмирскую долину.
* * *
В Кашмире царили прохлада и яркость красок: желтые горчичные поля, горы со снежными шапками, молочноголубое небо, на котором мы вновь увидели драматичные облака. Там люди кутались от промозглости утреннего тумана в коричневые одеяла, а мальчишки-пастухи в шапочках с закрытыми ушами взбирались босиком по крутым и влажным каменистым склонам. В Казигунде, где мы остановились, была еще и пыль в солнечном свете, хаос базара, ждущая толпа и запах, стоящий в холодном воздухе: смешанный запах угля, табака, масла для жарки, застарелой грязи и человеческих испражнений. На залепленных грязью крышах деревенских домов росла трава – и тут я наконец понял, почему в той сказке, которую я читал в детстве в « Вест-Индской хрестоматии», глупая вдова загоняла свою корову на крышу. Автобусы, куда набились мужчины с выкрашенными в рыжий цвет бородами, уезжали туда, откуда мы приехали. Пришел очередной автобус, остановился. Толпа заволновалась, ринулась вперед и отчаянно прилипла к окошку, откуда мужчина с усталыми глазами высунул в благословении худую руку. Он, как и остальные, отправлялся в Мекку; и какой же далекой казалась из обрамления этих сторожевых гор Джидда – арабский паломнический порт, где притаились опасные рифы, над которыми синие воды делаются бирюзовыми. В закопченных кухонных каморках сидели и готовили пищу сикхи со свирепыми бородами и светлыми глазами, воины и властители не так уж и давно минувшей эпохи. Каждый съестной ларек заманивал вывеской. Тяжелые белые кружки были в щербинках; на столах, поставленных под открытым небом, лежали клеенчатые клетчатые скатерти; земля под ними превратилась в размягченную грязь.
Горы отступали. Долина становилась шире, переходя в рыхлые, хорошо орошенные поля. По обочинам дороги росли тополя, а ивы клонили ветви над берегами прозрачных речушек. И вдруг в Авантипуре, посреди сказочной деревеньки с покосившимися деревянными домишками, выросли серые каменные развалины: эти громоздкие балочные перекрытия, могучие, с квадратным основанием колонны портика, крутые каменные фронтоны колоннады вокруг центрального святилища, массивные и неуклюжие в этом разрушенном состоянии, – все это будило воображение, уносило его на много веков назад, к древнему культу. Это были руины индуистского храма VIII века, как мы узнали позже. Но ни один из пассажиров не вскрикнул от удивления, никто не показывал пальцами в окно. Они ведь жили среди руин; индийская земля была богата древними изваяниями. В Пандретхане, на окраине Шринагара [40]40
Шринагар (Сринагар) – столица штата Кашмир, популярное место отдыха на озере Дал.
[Закрыть], вокруг развалин похожего храма, только поменьше, расположился армейский лагерь. Солдаты занимались там военной подготовкой. Ровными рядами стояли армейские грузовики и бараки; на обочине виднелись щиты с символикой армейских дивизий.
Мы остановились у поста городской таможни, в заторе из грузовиков «Тата-Мерседес-Бенц», откидные борта которых были разукрашены цветочными узорами и надписями «Пожалуйста, сигнальте», выведенными затейливыми буквами на желтом или розовом фоне. На фальшполах лавок закутанные в одеяла мужчины курили кальяны. Огибая город, мы доехали до проспекта, обсаженного исполинскими чинарами, чью сладостную тень кашмирцы считают целебной, и свернули во двор Центра приема туристов – нового здания из светло-красного кирпича. Напротив, через дорогу, возвышался огромный щит с портретом мистера Неру и с его призывом – обходиться с иностранным гостем как с другом. А прямо под этим щитом уже стояли кашмирцы и что-то выкрикивали – на первый взгляд, с враждебными намерениями, и их толпу едва сдерживали офицерские тросточки элегантных полицейских в тюрбанах.
Среди тех крикунов были владельцы плавучих домов или слуги владельцев. Трудно было представить, что эти люди могут чем-то владеть или предлагать что-то стоящее. Но плавучие дома действительно существовали. Белыми рядами они качались на водах озера, на фоне зеленых островков, перекликаясь своей белизной со снегами на склонах окрестных гор. Там и сям бетонные ступеньки спускались с прибрежного бульвара к прозрачной воде озера. На ступеньках сидели мужчины и курили кальяны; их лодки– шикарысмотрелись скоплением красных и оранжевых навесов и подушек; и в таких шикарах нас переправили к плавучим домам. Причалив и поднявшись по изящным ступенькам, мы обнаружили интерьеры, которые превзошли все наши ожидания: ковры, медные изделия и картины в рамах, фарфор, деревянные панели обшивки и полированная мебель другой эпохи. И сразу же Авантипур и все прочее исчезли. Здесь мы очутились в английской Индии. Здесь нам дали осмотреть старинные записи, потускневшие за десятки лет отзывы постояльцев. Были здесь и приглашения на свадьбы английских армейских офицеров, которые сейчас, наверное, были уже дедушками. И сам владелец плавучего дома, который казался таким ничтожным возле Центра туризма, смотрелся так жалко, когда он ехал на велосипеде позади нашей тонгии со слезами на глазах умолял посетить его баржу, тоже переменился: скинув обувь, опустившись на колени на ковер, он вдруг сделался таким же утонченным, как и фарфор – теперь большая редкость в Индии, – в котором он подал нам чай. Вот еще фотографии – портреты его отца и гостей его отца; вот еще отзывы; вот рассказы о большущих порциях английских блюд.
За окном виднелись горы со снежными шапками, обступавшие озеро, а посередине возвышалась крепость Акбара – Хари-Парбат; тополя отмечали стоящий на берегу озера городок Райнавари; а вдалеке, за блестящей полоской воды, на поросших свежей зеленью нижних склонах гор – словно за долгие века земля смылась вниз, чтобы заполнить трещины между скалами, – раскинулись могольские сады с их террасами, прямыми линиями, центральными павильонами и водотоками, где вода стекает по рифленым бетонным ярусам каскада. С моголами еще можно было бы смириться, да и с индуизмом. Но вот с английским присутствием – хоть оно и было знакомо лучше всего по книжкам, песням и тем бледным рукам близ Шалимара – который оказался не рекой, как я думал, а великолепнейшим из садов, – именно с английским присутствием оказалось труднее всего смириться в этой запертой между гор долине, в этом городе кальянов и самоваров, где в пыльном сквере у Резиденси-роуд располагался караван-сарай для тибетцев в высоких сапогах, шапках, с заплетенными в косички волосами, в одеждах такого же грязно-серого цвета, что их обветренные лица, мужские – неотличимые от женских.
Но мы не стали селиться в плавучем доме. Уж слишком трогательными, слишком личными были хранившиеся там реликвии. Их романтика была мне не по вкусу, а отделить их от этой романтики было невозможно. Я бы непременно чувствовал себя непрошеным гостем, чужаком, каким чувствовал себя во всех этих районных клубах, где на стенах биллиардных по-прежнему висели в рамках карикатуры 1930-х годов, где библиотеки пришли в запустение, где навеки застыли пристрастия одного поколения, где на стенах курительной комнаты висят запачканные гравюры, на которых сквозь отражения на пыльном стекле с трудом можно разглядеть фигуры буйных всадников с подписями «африди» или «белуджи». Индийцы с легкостью прошли бы мимо таких реликвий; романтика такого рода отчасти являлась частью их жизни, а теперь они унаследовали ее целиком. Я же не принадлежал ни к англичанам, ни индийцам; мне было отказано в триумфах и тех и других.








