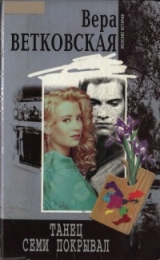
Текст книги "Танец семи покрывал"
Автор книги: Вера Ветковская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Он умолк, рассеянно глядя на воду.
– И вы хорошо жили? – спросила Стася.
– Прекрасно! – с чувством проговорил Чон. – На праздники приезжали из аулов родичи ее отца, бывало, до двадцати человек... И это было так здорово! Никому не было тесно. Да, это был настоящий дом...
– Так что же произошло?..
– Ах, Стася, – с горечью промолвил Чон. – В этом доме завелся один совершенно ужасный человек, который все взял и разрушил своими руками.
– Какой человек?
Чон со всего размаху ударил себя в грудь рукой.
– Я. Вот этими самыми глупыми, подлыми руками все взял и разрушил...
– Почему ты это сделал? – почему-то не удивившись его ответу, спросила Стася.
– Это отдельный разговор. – Чон нахмурился, и Стася явственно ощутила, что он как бы закрылся от нее и что задавать вопросы не стоит.
Возможно, Стася бы не унялась и потребовала, воспользовавшись его откровенностью и хорошим настроением, чтобы он рассказал ей все до конца.
Но она не чувствовала себя вправе это делать.
Ведь у нее тоже имелась тайна, которую она пока не собиралась раскрывать мужу...
Глава 21
НИЗКОЕ СОЛНЦЕ ПАВЛА ПЕРЕВЕРЗЕВА
Когда Стасю спрашивали, кого она считает своим учителем, то она безо всякого кокетства отвечала:
– Низкое солнце.
Конечно, рассеянное бормотание Стаси можно было принять за ответ, но он все-таки нуждался в кое-каком пояснении. А вот пояснять Стася ничего не умела и не пыталась. Люди, не обладающие ассоциативным мышлением, казались ей иностранцами, языка которых она не знала, а они не владели ее языком.
Но Павел – не Чон, а Переверзев – понимал ее с полувздоха.
Павел ночевал на веранде, и каждое утро его, как сонное постукивание созревших плодов, будили шаги Стаси.
При низком солнце она обходила своивладения, а они были гораздо обширнее соток, описанных в техническом паспорте домовладения. Наблюдая за ней сквозь неплотно прикрытые ресницы, Переверзев думал, что Стасины владения простираются с земли до неба, с рассвета до заката; с этого света на тот вели крохотные Стасины следы, неуловимые глазу, как пушинки-парашютики майских одуванчиков – они залетали, казалось Паше, в глухонемые космические бездны, спрятанные за колесами созвездий, за мятущимся пламенем комет, оставляя там легкие метки нашей жизни, осторожные силки, по которым человечество, может быть, когда-нибудь сострочит расползающиеся края жизни.
Итак, Стася любила низкое солнце. Павел, наблюдая за ней, всякий раз пытался вспомнить картины, написанные на открытом воздухе при низком солнце... В лучах заходящего солнца Пластов писал «Ужин тракториста». Сумерки там поглощают звонкие краски, лучи заходящего солнца заливают окружающий мир оранжевым светом, а тени становятся холодными, лилово-багряными... У Стаси он не помнит картин, написанных в лучах восхода или заката. «Настурции» у нее написаны против света, льющегося из окна комнаты, непривычное освещение, называемое «контражур», выражающееся в контрасте, когда на светлом фоне окна темные пятна синей воды в хрустальной вазе и на рыжих лепестках цветов видятся почти силуэтами в ореоле света.
Отличная картина. Но вообще она любит писать на открытом воздухе, цвет тогда становится более трепетным, подвижным, обогащается тончайшими холодными оттенками от голубого неба и солнечных лучей.
Переверзев чувствовал Стасино появление в саду, как прикосновение солнечного луча к запыленному углу веранды.
Сад ощущал легкое сотрясение от того, как мгновенно вплетались нити света в шелестящее ночной тайной гнездо тьмы. И темень, как ночная птица, снималась с гнезда, мелкие птахи разносили паутинки света по всему саду. Клевер с бусинкой росы на детской стриженой головке оказывался освещенным насквозь – так и напрашивался на полотно. И сирень встряхивалась, как Терра, – темно-лиловая, серебристо-серая, дымчато-голубая, бледно-сиреневая... Луч касался небритой щеки Павла, – и тут он слышал стук калитки. Это входила в сад Стася.
Да, еще было низкое солнце. Оно посылало почти горизонтальные лучи. Но с каждым Стасиным шагом, с каждым взмахом ресниц угол преломления лучей менялся, рос, – через час он сделается слишком старым для того, чтобы чему-то учить ее... Но пока лучи проходили сад навылет, пока апельсиновый детский пушок еще не отлетел от света, пока еще, если прищуриться, можно было увидеть весь спектр цветов, полную радугу, обвивающую ветви деревьев.
Павел смотрел на то, каксмотрела Стася.
Ему казалось, он смотрел ее глазами и ее сердцем: под тем же ракурсом, что и ей, виделась ему вся в росе, как драгоценный царский убор, паутина, освещенная солнцем под еловой ветвью. Смежив веки, он устремлял взгляд на невыносимо яркую клубничину, выглядывающую из своего трилистника, на строгий можжевеловый куст, напоминавший какую-то средневековую готическую фигуру...
Да что только не приходило ему в голову, когда он видел, как русое, распушенное солнцем крыло Стасиных волос касалось ветки яблони, ветки сливы, ветвей кустарника... Один раз она надолго застыла вдалеке у забора, залюбовавшись вдруг ржавым гвоздем, который Павел физически разглядеть не мог, он видел, что это был именно гвоздь, – такое получилось оптическое чудо...
Он понял, почему она так долго стояла у забора – тень гвоздя была похожа на трогательный кувшинчик для молока...
О, как она была понятна ему, эта девушка, каждый волосок в пряди ее волос был ему понятен, как дождь, как утренний туман, как любое явление, трогающее душу художника.
Как хотелось ему временами, чтобы Стася все-таки проявила себя как женщина. Оглянулась бы на него, чтобы убедиться, что он следит за нею, перебросила бы ему через край веранды цветок календулы... Но он знал, что ее женская суть глубже игры и легких касаний кокетства, что Стася черпает свои краски из такой невероятной глубины, на которую не рискуют опускаться мифические тролли, из тех сокровенных запасов женственности, которые пока еще сохраняют эту планету от катастрофы.
Нет, она не кинет на него взгляд, не бросит ему цветок... Их много в саду, и все они принадлежат ей, он может взять себе любой на память о ней, может даже вытащить ржавый гвоздь вместе с тенью, которую он отбрасывает, и выцарапать им на груди грозное Стасино имя и умереть от заражения крови.
Утренний сад весь дрожал от нежности, от корней деревьев до самых птиц на вершинах елей; ему как будто передалась нежность Павла Переверзева.
Вечером при низком солнце они часто гуляли по саду вдвоем.
Лучи солнца ложились на землю под тем же углом, и рисунок облаков был почти утренним, но что-то вечернее сквозило в окраске травы. Трава была очень чутка; под ней спали мертвые. Солнце подмешивало немного грусти в краски цветов. С каждой секундой печаль росла как тень, на стушеванном фоне горизонта как будто слышалось приглушенное филирование скрипок и альтов.
В кувшинчике, подвешенном на ржавом гвозде, уже была не тень, а ночь. Волны синей прохлады слоями сходили с сиреневой высоты, как музыка с крутящегося диска.
– Что ты здесь все высматриваешь? – однажды отважился спросить Стасю Павел.
– Себя, – засмеялась Стася, – кого же еще? Эта груша – я, кусок коры – тоже я... Так создается рисунок. Сперва узнаешь себя в каком-то жесте растения, в шорохе кукурузы, в зыбком очертании тучи, а потом это узнавание незаметно переходит в руку... Так Анна Павлова, должно быть, смотрела на лебедей, напевая про себя «Карнавал животных»... В саду столько всего, что он кажется больше всей нашей планеты!..
– В нем много тебя, поэтому он просто бесконечен, – усмехнулся Переверзев. – А ведь здесь каких-то тринадцать—четырнадцать соток, не так ли?
– Вроде того, – согласилась Стася. – Но он и правда огромен. И до обидного незнаком. Я не знаю по именам все мои цветы, например, некоторые розы. Их высаживала мама – она знала о них все. А я не знаю, как они называются, и это мешает мне рисовать их. Как-то даже брала в библиотеке книгу под названием «Розы», там были цветные фотографии, но отчего-то эта книга вызвала во мне такое отвращение, что я завернула ее в газету и тут же отнесла обратно... Уж не знаю, что подарила бы тому человеку, который бы представил мне вон ту красотку в платьице из бледно-розового шелка...
– Ее зовут «глория ден», – отозвался Павел. – Парнецианская роза.
Стася, пораженная, запрокинула лицо и долго разглядывала Переверзева.
– Конечно «глория»! Как я сама этого не услышала! А откуда ты знаешь, Павлик?..
– Считай, что я – цветок в твоем саду, о котором ты ничего не знаешь, – засмеялся Павел. – Когда-то в молодости я был главным художником-декоратором при Министерстве иностранных дел. В моем ведении было двадцать восемь дач наших высших сановников. Мне приходилось делать все – от закладки будущего сада и цветника до выращивания самых капризных растений. И жил я тогда в летней кухне рядом с дачей Вячеслава Михайловича Молотова...
– Бог ты мой! – Стася развернула Переверзева лицом к солнцу. – Так сколько же тебе лет, Павлик? Да-да, вижу морщины, но у тебя такие ясные глаза, синие-синие, как будто ты только вчера народился на свет. А ты, оказывается, живешь на свете давно и вращался вон в каких кругах...
– Так вышло, – пожал плечами Павел, – мой дядюшка тоже принадлежал к советской знати, он меня, лоботряса, и пристроил к этому делу... Я сады страшно любил... А тут все было в моем распоряжении, любая земля, любая рассада, удобрения, рабочая сила... Ну и люди... Рядом был дом отдыха, из него, собственно, приносили на все эти дачи завтраки, обеды и ужины. Могу свидетельствовать – Молотов очень скромно питался; что все ели в доме отдыха, то и ему в судках носили. Правда, шофер его был до такой степени раскормлен, что все время сидел в машине – ему трудно было оттуда лишний раз вылезти... А Молотову жена носки чинила, сам видел... Публика в доме отдыха была разная – актрисы, писатели, художники, вот и я стал с ними потихоньку играть, писать пьесы, рисовать... Портрет Вячеслава Михайловича нарисовал, не очень похожий, правда, но его у меня недавно Зюганов купил, причем заплатил в пять раз больше того, что я запросил. И долго тряс вот эту самую руку.
– Значит, тебе уже за пятьдесят? – спросила Стася.
– Поговорим о цветах, – молвил Переверзев. – Я тебе все сейчас представлю! Вот эта «гулбахор» из семейства древних дамасских роз, с махровыми соцветиями, эта – с ярко-розовыми – «тина-тин» из семейства центнофольных роз... «Де катр сезон» – чайная, или индийская, роза, цветет с начала июля до самых заморозков...
– А эти, похожие на дуэт Иоланты и Водемона?
– Это кусты «галлики», французских роз, белые, розовые, красные... «Мадам коше» – очень нежная дама из Прованса, ее обязательно укрывают на зиму... Кстати, в вашем саду поработал человек, знакомый с моим творчеством, – я первый в нашей стране догадался использовать розу «рулетти» как бордюрный материал... Если позволишь, на следующий год я посажу для тебя белоснежную «фрау карлу друшки», которая, правда, не пахнет, но хороша, как Элен Безухова при венчании... Еще посадил бы серебристо-жемчужную «дебору бесс», бронзовую «изабел», сливочно-абрикосовую «офелию», карминного «везивиуса»... Да, я бы ужасно хотел создать для тебя такой сад...
– Какой? – заинтересовалась Стася.
– Чтобы при взгляде на него у самого черствого человека на глазах выступали слезы.
– А еще какой? – поддразнивала Стася.
– Чтобы самый скупой на свете человек, побывав в нем, развязал свою мошну и раздал бы деньги нищим...
– Замечательно! А еще какой?
– Чтобы, когда ты вышла утром на веранду, тебе казалось, что сновидение твое не кончилось...
Стася, до этого времени слушавшая Павла с открытым ртом, вдруг как будто спохватилась, отвела от него глаза и страшно покраснела.
Павел понял, почему она так смутилась.
– Я не собираюсь говорить тебе о своих чувствах, – пожал он плечами. – Я только описываю сад.
– Эй, вы там! – окликнул их с веранды Стефан. – Сигаретой не угостишь, Павлик?
– Однако странно, – пробормотал Переверзев, извлекая сигарету из пачки, – Чон гораздо моложе меня, однако его все величают Павлом, а меня, старика, Павликом... Лови свою сигарету, Стеф! Что ты во двор носа не показываешь?
– Стеф взял заказ от издательства на роман о каком-то из Рюриковичей. Пытается занять себя, пока Зара на гастролях...
– А когда она вернется? – закуривая, поинтересовался Переверзев.
– Право, не знаю. Стеф тоже не в курсе.
– А когда Чон вернется из Германии?
– Тоже не знаю. Пишет, выставка Ибрагима произвела там впечатление... Он очень много делает для своего покойного друга... Может, потом во Францию выставку повезет, не знаю.
– Ты, наверное, очень скучаешь? – покосившись на нее, спросил Переверзев.
– Скучаю, наверное. Но в голове у меня все время крутится идея одной картины...
Глава 22
ГОДОВОЕ КОЛЕСО
Переверзеву было ясно, что Стася не просто так проводит все свои утра и вечера в саду: она готовится к какой-то большой работе, не иначе.
Сначала на ее втором этаже стали появляться рисунки очередной модели, прикрепленные булавками к планшету, оклеенному белым листом бумаги: фрагменты растения или оно само целиком. Зарисовки делались когда карандашом, когда пером и тушью, когда акварелью. Укрупненный лист или головка цветка в разных поворотах с лицевой и тыльной стороны, в профиль, сверху. Иногда планшет с моделью отсутствовал, рисунок делался по памяти.
Павел Переверзев ломал голову, как из этих разноязыких, разностилевых растений можно составить букет. Изысканные садовые цветы и сорняки... Хор из частушечников и сопрано. Что же задумала Стася?
– Увидишь, – хитро улыбалась Стася.
Цветы были разные, но кое-что было в них общее – поза растений, жертвенный наклон цветка или бутона; они располагались по касательной какой-то неведомой окружности, под одним, строго вычисленным углом, некоторые из них как будто обвивали стеблями обруч.
Павел сам, случалось, прикалывал к Стасиному планшету георгины «звездопад» с острыми трубочкообразными лепестками, наивные с лепестками-ладошками «веселые ребята», свежий растрепанный цикорий, но делал это как бог на душу положит, без учета нужного Стасе угла.
Стопка рисунков множилась, Павел без устали рассматривал ее, сидя в плетеном кресле на веранде рядом с неутомимым трудягой Стефом, – все цветы были куда-то устремлены, за край бумаги, за предел искусства и его законов, как плывущие по реке в ночь на Ивана Купалу.
Лилия, кувшинка (Павел сам лазил за ней в соседский пруд, рядом с которым днями достраивал новым хозяевам летнюю кухню), одуванчики, хризантемы, лютик, маргаритки, маки, анютины глазки, бархотка, пастушья сумка, резеда, лимонник, орхидея, жимолость, – нет, это не составится в букет.
Через неделю после того, как Стася принялась за рисунки, явился Родя.
Он принес готовый к работе загрунтованный холст. Стася его забраковала:
– Ленишься, Родион.
– Все равно его не ты грунтуешь, а я, – забастовал Родя. – Подрамник тебе, верно, Павел сделал (Переверзев кивнул). Молодец. Хорошо выдержал сосну... А это холст нормальный, эмульсионный.
Стася упрямо крутила головой.
– Ну хорошо, – смягчился Родя, – я сделаю грунтовку.
Стася снова мотнула головой.
– Что? Снова нет?
– Я сама сделаю. Все от «а» до «я», – объявила Стася и позволила Роде только натянуть холст на подрамник, но запас закрепила сама, а натяжку ткани помог ей сделать Переверзев.
Дальше пошла обычная работа, и Родя, попрощавшись, ушел, а Переверзев, раз уж его не гнали, остался наблюдать, как Стася, обвязавшись длинным полотняным фартуком, варила клей, аккуратно помешивая его. Когда клей остыл, Стася проверила его на «отлип» от пальцев, добавила несколько капель глицерина. Попросила Павлика, раз уж он все равно болтался без дела, увлажнить холст из пульверизатора.
После первой проклейки Стася долго шлифовала высохший слой пемзой, чтобы убрать ворсинки волокна. Ее движения были точны и пластичны, Павел подумал, что даже если бы он не знал, на что способна Стася, то догадался бы об этом, увидев несколько ее жестов. Каждый предмет мира, в котором она сейчас жила, отвечал ей взаимностью.
Пока Стася готовила клеевой грунт, Переверзев просеивал для нее мел, а потом – для второго слоя грунта – смешивал его с порошком сухих белил. После просушки и шлифовки Стася достала палитру из клеевой фанеры, масленку, мастихин и краски. Переверзев сидел тише воды ниже травы – он чувствовал, что его скоро отправят восвояси.
– Ужасно люблю названия красок, как детскую считалку, – проговорила Стася. – Внутри каждой краски своя мелодия. Ну-ка, нажми эти клавиши...
– Охра светлая, охра золотистая, сиена натуральная, сиена жженая, умбра, марс коричневый...
– Спасибо; кадмий красный, стронциановая желтая, изумрудно-зеленая, кобальт зеленый светлый, окись хрома, ультрамарин, краплак средний, кость жженая... Артист перед выходом на сцену настраивается с помощью грима перед зеркалом, а я твержу про себя эти волшебные слова. Их можно положить на шум прибоя, как гекзаметр.
На другой день Стася набросала сперва углем, а потом кистью эскиз. Кисть позволяла делать тоновый подмалевок светотени.
– Так что это будет? – не утерпел Переверзев.
– Натюрморт.
– Так я тебе и поверил.
Стася умброй прописала теневые части «натюрморта», набросала структурную форму предметов-растений, уточнила композицию.
Теперь кое-какие смутные догадки относительно сюжета полотна появились у Павла, но, чтобы Стася не выжила его прежде времени из мастерской, он затаился в углу как модель.
Пошли в ход жидкие краски, наметился цветовой подмалевок. Стася пока не вдавалась в детали, искала большие цветовые отношения.
Наконец по прозрачному подмалевку она принялась прописывать освещение и полутеневые места форм. Освещенные – корпусно, плотно, пастозными мазками с применением белил, тени – легкими прозрачными красками. Но перед тем как приступить к нюансировке, она все же вспомнила о присутствии Павла:
– Ступай, Павел. Дальше я пойду одна.
Он был вынужден спуститься вниз, испытывая зависть к Стефу, чье присутствие в мансарде не мешало Стасе.
Внизу на кухне Марианна готовила плов.
– Что, спровадила? – спросила она.
– Боюсь, на этот раз Стася затевает нечто сверхвеликое, – почтительно произнес Павел.
– Как раз ты-то этого не боишься, – пробормотала Марианна, оборачиваясь к нему. – Ой, какой лохматый! Нагни голову, я приглажу тебе волосы. Ты-то не боишься ее дара, а вот Чон...
Переверзев резко выпрямился, не дав пригладить свою шевелюру.
– Не надо так, Марьяша. Не надо так о Чоне. Он любит Стасю. Если б он ее не любил, я... я не знаю, что бы ему сделал...
– Любит, – равнодушно согласилась Марианна. – Но согласись, ее дар – огромное искушение для мужчины. Мало кто способен простить женщине ее дар. Вот ты – можешь.
– У каждого свои искушения, – молвил Переверзев.
– А я придумала кое-что, чтобы ты не поддался искушению, Павлик. Озеровская, певица, строит себе дачу по какому-то особому проекту в Родниках по Курской дороге. Она ищет для строительных работ честного, трезвого бригадира. Я уже порекомендовала ей тебя, Павлик. Чон вот-вот приедет, поезжай, Павлик, в эти самые Родники, не искушай судьбу.
Переверзев тяжело вздохнул:
– Что, неужели так заметно?..
– Шила в мешке не утаишь. Езжай с богом. И так голова кругом. Тут еще Стефан с этой Зарой... Она тоже скоро приедет...
– Тебе она не нравится? – помолчав, спросил Переверзев.
– И тебе она не нравится, – ответила Марианна.
Спустя две недели в девятом часу утра стукнула калитка.
Чон прошел в сад, запрокинул голову, глядя на веранду второго этажа.
Стеф сидел спиной к саду; голова его была окутана дымом сигареты.
Чон вытащил из кармана монетку и запустил ею в Стефа. Тот подскочил, обернулся, увидев Чона, просиял и открыл было рот, но Павел приложил палец к губам.
Он взял стремянку, стоявшую под вишней, обобранной перед отъездом в Родники Переверзевым, приставил ее к стене и вскарабкался на веранду.
Стася не слышала его шагов. В своем широком сарафане, запачканном краской, она стояла перед холстом с масленкой в одной руке и бутылочкой дамарного лака в другой.
Чон подошел ближе – и тогда увидел картину.
И он как будто выпал из реальности, позабыл про Стасю, про себя самого...
«Увидел» – в значении узнал, как узнают иногда незнакомую девушку, лицо которой жило в глубинах твоей памяти всегда.
Картина, написанная Стасей, принадлежала к шедеврам, которые словно вечно существуют в природе, но они невидимы до тех пор, пока не придет художник, которого позовет именно эта картина. Да, некоторые творения гениев как будто спускаются с небес, когда приходит их время, – а их творцы со своею неудачной судьбой, непризнанные, растерянно стоят в стороне...
Картина представляла собою колесо обозрения, на котором любят кататься дети, сплошь увитое цветами и обрамленное знаками зодиака, под которыми они восстают из земли. Нижняя часть колеса была оплетена мартовскими цветами – багульником, подснежником, дремотной фиалкой, дальше шли апрельские мать-и-мачеха, ландыш, незабудка, на стыке Овена и Близнецов расцветали жасмин и сирень, акация, кукушкины слезки, васильки, цикорий, ромашка, пион – все это перепадало Раку, добавлявшему в этот пир цветов настурцию, бархотку, колокольчик, календулу, розу; наверху из созвездия Льва, как из рога изобилия, сыпались гладиолусы, астры, орхидеи, лилии, тигровые и речные, кувшинки; Дева добавляла к ним лотос; внизу, в садах Скорпиона и Стрельца, распускались белоснежные хризантемы, декабрьская вьюга приносила морозоустойчивые гвоздики, и Козерог добавлял к ним морозные лилии, украшающие окна наших теплых жилищ...
Чон очнулся. Он забыл, что они со Стасей давно не виделись.
Он не помнил, что она – его жена.
С бешено колотящимся сердцем он всматривался в краски, которыми Стася написала иней на стекле, недоумевая, как ей удалось добиться эффекта теплой голубизны...
– Ты лессировку делала ультрамарином?
– Как ты догадался? – спросила Стася.
Стыд обжег сердце Чона. Он понял, что означал этот ее машинальный ответ – Стася всегда ощущала его рядом с собою. Она отозвалась как будто на свой внутренний голос.
Стыд стиснул его горло. Он ничего не мог поделать с собой. Это была боль, это была зависть.
– Мелкие комочки видны, – ответил он хриплым голосом.
– Значит, плохо флейцем прошлась, – задумчиво произнесла Стася – и вдруг, вжав голову в плечи, стала медленно оборачиваться.
Она побледнела, масленка выпала из ее рук.
С криком Стася бросилась Чону на шею, покрывая его лицо быстрыми, детскими поцелуями.
Чон крепко, изо всех сил обнимал ее, зарывшись в ее волосы.
Но сквозь них он видел картину.
В глаза вливалась небесная красота, в слух – музыка сфер, а сердце никак не могло вытолкнуть наружу тяжелый, черный сгусток, никак не могло, никак.
Глава 23
ЯНТАРЬ БАЛТИИ
«Ничто так не способствует успеху как успех», – любил говаривать Юрий Лобов, и Зара на личном опыте убедилась, что это – святая истина.
Лобов бросил свою пластическую группу в гастроли по Прибалтике, как маленьких детей в воду, выплывут – станут отличными пловцами, не выплывут – пусть поищут себе другое поприще.
Там, в Прибалтике, у него были связи и люди, готовые предоставить ему помещение и собрать зал, но Юрий, человек осторожный и осмотрительный, несмотря на то что любил производить совсем другое впечатление, повез в турне вместе со своей труппой и двух звезд – Стаса Снитковского и Люду Одарову, сумев, правда, обставить дело так, будто и Стас и Люда, особо любимые в Прибалтике, сами милостиво разрешили лобовской труппе вклиниться со своими номерами между их выступлениями.
И Стас и Люда позже на всю оставшуюся жизнь возненавидели Лобова, и, если бы не высшие экономические соображения (считать все артисты хорошо умеют), расторгли бы с Юрием договор меньше чем через месяц.
Уже с четвертого выступления (было это в Краславе) стало ясно, что «Нереиды», так Юрий назвал свою группу, вызывают у публики куда больше интереса, чем поднадоевшие Снитковский и Одарова. Выступления Стаса проходили уже с такими жалкими аплодисментами, что он сам был вынужден предложить поменяться очередностью номеров с «Нереидами». Группа стала выступать последней, после песен Люды и Стаса.
И тогда наступил звездный час Зары.
Однажды вечером после выступления в маленьком городе Даугавпилсе – Зара снимала грим перед зеркалом – Лобов вошел в гримерку с какой-то книгой в руках, бросил ее на столик, подняв облачко пудры.
– Ты Пушкина читала?
– В школе, – буркнула Зара.
– В школе? И все? Неужели тебе самой никогда не хотелось раскрыть книгу поэта и выяснить, на самом деле он воздвиг себе нерукотворный памятник или нет...
Зара метнула на него взгляд, означавший, что она с покорностью готова вынести вступление Юрия к основной части его речи, которая, она знала по опыту, может уместиться в одно предложение.
– Как это можно не читать Александра Сергеевича и не чтить, – нудным голосом продолжал выговаривать Юрий, обращаясь теперь к остальным трем девушкам, намазывающим лица кремом. – И вы, молодые леди, незнакомы с произведениями этого автора?
Девушки все как одна отвернулись от Зары, подставляя ее как единственную мишень под ехидные остроты мастера.
– Так вот, Зара, – ощутив силу этого общего движения, обратился к девушке Лобов. – Тебе что-то говорит название «Египетские ночи»?
– Ну, это где Клеопатра убивала своих любовников за ночь любви, – припомнила Зара и порывисто обернулась к учителю с тревожными и вопрошающими глазами.
– Нет, ты меня неверно поняла, – ответил он, я не собираюсь облачать тебя в одеяние великой египетской стервы с тем, чтобы вокруг твоей персоны выплясывал миманс...
Девушки с облегчением переглянулись.
– Что еще ты можешь вспомнить из этого выдающегося произведения русского гения?
– Ну, там какой-то был тип... стихи сочинял... – неохотно ответила Зара.
– Не просто стихи, а импровизации... Вообще, Зарема, в свободное время прошу тебя заняться самообразованием. Я сам дам тебе список книг, понятно? А теперь промокни лицо лигнином, и пойдем ко мне в номер, я хочу показать тебе по видашнику одного артиста...
Барышникова Зара видела, и не раз, – эту же самую кассету тайно крутили в училище. Так и есть: отрывок из «Отчаяния», кусок из «Пробуждения после моря», целиком «Варяги»...
– Ну и что? – спросила она, когда Барышников застыл на шпагате в последнем эпизоде «Варягов».
– Вруби ассоциативное мышление... Сперва я спросил тебя о «Египетских ночах», напомнил об импровизаторе, кстати итальянце, затем прокрутил тебе три танца Барышникова... Тебя все это не наводит на какую-то мысль?
Зара немного подумала. Ей так хотелось угодить Юрию, благодаря которому она имела бешеный успех в «Нереидах», что она заставила свою мысль нырнуть в самые глубокие залежи серого вещества, после чего нерешительно произнесла:
– Эти танцы Барышникова – не совсем импровизации. Он их ставил. Но и импровизировать он, говорят, умеет.
– А ты бы сумела? – Юрий наконец подошел к главному.
– Один раз пришлось, – проговорила Зара, и тень набежала на ее лицо. – В одном доме.
Юрий слегка потрепал ее за ухо.
– Забудем об этом доме... Под какую музыку ты плясала?
– «Грустный вальс» Сибелиуса.
– «Грустный вальс», «грустный вальс»... – Лобов потянулся и, не глядя на телефонный аппарат, нажал три кнопки: – Олег, не спустишься ли в концертный зал на часок? Нет, твоя девушка пусть подождет в баре. Спасибо, дружище. Переоденься в трико, Зарема, пойдем вниз...
Зара, не задавая лишних вопросов, но всем существом ощущая, что сейчас наступает в ее жизни какая-то решающая минута, на глазах Юрия, который, правда, не видел ее, погруженный в свои размышления, переоделась, и они спустились вниз, в концертный зал, где Олег уже наигрывал на рояле арпеджио последовательных тональностей.
Поднявшись на сцену, Зара по привычке разминалась, пока Юрий включал два боковых софита. Наконец он обратился к Олегу:
– «Грустный вальс» Сибелиуса, пожалуйста! Нет, стоп! Отставить Сибелиуса. Будем делать так, Зара: я называю тебе музыку, даю минуту на размышление, после чего Олег начинает играть...
– Я не все знаю на память, – возмутился Олег.
– Можешь подбирать, – отрезал Лобов.
– «Подснежник» Чайковского, – произнес Лобов.
– Мне не нужна минута, – сказала Зара и сделала знак Олегу.
...Через минуту Юрий хлопнул в ладоши.
– Отлично, – сказал он, – но будет гораздо лучше, если ты выбросишь из памяти Айседору в исполнении Майи, а именно «Музыкальный момент».
– Хорошо, – согласилась Зара.
– Олег, предложи ей музыку, – сказал Лобов.
– «Интродукция и рондо-каприччиозо» сойдет? – с любопытством спросил Олег.
– Да хоть «Варшавянку», – высокомерно бросила Зара.
Так начались Зарины импровизации.
Совместные гастроли «Нереид», Стаса и Люды закончились, и «Нереиды» стали выступать одни. Они проехались по тем же сценическим площадкам – вторая часть выступления «Нереид» была отдана на откуп импровизациям Зары, которые страшно понравились зрителю. Олег таскал с собою кучу нот. Публика не ограничивалась набором известнейших произведений Рахманинова и Шопена, Олегу пришлось попотеть, но Зара танцевала каждый номер так, будто он был десятки раз опробован на репетиции. Публика пыталась озадачить ее кодой из симфонии Стравинского или «Колыбельной» Мусоргского: Олег напоминал Заре мелодию, и она начинала танцевать. Лобов позволил ей обзавестись кое-каким реквизитом – мячом, золотистой лентой, хрустальной чашкой, бусами, цыганским платком... Она танцевала под русские народные песни, под музыку Паулса, под классику, каждый раз поражая Лобова и публику неожиданными идеями. Ее то и дело вызывали на бис.
– У тебя не тело, а целая библиотека движений, – восхищенно сказал ей Юрий.
Зара выступала с колоссальным успехом. Сбор превзошел все ожидания Юрия. Часть денег он решил использовать для полноценного отдыха «Нереид» и снял несколько номеров в пустынном теперь отеле Юрмалы.
«Нереиды» поселились в старом четырехэтажном корпусе на берегу моря, все, кроме Зары, которая выпросила себе отдельный, так называемый семейный домик и напомнила Юрию о его обещании пополнить ее образование. Лобов съездил к приятелю в Ригу и привез Заре целый багажник тщательно отобранных им книг. В его номере поселилась новенькая, Цилда, которую Юрий подобрал в ночном баре Вильнюса. Зара не чувствовала ревности. Она и правда стала много читать. Она чувствовала, что эти книги вливают в нее неожиданную энергию, язык некоторых из них обучал ее совсем иной пластике: Зара даже пробовала как-то протанцевать перед зеркалом «Глазами клоуна»...
Ей необходимо было собраться с силами перед возвращением в Москву.








