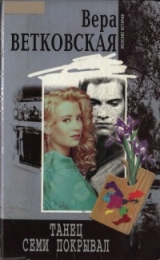
Текст книги "Танец семи покрывал"
Автор книги: Вера Ветковская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
На этот раз он писал мистическое произведение с легко прочитывающейся нравоучительной идеей.
Сюжет, до деталей оговоренный с сестрой, вкратце был таким.
...В однокомнатной квартире доживал свой век парализованный мужчина, Иван. Он до своей болезни вел хаотический, легкомысленный образ жизни. Когда-то у него были жена и сын, он их бросил. Жена работала на швейной фабрике, и ребенок часами сидел один в кроватке – время от времени соседка забегала взглянуть на него. Бывшая жена часто просила Ивана посидеть с сыном, пока она работает, но Ивану скучно было сидеть с ребенком. И вот однажды в доме, где жили жена и сын Ивана, случился пожар, и мальчик задохнулся от дыма.
Прошло немного времени, и на Ивана навалилась болезнь, приковавшая его к постели. Он стал беспомощным, как дитя. К нему приставили медсестру из Красного Креста, которая как-то, уходя, забыла выключить телевизор, что она обязана была сделать, покидая больного на ночь. В эту ночь разразилась гроза, в телевизор ударила молния, начался пожар...
Когда Иван очнулся – это произошло после его физической смерти, – он вдруг увидел в старинном трюмо, доставшемся ему по наследству от бабушки, отражение незнакомой комнаты. В ней жили женщина и ребенок. Иван изо дня в день смотрел на них, не узнавая ни женщины, ни мальчика.
Мать все время куда-то уходила, мальчик рос на глазах Ивана, который незаметно привязывался к нему, хотя не мог ни заговорить, ни переступить через раму трюмо и войти к нему. А в его собственной квартире поселилась семья, которая жила как бы сквозь него, Ивана, не видя ни его, ни отраженной в зеркале комнаты. Прошло немного времени, и у Ивана появилось какое-то чувство опасности, будто в комнате, отражающейся в зеркале, сгущались сумерки невиданной беды. Ему хотелось предостеречь женщину, ребенка, но он не мог этого сделать. И вот однажды ночью началась гроза, и женщина, которую Иван видел все время как-то то боком, то спиной, вдруг подошла к зеркалу и посмотрела прямо Ивану в лицо. Тут он все понял. Эта женщина – его бывшая жена, а ребенок – их сын... Женщина медленно погрозила ему пальцем, повернулась и ушла, а в телевизор, стоявший в отражающейся комнате, ударила молния, и там начался пожар.
Иван беспомощно топтался перед зеркалом, невыносимо страдая за малыша, вставшего в кроватке. Иван кричал, но его никто не слышал. И вдруг он понял, что его, как живое существо, может услышать огонь. И он выманивал пламя из отраженной комнаты в свою, на себя. Загорелась старинная рама, зеркало треснуло, и последнее, что видел Иван, – мальчик и его мать спокойно читали в своей комнате, в которой было чисто и светло, какую-то книгу...
Все это Стефан придумал в августе, а в сентябре, когда между упругими золотыми яблоками стала проливаться золотистая листва, уселся писать сцену за сценой. Здесь требовалось очень точное, психологически выверенное слово, оперенное высокой поэзией, и Стеф боялся одного – чтобы вдохновение не унесло его на своей волне в философские красоты и размышлизмы, такое с ним уже случалось, и редактор издательства, в котором вышли две его книги, вымарывала у него целые главы.
– Смотри, не впади в сентиментальность, – предупредила его Стася.
– Сам знаю, – буркнул Стефан.
Он часами сидел на веранде, исписывая лист за листом своим бисерным почерком отличника, каковым он и был в действительности, почитывая для художественного аппетита то Кафку, то Бодлера, стараясь перенять от них прозрачность ультрамарина, разлитую в осеннем воздухе. А Стася в своей спальне-светелке, в мешковине с бретельками, служившей ей сарафаном, перепечатывала рукопись Стефа на машинке, время от времени выходя на веранду и подсаживаясь к осени вплотную.
Брат и сестра чувствовали себя совершенно счастливыми, настолько счастливыми, что забывали поесть в течение дня и, вспомнив об этом вечером, накрывали на веранде столик.
Николай Витольдович уехал в Бостон читать лекции тамошним студентам, и никто не мешал Стефу и Стасе вести рассеянный образ жизни: вставать когда вздумается, ложиться когда захочется.
Что касается Марианны, она никогда никому не мешала, однако заметила, что Стася в последнее время слишком много времени просиживает на веранде, с мечтательным выражением лица следя за плавным полетом листвы.
В разгар сентября, примерно на сороковой выбеленной странице Стефанова повествования, в особняке появился Чон.
Стеф и Стася, сидя на веранде, слышали, как залаяла Терра, бегавшая по саду, затем ее лай сделался менее сварливым, словно кто-то с ней за заборчиком, отделяющим сад от главного входа, вел переговоры; вскоре послышался голос Марианны. Терра снова замелькала среди кустарников, а через какое-то время со стороны главного входа послышался стук молотка.
Брат и сестра переглянулись – и спустились вниз.
Чон, вооружившись инструментами, которые ему бодро вынесла из сарая Марианна, подправлял прогнившее Террино крыльцо, прилаживая новые доски, орудуя поочередно то рубанком, то молотком, то пилой, то топориком, – да так ловко, сноровисто, что Стася подивилась.
Она была удивлена его появлением больше, чем обрадована.
Ведь расстались они после той встречи без всякого намека на будущую: Чон в гости не стал напрашиваться, и даже проводить Стасю предоставил Роде, и ее не пригласил к себе, хотя бы просто из вежливости. И Стася почувствовала себя оскорбленной, решив выбросить из головы этого странного человека, так вначале к ней расположившегося, а потом изобразившего полное к ней равнодушие.
Он явился в ее дом, как будто ничего не зная о запрете ее строгого отца, а может, Родя и в самом деле ничего Чону об этом не говорил. Или же он решил не принимать этот запрет на свой счет.
– Нет, я не просил у Родиона твой адрес! – в ответ на ее вопрос сказал Чон.
– Как же ты нашел меня? – недоумевала Стася.
– Ты сама сказала, что, когда облетают листья, из окошка твоей мастерской виднеется затылок бюста вождя в исполнении Вучетича. Я и сориентировался по затылку...
Стася беспомощно оглянулась на Марианну, всегда выполнявшую роль добросовестного стража, но нянька, растаявшая при виде работающего мужчины, наконец-то починившего что-то в их доме, где никто ничего не ремонтировал и все держалось на честном слове, умиленно поглядывала на Чона.
Даже Терра, услышав, что брат и сестра спустились вниз, примчалась к своему заборчику, положила на крыльцо передние лапы, одобрительно повизгивала, также довольная Чоном.
– Пойдем в дом, – бросив взгляд в сторону Марианны, сказала Стася. – Мы тебя чаем напоим...
Она в общем-то не знала, как следует вести себя с ним.
– Пока не закончу, не пойду, – отозвался Чон. – Браток, помоги мне малость, – сказал он Стефану.
Растерявшись, неумеха Стеф взялся своими изнеженными литературным трудом руками за доску, а Стася с Марианной отправились накрывать стол к чаю.
– Какой, однако, дельный молодой человек, – одобрила Чона Марианна, – не успел появиться, как сразу – за работу. В моем-то поколении все мужчины были такими, как этот Павел. Если видели, что в хозяйстве что-то нуждается в починке, тут же засучивали рукава... Вот Родя приходил – какой, кроме подрамника, был от него толк! А твой брат! Живет и не замечает, как все разваливается. А Павел обещал завтра новую щеколду на калитке поставить. Сразу увидел, что эта заедает... Как ты думаешь, удобно будет попросить его посмотреть кран в ванной?
Накрыв на стол, Стася снова вышла во двор. Нянька – за ней.
Чон спросил, есть ли краска.
– Чего-чего, а этого добра полно, – скосив глаза на Стасю, отозвалась Марианна.
Чон со Стефаном покрасили крыльцо.
– Ловко у тебя все получается, – похвалила Стася Чона.
– Чего там, – отмахнулся от похвалы Чон. – Я даже твой сарафан могу заштопать...
Стася засмеялась:
– Это рабочая одежда, мне в ней удобно...
– Тебе она к лицу, – одобрил Чон. – Ну что, Стефан, мы здорово все сделали, правда?.. У твоего брата рабочие руки, мы с ним за неделю приведем дом в порядок!
Марианна просияла, Стефан сконфуженно ухмыльнулся.
Стася повела гостя показывать дом.
Чон на каждом шагу восклицал:
– Это просто чудо какое-то! Смотри, какая паутина, такая бывает только в старых домах! Особенный, добросовестно сделанный узор, похожий на снасти... И эта лампа – под ней хорошо Диккенса читать! О боже, что за кровать! На таких королевы рожали наследников престола!.. А что делает Сальвадор Дали рядом с Достоевским?.. Пианино – из новейшей истории. – Чон, даже не присев на вертящийся табурет, заиграл начало сонаты-фантазии Моцарта. На звуки фортепиано прибежала Марианна, хотела что-то возразить, но Стася удержала ее. Чон бросил играть. – О, это Смирнов-Русецкий, судя по мазку, последние его сосны, правда? Какое кресло! В нем поневоле захочется вести паразитический образ жизни перед горящим камином! Давайте затопим камин! О! – Чон встал в дверях веранды и умолк. Стася с интересом смотрела на него, гадая, что это там его поразило, в саду. И окна, и веранда смотрели прямо на закат... – Стася, неужели твой дед правда был генералом, а не поэтом? Это жилище с окнами на закат, с верандой, откуда можно наблюдать, как садится солнце, просто создано для великого художника... Им бы не погнушались Веласкес или Ван-Гог, если бы они были русскими! А с другой стороны, здесь все настраивает не столько на творчество, сколько на чистейшее созерцание... Как же ты работаешь в таком доме?
– Мы со Стефаном работаем обычно на втором этаже, там все немного... легче, – объяснила Стася. – Брат пишет фантастику, я рисую... И там все не так основательно, как здесь, второй этаж надстроили не так давно, после войны...
Поднявшись на второй этаж, Чон исследовал обе комнаты и удовлетворенно кивнул.
– Да, тут хрупкие стены... и какая-то прозрачность в атмосфере, что-то детское... Тут можно работать. – Он подошел к Стефановой машинке и прочитал полстраницы напечатанного текста. – Да, понятно, твой брат работает очень и очень поэтично... – Стефан, довольный, разулыбался. – Наверное, вы со Стасей работаете в одной манере, только она в живописи, а ты, браток, в прозе. Стася, почему твои полотна не висят на стенах?
– Я этого терпеть не могу!
– Покажи, где они у тебя.
– За этой занавеской, – выдал сестру Стефан.
Тут Чон, взяв в руки первую попавшуюся картину – это был «Полет Мальвины над городом», умолк.
На картине были изображены мальвы с жалобно раскрытыми зевами, точно им нечем дышать. В этих цветах было что-то кукольное, трогательное, они летели посредине неба, как перистые облака, а внизу виднелась лепешка города с тщательно прорисованными серо-фиолетовыми красками улицей, фабрикой, городской площадью с памятником. Если долго смотреть на картину, создавалось впечатление, что мальвы, как воздушные шары, пытаются оторваться от насажденного человеческой рукой камня, от испуганно сбитых в кучку домов и крутящейся, как избушка на курьих ножках, фабрики... Чон вынес картину на веранду, прислонил ее к стене, присел перед нею на корточки... Стефан с торжеством скосил глаза на Стасю.
Но Стасе в эти минуты почему-то было тревожно, зябко, будто мимо нее пролетела больная птица.
Лицо Чона выражало волнение. Он то и дело трогал пальцем застывшие мазки, вставал, отходил, снова приближался к мальвам, молчал, погруженный в какую-то мысль, качал головой и как будто совсем забыл о присутствующих.
– Еще одну принести? – гордясь сестрой, спросил Стефан.
– Нет, этой вполне достаточно на сегодня, – глухо отозвался Чон. Он все не отрывал взгляда от мальв. Наконец, тряхнув головой, точно заставляя себя проснуться, спросил Стасю: – Слушай, если тебе понадобятся очень большие деньги, я приведу к тебе покупателя...
– Нет, нам хватает, – сдержанно отозвалась Стася. – Если тебе нравится картина, я могу просто ее подарить.
– Подарить? – Чон в изумлении воззрился на нее. – Чтобы принять ее в подарок, Стася, я должен сначала отремонтировать весь дом, построить сауну и вырыть в саду бассейн... ну, не знаю, что еще... Снести с лица земли мастерскую Вучетича, чтобы ничей затылок не застил тебе горизонт...
– Что, хорошо? – не выдержал Стефан.
– Поразительно! – выдохнул Чон.
Эта осень – счастливейшая в Стасиной жизни – пронеслась, как золотой мяч солнца, пущенный в небо могучей рукой, и вместе с тем Стасе запомнился каждый ее неповторимый день в отдельности, как прежде она запоминала меняющийся на глазах цвет кленовой листвы или тягучую живопись предзакатных облаков.
Наступающая прохлада подтачивала краски сентября. В неподвижном воздухе доцветали розы. Их цветение на ходу подхватывали георгины «веселые ребята», их лубочная пестрота ранила душу, как картинка, увиденная в раннем детстве. Сворачивались листья яблонь, мелким золотом осыпались березы, плавно ложились на землю кленовые листья с длинными черенками – лимонно-желтые, багряные, ржавые с алыми прожилками, цвета червонного золота, они просвечивали насквозь, если подставить их под солнечный луч. В сумерках печально благоухали растрепанные астры. Яблоки со стуком падали на землю – Чон собирал шафрановые плоды в корзину, мелко резал их на веранде и отправлял сушиться на крышу сарая.
Он приходил каждый день, но в разное время – когда утром, когда днем, когда в сумерках, и Стася, никому в этом не признаваясь, ждала его, ничего не могла делать. Бродила по комнатам, боясь отлучиться из дома, наигрывала неумелыми пальцами оброненные Чоном мелодии на пианино, перебирала свои старые платья и даже барахло Марианны, хранящееся у той со времен ее оперной карьеры, пытаясь как-то по-особенному нарядиться, и однажды, когда ей пришла телеграмма из Петрозаводска с одним словом «Приезжай», порвала ее в мелкие клочья.
...Марианна знала, от кого телеграмма, а Стефан, сколько ни добивался от Стаси признания, к кому она уезжает последние три года с Ленинградского вокзала, не добился от нее ничего вразумительного.
Телеграмму получил он и, вручая ее Стасе, заметил:
– Значит, ты ездишь вовсе не в Питер, а в Петрозаводск?
– Тш-ш! – сказала ему Стася. – Я никуда сейчас не еду.
Марианна же осторожно посоветовала Стасе:
– Поезжай. Тебе сейчас очень нужен совет...
Стася, стиснув зубы, отмалчивалась.
Она буквально считала минуты до появления Чона.
Она знала, что он обязательно явится, и это наполняло ее необыкновенным восторгом, – и вместе с тем чистое ощущение счастья подтачивала какая-то глубокая тревога.
Во-первых, рано или поздно приедет отец, и неизвестно, как он воспримет Чона.
Во-вторых, от коллеги Николая Витольдовича, уже вернувшегося из Бостона, она узнала, что у отца там случился сердечный приступ, а Стася помнила, что ее дедушка умер от инфаркта.
В-третьих, самое главное, она не могла понять, любит ли ее Чон, как она любит его... Об этом ей страшно было думать. Конечно, любит, думала она, чувствуя его ласкающий взгляд на себе; но не так, как она, проносилось у Стаси в голове, когда она замечала, что Чон погружен в какую-то свою думу и не слышит обращенных к нему слов. Где он в такие минуты путешествует душой, в каких пределах витает? И есть ли там она?..
О, он-то был в каждом трепете ее сердца, в каждом вздохе. Только ночью Чон отпускал ее. Он так ни разу и не приснился Стасе.
Как-то Стася попросила Марианну погадать ей на Чона.
В этот день он приходил с утра, побыл часа три, собрал метлой в саду опавшие листья, сгреб их в кучу и сжег, – они со Стасей, обнявшись, долго смотрели, как горела листва.
Чон, наконец, ушел, а Стася отправилась к Марианне, которая в тот день еще не показывалась у них – у нее побаливало горло, и она все утро делала себе ингаляции.
Марианна лежала на продавленном диване, обложившись старыми «Огоньками».
Стася присела на край дивана и стала рассматривать снимок на целом иконостасе фотографий и портретов.
Заметив ее взгляд, Марианна проговорила:
– Как жаль, что она уже умерла... Вот кто бы тебе мог рассказать как следует, куда может завести женщину страсть.
– Ведь тебе нравится Чон? – робко спросила Стася.
Марианна села в подушках, привлекла ее к себе.
– Мне-то что... Ну, нравится... Беда в том, что он чересчур нравится тебе. Ты ради него готова лечь под поезд и даже не заметишь, как он по тебе пройдет... Точь-в-точь как она. – Марианна указала пальцем на снимок.
– Разве иначе любят?
– Кто как, – неопределенно сказала Марианна. – У кого сердце с мизинец, у кого – с гору, у кого – с пылинку.
Стася отстранилась от нее.
– Погадай мне, Марьяша. Раз в жизни прошу, погадай, – взмолилась она.
– Стоит ли? – веско заметила Марианна.
– Это всего лишь карты.
– Всего лишь! – фыркнула Марианна. – Ну ладно уж. Возьми колоду из шкатулки и держи ее в руках, думая о Павле.
– А когда я о нем не думаю? – тихо произнесла Стася.
Глава 7
ГАДАНИЕ МАРИАННЫ
Гадать Марианну научила певица из театра «Ромен», в прошлом таборная цыганка.
Она же подарила ей свою колоду карт, присовокупив, что эти карты нельзя использовать ни для игры, ни для пасьянса.
Сама цыганка, сделавшись актрисой, заявила, что, занимаясь искусством, нельзя заигрывать с потусторонними силами, – а у Марианны в этот период случилась болезнь голосовых связок, вынудившая ее оставить сцену.
Сперва Марианна гадала исключительно приятельницам и знакомым. Она была отличной физиономисткой. Лицо говорило ей о судьбе человека больше, чем карты, – они только подтверждали ее догадки.
Но мало-помалу она вошла в силу и почувствовала: карты входят в пальцы музыкальной пьесой, одна карта, ложась рядом с другой, как будто вытягивает светящуюся нить из клубка вероятий. Их таинственный расклад все больше стал напоминать узор прихотливой человеческой судьбы.
Она научилась видеть в этом узоре рисунок, состоящий из отдельных петель, которые набирает на своем ткацком станке парка. Марианнины медитации, уверенные и вдохновенные, привлекали к ней все больше и больше желающих узнать свою судьбу.
С богатых Марианна брала деньги, причем случалось, что богатые прикидывались бедными, но Марианна давала понять, что ее не проведешь, и они поневоле раскошеливались. С бедных Марианна не брала ничего, не глядя на их одежду и не вопрошая о достатке, – просто говорила, что денег не надо.
Богатую клиентуру последнее время ей стал поставлять один преуспевающий коммерсант, как-то явившийся к ней в полном отчаянии: он потерял очень важный документ, утрата которого грозила неприятностями вплоть до лишения жизни, как в панике поведал он Марианне.
Марианна равнодушно, как всегда, выслушала весь этот бред, вложила в руку молодого человека колоду, и через минуту кинула карты.
И задумалась над ними надолго.
Наконец, выйдя из прострации, Марианна подала голос:
– Я вижу старого короля с бородой, но этого благородного короля нет на свете, хотя бумага хранится у него... Таким образом, я думаю, что это либо портрет старого бородатого короля, либо что-то такое, на чем есть его портрет, книга например...
Тут молодой коммерсант вскочил со стула как ужаленный.
– Конечно! – завопил он. – Лев Толстой! Я положил документ в «Анну Каренину»! – С этим криком он вылетел из дома.
Через час он уже снова был у Марианны. По щекам его струились слезы счастья.
– А говорят, у новых русских нервов нет! – выразила свое недоумение Марианна.
Тайны, которые нашептывали о людях Марианне карты, она хранила в себе, как в сейфе.
К ней приходили в слезах – и уходили счастливые.
Являлись радостные, беззаботные – а уходили в слезах.
Но самым близким Марианна гадать отказывалась. И теперь она не стала бы раскладывать на Стасю карты, если бы не неясная тревога, которую она почему-то испытывала последнее время при виде Чона. Он нравился Марианне, она очень внимательно присматривалась к нему, и пока он ни в чем не разочаровал ее. Чон не был похож на искателя приключений, на охотника пристроиться возле девушки из хорошей семьи. В нем не было искательства, он не старался никому угодить, а если делал какую-то работу в доме, то делал как будто для собственного удовольствия. И все же что-то в нем смущало Марианну. Может, ее пугал не столько он, сколько чувство Стаси к нему. Это уже не детское чувство, которое она испытывала к молодому механику теплохода, это была настоящая страсть.
– Клади карты на стол, – скомандовала Марианна.
Стася положила согретую своей рукой колоду на столик, застланный накрахмаленной белой салфеткой.
И тут произошло неожиданное: одна из кошек Марианны, серая Доротея, прыгнув на столик, стряхнула с него колоду.
Стася бросилась собирать карты с ковра, а Марианна задумчиво смотрела на кошку.
Ее живность была хорошо воспитана. Кошки никогда не позволяли себе вмешиваться в Марианнины дела, напротив, стоило ей взять в руки карты, все шесть красавиц аккуратным кружком ложились вокруг ее кресла.
– Что это ты, Дороти? – спросила она кошку с такой интонацией, будто была уверена, что получит ответ.
Кошка распласталась на столе.
– Брысь, – сказала Стася.
Доротея и ухом не повела.
– В чем дело, милая? – повторила Марианна. – Ты не хочешь, чтобы я гадала Стасе?
Кошка перевернулась на спину, лениво вытянула лапы.
– Что за ерунда! – возмутилась Стася и, схватив Доротею за шкирку, спустила ее на пол.
– Я не буду на тебя гадать, – отрезала Марианна.
Стася хорошо ориентировалась в интонациях няньки и поняла, что настаивать бесполезно.
– Тогда погадай на него, – взмолилась она.
– Нет.
– Тогда погадай так, словно ты гадаешь ему, – предложила Стася.
– Хорошо, – сдалась Марианна, – это можно. Но надо бы, чтобы он подержал колоду в руках... Устрой мне это, а потом принеси мне карты...
– Неужели без этого нельзя обойтись? – засомневалась Стася.
– Никак, – ответствовала Марианна.
...На другой день Стася принесла ей колоду.
– Павел держал ее в руках? – спросила Марианна.
– Совсем немного, – призналась Стася. – Я сделала вид, что хочу сыграть с ним в карты, а потом сказала, что передумала, и забрала колоду...
– Хорошо, – кивнула Марианна и, обратясь к кошкам, добавила: – Девочки, сидите тихо.
Кинув карты, Марианна что-то прошептала над ними, потом выдернула из колоды еще несколько карт... Сквозь гул своего сердца Стася слышала стук старых ходиков, висящих на стене. Наконец, Марианна заговорила.
– Король в плену. Он ни черный, ни белый, – бормотала она, будто находясь в трансе, – ни плох, ни хорош, но та, у которой он в плену, черна. Она идет сквозь его судьбу, а светлая дама, девушка, лежит у него на сердце. Король считает себя свободным, но он опутан по рукам и ногам. Король думает, что он зол, но он по природе добр. Та, что черна, его родственница...
– Родственница! – с невыразимым облегчением вымолвила Стася, у которой во время этого бормотанья сердце ушло в пятки. – Может, сестра?
– Может, сестра, – более трезвым голосом произнесла Марианна. – Не могу понять... Родственница.
– Светлая дама – это я?
– Верно, ты. Ты у него на сердце.
– Значит ли это, что он любит меня? – дрожащим голосом вопросила Стася.
– Он любит тебя, – подтвердила Марианна. – Он и умрет за тебя.
Стася вся вспыхнула, распахнув глаза.
– Чон – умрет за меня? Он так сильно меня любит?
Марианна сурово покачала головой:
– Нет, я не так выразилась, детка. Он умрет из-за тебя...
Глава 8
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НО...
Никогда еще осень не спускалась к зиме таким плавным откосом, устилая ступеньку каждого дня разноцветной, шуршащей под ногами листвой.
И медленно, как капелька тающего на закате солнца сугроба, полз столбик ртути к холодам; воздух трезвел, становился все прозрачнее, золотистые прожилки паутины светились между деревьями, рябина стояла как неопалимая купина в россыпи жгучих спелых ягод. И белые тела берез просвечивали сквозь листопад, который длился, длился и длился.
Ближе к сумеркам над горизонтом вытягивались в сумрачные острова облака, солнечные лучи переплывали через них, расточая краски, как будто вся радуга сумерек разом пребывала на них.
Стася писала картину «Ирисы в октябре». Собственно, цветы у нее были похожи на облака, разве что были тоном ярче. Чон, наблюдавший за ее работой, поражался почти музыкальной разницей двух тональностей, в которых доминировал лиловый цвет. Ему казалось, Стася не столько орудует кистью, сколько силой своего взгляда сдвигает цвета и смешивает краски.
Рядышком Стефан мирно стучал на машинке, перепечатывая страницу, время от времени зависая над клавишей, размышляя над очередной опечаткой – не несет ли она в себе зародыш неожиданной метафоры. Стефан относился к своим опечаткам с почтением истинного мистика.
Внизу шуршала пылесосом Марианна, взлаивала от избытка радости Терра, носясь по саду за какой-нибудь птицей. Один Чон ничего не делал в полюбившемся ему доме, просто плыл по течению осени.
Чону казалось, что он действительно плывет, хотя плавать он почти не умел, боялся воды, опасался ее, как существа, обладающего сознанием и заключающего в себе неведомую угрозу.
Сумерки струились с неба.
Растения поодиночке и все вместе заглатывали слабеющие солнечные лучи, а Стася все вникала в лиловую краску, как будто забыв о Чоне. И в такие минуты он испытывал странную ревность. Только истинный художник способен до такой степени уйти в переживание цвета. В этом переживании не было его, Чона, не было совсем, хотя она его и любила. И в Стефане, сидящем за машинкой, не было Чона. Казалось, брат и сестра заняты общим делом, потому что, когда Стефан делал паузу, обдумывая очередную фразу, Стася замирала над палитрой в размышлении. Единство ритма, в котором трудились оба, свидетельствовало об их кровном родстве.
Стася много раз предлагала Чону холст и краски, но он и представить не мог себе, как работать в ее присутствии.
Ее движения и прорывы сквозь реальные краски мира сковывали Чона, сводили на нет его фантазию. Еще он опасался, что если и примется наконец за работу, то поневоле последует течению ее образов.
Когда же она вытирала руки о тряпку и говорила: «Все, хватит!» – Стефан в эту минуту как раз выдергивал готовый лист из машинки, – Чон испытывал одновременно облегчение и разочарование.
Ему и хотелось жить в ее мире, и не хотелось – это чужая страна, путь в которую навеки был ему заказан.
– Знаешь, – однажды сказал он Стасе, – я был женат.
– Да ну? – удивился Стефан. Стася промолчала. – Вот не подумал бы о тебе. Ты вроде совсем молодой.
– Не такой уж я молодой, – наблюдая за Стасей, никак не отреагировавшей на это его сообщение, продолжал Чон. – Два года я состоял в браке. Там, у себя, в Майкопе.
– Ты развелся? – строго осведомился Стефан, вдруг ощутив себя защитником сестры.
– Развелся.
– Почему вы разошлись? – продолжал допрашивать Чона Стефан.
– Не сошлись тем, чего тогда не было ни у меня, ни у нее, – объяснил Чон, все поглядывая на Стасю. – Характер я воспитал в себе позже. В одиночестве.
– Твоя жена была брюнетка? – вдруг спросила Стася.
– У нее были каштановые волосы. – Чон пожал плечами. – Нет, не брюнетка. Каштановые с рыжинкой.
– Она была злая? – снова спросила Стася.
– Как раз напротив, исключительно доброе и покладистое существо. Но характеры у нас были разными.
– А сестра у тебя есть?
– Нет, сестры нет. Мать есть, но она живет своей жизнью.
– И больше у тебя никого нет? – допытывалась Стася.
– Есть, – возразил Чон. – Ты.
Стася дожила до двадцати двух лет, но женщиной в полном смысле этого слова так и не стала, несмотря на то, что уже однажды пережила любовь.
Она не делала то, что привычно было каждой мало-мальски смазливой девушке, не собирала свои русые волосы в прическу, не одевалась сообразно моде – Стася не вылезала из полинявших джинсов и простенького свитерка, не представляла, как накладывать макияж, в ее сумочке вместо косметички всегда лежал какой-то детский сор, вроде свистка и плюшевого пингвина да валдайского колокольчика, – в ней напрочь отсутствовало женское кокетство.
Она не умела играть голосом, лукаво и многозначительно улыбаться, напускать на себя невинный или, напротив, многоопытный вид, никогда не примеряла различные женские маски, ее контакт с зеркалом ограничивался несколькими взмахами перед ним щеткой для волос.
И поэтому в нее никто, кроме Роди, не был влюблен, никто о ней не грезил, не сходил по ней с ума.
И конечно, Стасе бы в голову не пришло, как любой благоразумной и знающей себе цену девушке, осторожно собрать стороною сведения о том, кого она полюбила, выяснить так, чтобы он сам ничего не заметил.
Специально она это не могла сделать, но все-таки кое-что о Чоне узнала – сначала от Родиона, позже от Марии – буквально на следующий день после знакомства с Павлом.
Стася и не думала скрывать от Марии своего интереса.
Дождавшись Марию после окончания сеанса в одной из аудиторий, Стася направилась следом за ней в курилку.
– Что – Чон тебе приглянулся? – сразу же догадалась Мария.
– Почему ты думаешь?.. – уклончиво возразила Стася.
Мария, закуривая, мельком взглянула на нее.
– У тебя лицо как будто изменилось... Вчера еще другое было, честное слово... Но мой совет – выбрось Павла из головы.
– Почему? – боясь услышать о Чоне что-то недоброе, спросила Стася.
– Он какой-то странный, – сказала Мария, прикидывая, как бы получше это Стасе разъяснить. – Недоступный. Худшая разновидность мужчин. Я его хотела охмурить, честно тебе скажу. Я ведь не урод. – Мария провела ладонью по своему упругому телу, которое уже пятый год рисовало все училище. – Ноль эмоций. Не пойму я Чона. Вроде не голубой, а никого у него нет.
– Ты уверена? – почему-то обрадовалась тогда Стася.
– Тебе-то что? – фыркнула Мария. – Ты у нас гений, а гении пола не имеют. Мужчину же прежде всего привлекает в женщине сознание своего пола.
– А человек он какой?
– Ты, а не я вчера с ним целый вечер просидела, тебе должно быть видней, – поддела ее Мария.
– Но все же?
– Тоже не пойму. С одной стороны, не столько художник, сколько торговец, продает картины своих знакомых гениев. С другой стороны, у него в прихожей стоит гипсовый сапожок, там всегда лежат деньги, заходи и бери. Все и берут, кому сколько совесть позволит, а отдают редко, но он и не помнит, кто у него брал, сколько брал... Из этого сапожка, как я успела заметить, кормится куча непризнанных гениев... Сапожок пополняет то он сам, Чон, то Пашка Переверзев, тот продает свои и Чоновы нетленки на Измайловке. Картины у Чона славные, между прочим.
– Да, я видела, – сдержанно сказала Стася.
– Ну, ты у нас гений, тебе-то они вряд ли пришлись по вкусу. А для среднего ума очень даже ничего.
– Неужели он правда ни в кого не влюблен? – вернулась к интересующей ее теме Стася.
– Абсолютно. Чона обхаживали такие девахи... Несколько приличных телок было.
– Что такое «телки»?








