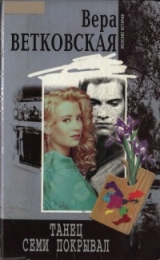
Текст книги "Танец семи покрывал"
Автор книги: Вера Ветковская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Но какие у нее достоинства – разве что умение малевать, которым от души восхищался Чон. Лучше бы поменьше восхищался. Мария еще говаривала: лучше поменьше восторга да уважения, а побольше физиологии.
О господи, она чувствовала, что не нравится ему!..
Что в этом темном лесу, где царствует плоть, ей страшно. Карта этого леса известна любой, самой глупенькой женщине, она в нем ориентируется как в собственной косметичке, а для Стаси – это не лес, а океан леса, космос леса, вселенная леса!
...Она сознавала, что любит Павла не так, как бы хотелось ему.
Она слышала легкий, как падение листа в отдаленном углу сада, вздох разочарования, слетавший с его губ после их близости.
Что она делала не так?
Она ведь так любила его, так дышала им! Она вся была рекой нежности, но, может, он привык к водопаду? Может, ему нужно видеть дно, помутившееся от бури, идти ко дну и выныривать на поверхность тогда, когда уже в легких почти не осталось кислорода?
Может, ему действует на нервы пение скрипки, истончающееся нежностью на кончике смычка, может, ему нужна какофония разом взорвавшегося звуками оркестра без дирижера, без публики, без музыки, без звезд, без Бога?..
Что ему от нее нужно – этого она не могла прочитать кончиками пальцев.
Она все думала и гадала, как бы поговорить на эту тему с Зарой.
Во-первых, кроме Заремы, у нее подруги не было.
Во-вторых, Стефан обожал Зару. Стася понимала, что он влюблен именно в ее тело – душу Зары не знал никто, кроме ее танца. Марьяна говорила: Зара – женщина с прошлым. Но раз с прошлым, с ней удобно будет поговорить о том, какой должна быть женщина с мужчиной, какой, если не рекой нежности?..
Стася все ближе и ближе подступалась к Заре, надеясь выведать от нее какие-то особые женские секреты, которые не узнаешь из книг – из тех противных книг, которые были тысячекратно одобрены Минздравом и рекомендованы правительствами всех стран.
Однажды Стефану удалось снять обеих девушек в саду. Стася и Зара стояли как сестры, прислонясь к стволу сливы, в этот момент Стеф окликнул их – и птичка вылетела.
Поразительный получился снимок.
Девушки принадлежали к двум совершенно разным типам, одна была русой, светлой, с мягкими на ощупь волосами; другая смуглая, с густой и жесткой шевелюрой. Но что-то общее сквозило в выражении их лиц – жертвенность и обреченность. Обе получились очень красивыми на снимке. Этой фотографией все любовались, и все хвалили Стефа, пока Родя не сказал:
– По моим наблюдениям, такие разные люди на снимках получаются похожими, если их снимает человек, в которого они влюблены.
– Естественно, они обе любят меня, – рассмеялся Стефан.
– Да, но они обе смотрят как бы сквозь тебя, будто за твоей спиной стоит еще некто... – продолжил Родя, глядя на Зару. Та встретила его взгляд, не изменившись в лице. Он опять подумал, что, наверное, Саша Руденко что-то напутал.
– Почему-то хочется взять и разлучить этих девушек, – вдруг произнес Чон и аккуратно разорвал снимок пополам. – Каждому – своя девушка. Как, Стеф, прикнопим наших девушек к стенке или будем носить их изображение в паспорте?
– Такую фотографию испортил, – пробурчал Стеф. – Они были как Снегурочка и Купава.
– И обе любили этого купчишку... Мизгиря, – вспомнил Родя.
– Ошибаешься, – ровным голосом промолвил Чон, – обе любили сладкопевца Леля.
– Когда вы поженитесь со Стефаном? – спросила как-то Стася Зару.
– Успеем. – Зара слегка улыбнулась. – Стеф все-таки моложе меня. Нет, обоим нам рано...
– А почему ты не переедешь к нам?
– Ты бы этого хотела?
– Да.
Зара внимательно, чуть ли не любовно посмотрела на нее.
– Спасибо. Но твой муж меня не любит.
– Он не всегда бывает справедлив, – смущенная ее словами, сказала Стася.
– Да, конечно. Зато к тебе он справедлив. Он ужасно любит тебя.
– Ты так думаешь? – еле слышно проронила Стася.
– Ты считаешь иначе? – удивилась Зара.
– Знаешь, мне как-то не с кем об этом поговорить... я... он...
– Продолжай, – мягко произнесла Зара.
– Понимаешь, я ночью с ним какая-то не такая. – Стася страшно покраснела, вымолвив это; Зара пристально посмотрела на нее – и быстро отвернулась. Она так и думала. Она все верно рассчитала. – Может, он хочет видеть во мне другую женщину... – продолжала Стася со страхом. – Но это я его люблю, а не другая! И я, которая его люблю, не могу быть другой, – почти с отчаянием закончила она.
– Вы просто еще слишком мало времени пробыли вместе, – произнесла Зара с улыбкой. – Так бывает, пока люди не привыкнут друг к другу.
Стася с надеждой посмотрела на нее:
– Правда?
«До чего тебя легко обмануть, девочка», – почти с состраданием подумала Зара.
– Конечно правда. У вас все будет хорошо, можешь мне верить.
Стася уже, отвернувшись от нее, стирала волосами катившиеся по щекам слезы. Слезы шумели внутри нее как дождь, и она не расслышала сквозь его шелест жестяной музыки последних слов Зары: «У вас все будет хорошо, можешь мне верить».
Глава 28
ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК ПЛАНЕТЫ
Обычно у брата и сестры это,как инфлюэнца, начиналось одновременно, точно одна и та же муза осеняла их своими крылами.
Хотя оба работали все время, без перерывов на тяжелое настроение или любовные испытания, – Стефан строчил заметки, статьи, рассказы, Стася писала этюды, выезжала на пленэр.
Но примерно раз в году оба принимались за большую работу, причем каждый по подготовке, незаметной для окружающих, но знакомой им обоим, догадывался о том, что у другого в это же время созрел какой-то замысел.
Стефан видел, что Стася «нагуливает глаз», изучая те или иные предметы в свете косых лучей солнца. Паша Переверзев чувствовал в этих Стасиных прогулках нечто романтическое и возвышенное, а Стефан знал, что Стася в эти минуты всматривается в себя через предмет или игру теней с трезвостью оценщика ломбарда и отстраненной холодностью нотариуса.
Стася уже замечала, что на письменном столе брата появился Уильям Блейк – первая ласточка, пущенная приближающейся музой. Затем – Рембо (с ним под руку Верлен), потом «Принцесса Клевская», появление которой было для Стаси загадкой, затем – Бунин, заложенный на одном и том же рассказе «Старуха». Эти книги уже давно помогали вдохновению Стефана. Существовал ряд мелких приживалок, вроде «Смирительной рубашки» Лондона и «Игры в классики» Кортасара – два томика, снятые с полки профана и сноба, – фантазия Стефа прихотливо соединяла несоединимое; залетали на веранду и случайные бумажные самолетики, вроде прелестного стихотворения Франсиса Жамма «Боже, сбереги от смерти маленькую девочку...» или «Молитвы» Лермонтова.
Когда количество зарисовок, сделанных Стасей к будущей картине, достигало своей критической массы, замысел Стефана созревал окончательно.
И прежде чем взяться – одной за кисть, другому за карандаш, – брат и сестра проводили вечер-другой наедине. Сначала они вели необязательный разговор, осторожно нащупывая интонацию того, что их волновало. Поговорив об этом, они расходились по своим клетушкам на втором этаже; если было тепло, Стефан работал на веранде.
Тень дикого винограда, обвившего веранду, падала на исписанные им страницы. Тень Зары падала на ровно ложившиеся строки. Стефан считал, что ей он на этот раз обязан вдохновением. Иногда к нему в своем запачканном красками сарафане входила Стася; он зачитывал ей куски, в которых сомневался.
Слог Стефана мужал, слово его становилось прозрачнее, поэтичнее, но он еще не знал, сумеет ли поднять свой собственный замысел.
Слишком мало было у него информации о каких-то необходимых ему научных проблемах, все это приходилось «покрывать» поэзией, характерами, психологией.
Тень Зары лежала на каждой исписанной им странице, но отрывки он почему-то читал вслух не ей, а сестре.
Как-то Стефан, читая Стасе одну свою длинную фразу, вьющуюся как дикий виноград, вдруг буквально онемел, когда эта мысль пришла ему в голову – почему не Зара, а Стася?
– Ты что? – спросила Стася.
Стефан изумленно покрутил головой:
– Ничего. Я просто представил на секунду, что ты – Зара. И онемел. Я бы не стал Заре читать свои вещи.
Стася задумчиво посмотрела на него.
Стефан с тем же детским изумлением в голосе продолжал:
– Но ведь и ты тоже не стала бы рассказывать Чону о том, что предполагаешь написать...
– Почему? – пожав плечами, спросила Стася, как бы не соглашаясь с братом.
– Не знаю. Не стала бы.
– Я Павла люблю больше, чем тебя, – произнесла Стася.
– Я Зару тоже обожаю, – высокомерно отозвался Стефан, – но, оказывается, в деле творчества это мало что значит. Близость – это то, что между тобою и мной, хотим мы этого или нет. Мы близки, как близнецы.
– Что ты знаешь про близнецов, – нахмурилась Стася, поднялась и ушла к себе, а Стефан долго и безуспешно в этот день сидел над эпизодом уничтожения будущего человечества горсткой ученых-экстремистов, не столько потому, что не мог сочинить химический состав оружия уничтожения, сколько пораженный этим разговором с сестрой.
В сентябре Стефан благополучно решил эту задачу, обойдя вопрос формул описанием нравственного разложения общества, от которого ученые, по сути идеалисты, решили освободить землю. Он просто констатировал факт, что в результате какого-то испытания учеными этого оружия женщины планеты перестали зачинать и рожать детей. Последний из рожденных на Земле, плод случайной связи женатого летчика и старшеклассницы, стал героем этого романа.
В октябре, когда вернулась из Прибалтики Зара, Стефан почувствовал себя совершенно счастливым. Вдохновение не оставляло его, и любимая женщина была рядом. Это ощущение счастья он сумел передать человечеству, которое вдруг познало неслыханную свободу и вместе с тем сладость обреченности. Жить стало просторно, старики умирали, дети не рождались, но людей еще хватало для того, чтобы они могли продолжать подчиняться своим привычкам и прихотям. Пресса каждый день освещала события из жизни «посчела» – последнего человека Ивана...
Сладость свободы! Сладость гибели! Как будто Стефан уже изведал и то и другое! Не знал он, какие события накликал своим словом. Он легко думал о смерти, держа в пальцах тонкую руку Зары, думая о том, что эта тонкая кость переживет глаза, кожу, любовь, душу.
...Быстрее, чем листья опадали с деревьев в эту осень, отлетали в вечность с земли человеческие жизни – пара исписанных Стефаном страниц уносила целые поколения... Жизнь начинала притормаживать, замирать, застывать... Перестало работать то-то и то-то, остановились заводы и фабрики, испортилась канализация, погас в домах свет. Жизнь ветшала, дичала, Ивану уже было тридцать пять... На планете осталось не много людей, никто не знал сколько, не было никаких средств сообщения...
Стефан разыскал в библиотеке отца и перечитал различные послевоенные и послереволюционные хроники, написанные авторами разных времен и стран, истории, связанные с чумой, землетрясением, чтобы вникнуть в ощущение «мерзости запустения», на фоне которой он тщательно рисовал жизнь Ивана с ее бытовыми подробностями, поездками на велосипеде по обезлюдевшей Москве в поисках нужных для себя вещей, вроде керосинки, чтобы оставшуюся жизнь прожить запершись в доме. Ему уже и не хотелось выходить из дома.
В свою последнюю осень, которая выдалась исключительно холодной, Иван вырубил в саду все деревья, пустив их на топку, а потом принялся за библиотеку.
Библиотеку Стефан сжигал, конечно, как диктовал ему его собственный вкус.
Стефану исполнился двадцать один год, но пока он писал этот роман, он повзрослел и почувствовал, что книги утратили над ним свою обаятельную власть.
По утрам, когда иней ложился на листья дикого винограда, Стефан принимался сжигать Иванову библиотеку.
Сперва Иван жег в своей печке сочинения, питавшие его отрочество: Лондона, Бальзака, Роллана, Дюма, Гюго, обоих Маннов. Из трубы вылетали, обнявшись, как духи, Паоло и Франческа, Марион де Лорм, Виолетта Валери, Луиза Лавальер, Агнесса Сорель, Корали, Эсмеральда, Дерюшетта, все эти чудные женщины, которых он любил в те мечтательные времена, когда внимание человечества еще было устремлено к нему, «посчелу».
Затем он послал в печь книги, читанные им при свете, последнем электрическом свете: Шекспира, Данте, Диккенса, Достоевского, Шестова, Толстого. «Все смешалось в доме Облонских» – Наташа Ростова и Оливер Твист, Ганечка Иволгин и Офелия, Эстелла и маленький Пип...
Как славно грелся Иван, предав огню колесницу Арджуны и все священное поле гуру, дерево Бо, Майтрейю и Катаинь, в отблесках огня, питаемого Аввакумом, Монтенем и Аристофаном, он перечитывал Гомера. Но при свете последних сжигаемых им кораблей глаза его вдруг ухватили строки книги, оставленной им напоследок: «Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего».
И тут Иван понял, чтоэто было: это действительно была не действительность, это реально была не реальность, эта жизнь не была такою по существу, этот мир был только образом!
В эти дни Иван (на самом деле – Стефан) решил: либо он мертв, а мир жив, либо никакого мира на самом деле не было, а был Иван, который долго не мог родиться сам в себе, то есть сделаться живым...
Наступила зима, отлетел первый пух декабря, валькириями провыли вьюги января, а в начале тихого, притаившегося в ожидании какой-то неведомой добычи февраля Стефан вместе с Иваном отложили все свои дела и оба углубились в спасенную ими из огня книгу, которую им помешали дочитать страшные события ледяного начала марта.
Надо думать, Стефан еще вернется к этой книге.
Глава 29
ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ
То ли сам этот дом, шелестевший старыми тайнами, то ли явления Зары, то ли работа обострили в Чоне чувство мистического.
В нем постепенно нарастало ощущение, что за порогом этой осени его ждет какое-то несчастье, которое он не в силах будет предотвратить.
Он пытался иронизировать над собой, но сквозь иронию проступала тревога, как сквозь кленовый лист просвечиваются его жилки.
Каждый день Стася приносила ему с улицы какой-то особенно диковинной расцветки лист, как напоминание о том, что осень неслышно проходит мимо своей собственной золотой красы: багряный, зеленый с огненными брызгами, шафрановый с карими краями, желтый, испещренный золотыми письменами...
Тут ему припомнился рассказ какого-то знаменитого писателя о больной девушке, которая твердила своему возлюбленному художнику, что умрет тогда, когда с дерева, которое она видит из окна, упадет последний лист.
Он спросил Стасю, не помнит ли она, кто написал этот рассказ.
К его удивлению, Стася вдруг расплакалась.
Чон, бросив кисти, крепко обнял ее, пораженный. Ему еще не приходилось видеть Стасиных слез.
– Золотая ласточка, что с тобой?
Стася тут же высвободилась из его объятий, вытирая слезы кулаками.
– Ох, не знаю. Дело в том, что последние дни я только и думала, что об этом рассказе. Все он приходил мне на память, этот последний лист.
Чон уселся перед нею на корточки, зарылся лицом в длинное темное Стасино платье.
– Наши мысли движутся в одном направлении. Что же ты плачешь, золотая ласточка? – наконец вымолвил он.
– Но почему мы оба вспоминаем этот лист?
– Мы оба художники, вот и все, – решительно проговорил Чон.
– Нет, тут что-то другое, – глухо возразила Стася.
– Вот что мы сделаем, – произнес Чон. – Ты нарисуешь мне кленовый лист, и мы повесим его на вишне, как тот художник.
Стася серьезно покачала головой:
– Ни за что. Ты помнишь, чем оканчивается рассказ?
– Да. Девушка выздоровела, – отозвался Чон, обнимая ее.
– Девушка выздоровела, – повторила Стася, – но художник простудился и умер... Молчи! – Она положила Чону пальцы на губы. – Я знаю, ты хочешь сейчас сказать какую-то шутку... Не надо, это нам не поможет. Что-то происходит, Павел, в воздухе, а что – я понять не могу... Ой, не будем об этом!
По батарее громко постучали. Это означало, что Стасю кто-то зовет – брат или Марианна.
Стася высвободилась из рук Павла, сбежала по лестнице, и через полминуты он услышал ее радостный голос.
«Кто-то приехал, – тупо подумал Чон. – Не Пашка ли?»
Спустившись вниз, он увидел на кухне Зару в чем-то белом, Стасю и Стефана, и сердце больно повернулось в нем...
Рядом с ними стояла знакомая Чону большая Зарина сумка с вещами.
Он сразу все понял, еще до того, как Стеф и Стася стали оживленно объяснять ему, что Зара решила, наконец, переехать к ним.
Лицо Павла не выразило никакого чувства, хотя в душе в эту минуту он ощутил такую усталость, будто только сейчас отчетливо осознал, что он в борьбе с судьбой – ноль и она играючи положила его на лопатки. И у него один теперь выход – изобразить объятие.
Он и изобразил.
Чон пошел на Зару с распростертыми объятиями и с неподвижным лицом, говоря:
– Какая радость! Какая радость!
Зара испуганно отскочила в сторону, прежде чем он успел сжать ее в объятиях, и Чон тут же повернулся и пошел наверх, предоставив брату и сестре бормотать извинения Заре за его нелепую выходку.
Стася поднялась к нему через несколько минут.
– Павел, это невежливо, наконец! Ну не нравится тебе Зара, надо скрывать свои чувства! Она ведь невеста моего брата, и тебе придется считаться с этим!
– Да. – Чон кивнул. – Зара здорово похожа на невесту. Я обратил внимание, на ней белое платье. А на тебе сегодня почему-то черное.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего. Надеюсь, вы с братом извинились за меня перед Зарой... А листья все падают и падают, вот что нехорошо, Стася...
Прошло несколько дней с момента водворения Зары в доме.
Чон еле скрывал раздражение и злобу. Он почти не спал по ночам и днем не мог работать.
Со Стефаном у Чона пропала вся прежняя близость.
Прежде они чувствовали друг к другу настоящую симпатию, от которой теперь ничего не осталось. Не только Павел избегал Стефана, но и тот, несмотря на полноту своего счастья, сторонился Чона, потому что видел, что сестрин муж не в восторге от его возлюбленной, и это еще мягко сказано.
Однако Стефан не пытался выяснить с Чоном отношения – мало ли кто кому не нравится.
Они с Зарой стали жить внизу, в спальне, но работать Стеф сначала приходил наверх; позже тяжелое молчание шурина вытеснило его оттуда, и он перебрался со своими бумагами и машинкой в библиотеку.
Больше Стефан ничем не выразил перемену в отношениях с Павлом, потому что безмятежное блаженство переполняло его: работа двигалась успешно, он был в этом уверен, любимая женщина была рядом и вела себя тихо, как ангел, Стася относилась к Заре по-родственному – что особенно бесило Чона.
Он не верил ни на йоту, что Зара въехала сюда исключительно ради Стефана. Хотя она ни разу за это время даже не задержала взгляда на Павле и не сказала ему ни одного лишнего слова, он ощущал, что ни на минуту не выпадает из ее пристального внимания, что она стережет свою добычу до поры до времени, которое – она твердо верила – еще придет, и тогда она насладится своей победой над Чоном сполна.
Павел бесился, сопротивлялся своей злобе и вожделению, охватившему его с новой силой, как только мог, ночами выходил покурить на веранду, чтобы холодный воздух охладил его фантазии, навеваемые мыслями о жизни Стефа и Зары внизу... Он постоянно видел внутренним взором эти два сплетшиеся тела, и ему хотелось упасть на них сверху, как коршуну, выхватить Зару из теплой постели и взмыть с нею в небо или втоптать ее в грязь, в ее родную стихию. И особенно когда он вдруг сталкивался со Стефаном на кухне, со Стефом, носившим в себе такой заряд блаженства, который мог разнести его, Павла, в клочья...
Чон ел теперь через силу и был как больной.
Однажды, после того как он очередной раз не спустился к общему завтраку, Марианна поднялась к нему с омлетом на тарелке и остывшим чаем: Павел лежал на разобранной кровати, уткнувшись в «Декамерон».
– Уж не заболел ли ты? – осведомилась она.
Чон отбросил книгу и устремил на нее усталый взгляд.
Последнее время ему казалось, что Марианна знала не только о нем и Заре, но кое-что о нем лично, что он сам о себе толком не знал. Бывают такие старухи, похожие на графиню из «Пиковой дамы», которые смущают людей с нечистыми думами своим проницательным, орлиным взором и способны спровоцировать их на безумные поступки.
– Уж не заболел ли я? – переспросил Чон. – Нет уж, не заболел.
– Замечательная картина, – проговорила Марианна, кивнув в сторону его работы.
– А тебе казалось, что я безнадежен?
– Мне так не казалось.
– Потому что так есть на самом деле?
– Перестань самоедствовать, Павел.
– На фоне Стаси я действительно безнадежен, – произнес Чон.
– На фоне Стаси все безнадежны, – безжалостно отозвалась Марианна, – она ясная и прозрачная, не то что ты и...
– И кто еще? – вцепился в нее Чон.
– Так ты не хочешь есть?
Чон в изнеможении снова взялся за книгу.
– Оставь, я позже поем, – ответил он.
Как только Марианна вышла за дверь, он в бешенстве запустил книгой в стену.
– Нет, – произнес он вслух, – бежать надо отсюда, вот что, бежать.
Куда, с кем – этого он не мог придумать.
Но как будто желая отрепетировать будущий побег в неизвестность, однажды утром Чон собрался и поехал к Коле Сорокину, детскому художнику.
В прежние, «брежние» времена Коля был богат и все свои деньги раздавал налево и направо, как будто они жгли ему руки, всем нуждавшимся в них, и они не переводились – и деньги и нуждающиеся. Сейчас Коля наверняка сидел без гроша, и Чон прихватил с собою сто марок.
Коля жил недалеко от метро «Аэропорт», на тихой улочке Усиевича в однокомнатной квартире. Ему давно пора было стать Николаем Устиновичем, пятидесятипятилетнему Сорокину, но он про себя говорил, что, во-первых, родился Колей и умрет Колей, а во-вторых, все смешалось в поколениях художников, некоторые двадцатилетние «имели достоинство», как говорил Коля, на все пятьдесят, тогда как некоторые пенсионеры его не имели, и к ним обращались запросто, как к студентам.
Чон давно уже не бывал в этих краях, но не ожидал застать здесь большие перемены. Ну, ларьков прибавилось, ну, стали еще роскошнее магазины. И раньше «Аэропорт» не был бедной родственницей Москвы, а теперь, похоже, приблизился к центру, задевая глаз своей роскошью. «Почему, собственно, мой глаз это ранит? – задал себе вопрос Чон, никогда особенно не нуждавшийся. – Неужели я еще жив и могу испытывать те чувства, к которым взывают святые отцы? – Улыбка искривила его губы. – Или я сделался таким лицемером, что сочиняю их на ходу? Сочувствую ли я бедным? Жалею ли калек? Сострадаю бездомным?»
Чон остановился, увидев себя в зеркальной витрине цветочного магазина. Тот, кто на него смотрел в обрамлении лилий и гвоздик... От него хотелось отвести глаза. Но Стася не отводит. Стася смотрит, наглядеться не может. Что она в нем видит? Он ведь вот какой – жестокий, своевольный и похотливый.
– Анекдот я тебе рассказывал про похороны Брежнева? – такими словами встретил его Коля, похудевший и совсем облысевший.
– Рассказывал, – отмахнулся Чон. – Голодаешь?
– Нет, сейчас как раз имею крупный заказ от одного издательства. – Коля тут же принялся метать перед Чоном наброски в карандаше. – Братья Гримм. Гениально?
– Гениально.
– Ты что такой?
– Какой?
– Пасмурный, – определил Коля. – Говорят, на чудесной девушке женился. Вроде я видел ее у тебя, черненькая такая?
«Это он о Заре», – подумал Чон.
– Нет, беленькая.
– Саша Руденко говорил, она потрясно рисует?
– Верно, – согласился Чон.
– Так чего не радуешься жизни? Беленькая жена, да еще хорошая художница...
– Послушай, – перебил его Чон. – Ты давно в Конакове не был?
– Месяц как оттуда.
– И как там?
– Все держится. Зачем тебе Конаково? С женой отдохнуть?
– Нет, один хочу вырваться по старой памяти.
– Выбирайся, Бог в помощь.
Чон собирался погостить у Коли до вечера, даже предвкушал, какой отличный вечер они проведут за бутылкой вина, но еще не доходя до улицы Усиевича почувствовал, что зря предпринял попытку тряхнуть стариной. Тяжесть на душе, неопределенность, туман – с таким настроением не разгуляешься.
– Денег тебе оставить? – спросил он Сорокина.
– У меня есть, – отозвался Коля, еще пристальней приглядываясь к нему.
– Что ты так смотришь?
– Ты не болен, Павел?
– Болен. – Чон поднялся. – Наверное. Пойду домой, приму пирамидон.
– Так зачем приходил-то? – удивился Сорокин.
– Посмотреть на тебя, – сказал Чон. – И себя показать, такого пасмурного.
Глава 30
САД МАРКИЗА ДЕ САДА
Зара стояла в мастерской Стаси и Чона и внимательно рассматривала картину Павла. Снизу до нее доносился успокаивающий стрекот машинки Стефана; Чона и Стаси не было дома, да и она сама через полчаса собиралась на репетицию.
Можно сказать, она воспользовалась отсутствием Павла и пробралась сюда, чтобы посмотреть на работу.
Зара мало что смыслила в живописи, несмотря на то что в свое время бедолага Ибрагим пытался просветить ее.
Ее интересовала не живопись вообще, а только работы Чона.
От одной к другой она пыталась проследить течение его внутренней жизни, которая, хоть он этого и не понимал, волновала ее ничуть не меньше, чем его тело. Это Чон настаивал на том, что их близость носит чисто плотский характер, Зара была уверена, что он ошибается, их отношения выстроились на более высоком, духовном уровне, укоренились в мире духов («духов злобы поднебесной», как-то возразил ей Павел), которые правят их жизнями, вот почему они обречены любить друг друга – несмотря ни на какую Стасю, золотую ласточку.
Зара не испытывала прежней ненависти к Стасе, разобравшись в ней до конца, и даже где-то понимала Чона. Стася стала его попыткой прорваться к свету – он сам так когда-то обмолвился, – но дело в том, что он, глупенький, не понимает до сих пор, что его родная стихия – тьма, сумерки, в которых рождаются звезды завтрашнего дня.
И это тоже свет, но свет ночи...
В этой тьме, в этом родном, тихом мраке проговорилась его суть на картине. Эти сумеречные, скошенные безумной луной тени, эти в бессильном бешенстве переплетенные ветви вечернего сада, похожие скорее на сизо-зеленые человеческие внутренности, этот ветер, склоняющий весь мир на свою, ветра, сторону, облака, несущиеся по-над жестокой луной, – вот где живет он на самом деле, и никакие фиалки и маргаритки его жены не вытащат Павла на свет божий, как бы он того ни желал.
Зара могла бы протанцевать под его картину, как под Пятую симфонию Чайковского или под «Франческу да Римини», под адское завывание скрипок высокого регистра и тромбонов, уловившее в свои сети с не меньшей, чем у Данте, силой две влюбленные тени, – именно так.
Юрий Лобов рассказывал ей о древнегреческом и древнеегипетском искусстве, учил понимать язык поз и жестов героев давно минувших эпох, и она легко, как попадают руками в рукава услужливо поданного пальто, попадала в эти жесты и позы, ощущала живое биение крови тех людей, которым они когда-то принадлежали.
Как актриса, надевая наряд своей героини перед началом спектакля, вживается в образ, так Зара, перенимая движения, обретала заодно с ними целиком внутренний мир героев, их бывших владельцев, бедняжки Ио, прячущейся от овода, Филомены, бегущей от мести мужа, Чона, спасающегося от нее, Зары.
Что он от нее спасается, было ясно как божий день, достаточно взглянуть на картину, попасть в ритм этого сада, ввинтиться в пазы корней деревьев и начать раскачиваться в темпе ветра, при котором дерева привстают на корни, опираясь на кости мертвецов, схороненных под ними, потрясая тихую жизнь неведомых кладбищ.
Все мы ходячие кладбища, думала Зара, и даже танцующие кладбища. Столько в нас уже похоронено и будет еще похоронено иллюзий и людей, что непонятно, живы ли мы сами или уже незаметно перекочевали в мир иной вслед за ними, а то, что сердце болит в груди, – это еще ничего не доказывает.
И невозможно отменить это положение вещей, мы не принадлежим сами себе, как ни уверяем себя, что это не так, мы носимся, как семена засохших растений, кружим над землею, не зная ни часа, ни места нашего приземления, не испытывая уверенности в том, что, если нас наконец прибьет к земле, мы примемся и прорастем травой.
Можно только отдаться течению ветра – пусть делает с нами что хочет...
...Это была изумительная, как танец в воздухе, игра, то, что вытанцовывалось сейчас в этом доме, а заодно и в доме Юрия Лобова, с которым Зара теперь встречалась только на занятиях и на репетициях. Лобов вел себя с нею примерно так же, как Чон, так же грубо и непримиримо, невзирая на смягчающий раны компресс в виде Цилды.
И он, дурашка, не рассчитал своих сил, насмешливо думала о Юрии Зара, когда говорил ей, точь-в-точь как Павел, что думает о ней лишь низом живота, – когда-то эти признания обоих мужчин причиняли ей сильную боль.
В том-то и дело, что тут не найти концов, низом живота или душою любит мужчина женщину, а женщина мужчину, а слова ничего не значат.
В данном случае обоим мужчинам понадобился Стефан, чтобы понять, что с Зарой у них было не все так просто, как они полагали, и Зара почти любила Стефана за это...
Да и как его не любить! Он-то не играл ни в какую сугубую мужскую независимость, он вообще не догадывался, что для того, чтобы быть победителем в этом мире, необходимо научиться играть по его законам, и те двое, Чон и Лобов, увидели теперь Зару в совсем ином свете – в свете любви Стефана. И они оба полюбили ее по-настоящему только тогда, когда из ее полноправных партнеров перешли в разряд зрителей, прикованных взглядом к тому, что теперь происходит на сцене.
Чон выдал себя в этой картине, Юрий выдавал себя в новых постановках. Злость, ревность, вожделение просвечивали в творчестве обоих, и чем больше они оба страдали по ней, тем увереннее чувствовала себя Зара, – она только не знала, чем это все может кончиться...
Какой бы танец можно было поставить на этот сюжет с тремя партнерами! И что ни ставил теперь Лобов, было так или иначе связано именно с темой странной, больной любви.
Каков век, такова и любовь.
...Они думают, что сердце человека – кусок холста или сценическая площадка. Вернее, они так думали.
Что ж, она теперь рада тому, что они так считали!
Как с полным желудком невозможно становиться на молитву, так со спокойным сердцем невозможно творить; может, Чон и Лобов это подспудно ощущали и сами напросились на такой поворот событий...
Но именно потому, что эти двое нанесли Заре столько ран, она и любила их, каждого по-своему, ибо где раны, там кровь, а дело прочно, когда под ним струится кровь.
Оба они выбили из нее понимание любви в чистом смысле, перевели любовь в плоскость игры и творчества. И это представлялось обоим высшей областью духа, как будто что-то может быть выше просто жизни.








