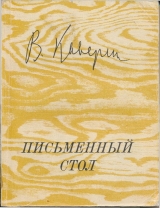
Текст книги "Письменный стол"
Автор книги: Вениамин Каверин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
1
Впервые я встретил Твардовского весной 1941 года в Ялте, и тогда он не пробудил во мне ничего, кроме холодного интереса. На меня, с детских лет потрясённого Блоком, влюблённого в Пастернака, «Страна Муравия» пе произвела сильного впечатления. Мне казалось, что Некрасова нельзя продолжать, что преодолеть его исчерпывающую определённость может лишь поэт, обладающий талантом, ещё небывалым в нашей поэзии.
В Ялте я познакомился с молодым человеком, который был так щедро оделён природой, что мог полноценно существовать и без этой великанской задачи. Он был очёнь хорош собой, белокурый, с ясными голубыми глазами. Он был знаменитым поэтом, и слава его была не схваченная на лету, не легковесно–эстрадная, а заслуженная, обещающая.
Он держался несколько в стороне. Точнее сказать, между ним и собеседником сразу же устанавливалось подчас незначительное, а подчас беспредельное расстояние. Возможно, что это было связано с прямодушием Твардовского. Из гордости он не желал скрывать свои мнения. Чуть ли не с первого слова он сказал мне, что в романе «Два капитана» (первая часть которого только что появилась) удался по своей новизне один только Ромашов, а все остальные лица более или менее рельефное отражение героев и прежде известных в литературе.
– По ведь это не так уж и мало? – с неожиданной. мягкостью спросил он.
Я не согласился, но и спорить не стал.
Не только прямодушие было причиной некоторой пустоты, которая как–то невольно вокруг него образовывалась. Для него – это сразу чувствовалось – литература была священным делом жизни, – вот почему тех, для кого она была всего лишь способом существования, точно ветром от него относило.
Я бы солгал, уверяя, что уже тогда задумался над хранившейся в душевной глубине нравственной силой Твардовского, может быть невнятной ещё для него самого. Еще меньше мог я предположить, что придёт время, когда эта сила, всецело принадлежавшая исторической полосе, в которой мы существовали, приобретёт те черты цельности и новизны, которые двинут вперёд его поэзию, а вместе с ней и всю нашу поэзию.
Я только смутно заподозрил, что за резкостью его литературных мнений таится застенчивость, а за мрачноватостью и немногословностью – мягкость и любовь к людям.
Василий Гроссман, с которым Твардовский был дружен, в случайном разговоре подтвердил эту догадку, но подтвердил как–то нехотя, морщась. Его в Твардовском интересовало другое.
– Подумать только, – сказал он. – Кажется, все дано – красота, слава! А вот я вчера назвал его «Трифоныч» – и он обиделся. Да как! Не разговаривал со мной целый день.
Я подумал, что обращение «Трифоныч» я устах язвительного, умного, редко шутившего Гроссмана могло прозвучать и обидно. В «Трифоныче» было что–то ямщицкое…
Но все это мелькнуло и исчезло, Была весна, много смеялись, ездили на Орлиный залёт, изящный Роскин остроумно шутил, Евгений Петров, открывая окно своей комнаты, кричал: «Гей, славяне! Еще три строчки написал!» Паустовский неторопливо, вкусно рассказывал своим хрипловатым голосом необыкновенные истории. По утрам Гайдар будил нас пионерским горном, по вечерам Габрилович весело барабанил на рояле, и мы танцевали в уютной стеклянной гостиной, увитой снаружи маленькими вьющимися розами. Но случалось и другое. Однажды, собравшись перед сном вокруг радиоприёмника, мы услышали голос Гитлера, лающий, рвущийся, срывающийся на истерической ноте. Пауза – и угрожающий рёв штурмовиков. Две фразы – и снова рёв. Клятва. «Хорст Бессель». Тишина.
Гроссман обвёл глазами серьёзные лица.
– Ну, кто первый? – спросил он голосом, не оставлявшим и тени надежды.
2
Прошли два года, да пе прошли, а промчались, пролетели, перемешав события, понятия, лица. Из тех, кто слушал речь Гитлера в тот памятный вечер, первым оказался Роскин, погибший в московском ополчении, вторым – Евгений Петров. Дом с увитой розами стеклянной гостиной лежал в развалинах, Ялту занимали немцы, война, которая ещё недавно была воплощением внезапности, сгустком потрясений, стала ежедневностью, бытом, трудом, объединившим всех от мала до велика.
Мы встретились на улице Горького, я приехал из Заполярья, с Северного флота, Твардовский – с Юго–Западного фронта. Он похудел, загорел, военная форма шла к нему, он выглядел совсем молодым, добродушно–бравым.
Не помню, о чём мы говорили, по ясно помню, что разговор был свободный, без прежней ялтинской отдалённости. Но и близости не было, тем более, что, едва познакомившись, мы не виделись два – и каких! – года.
Твардовский жил тогда на улице Горького, мы сошлись в двух шагах от его дома, и после семи–восьми фраз – как, где, откуда, куда? – он вдруг пригласил меня к себе.
– Водочка есть. Зашли, а?
Ночему–то я решил, что он зовёт меня к себе только потому, что одному пить скучно. Да и не мог я нить! Не прошло и двух недель, как я выписался из госпиталя в Полярном, до Москвы добрался не без труда и, наконец, – этому трудно поверить – вообще никогда не пил водку. Надо было попросту рассказать все это Твардовскому. Но я постеснялся, промолчал. А он не стал настаивать.
Мы простились, но тут же он обернулся:
– Ах, да! Хотел вам сказать… Читал ваши очерки.
– И каковы?
– Что же! Видно, что у вас в руке перо, а не полено.
3
Не было ни единой точки пересечения, в которой его жизнь хоть на мгновенье сошлась с моей. Он жил в Москве, я – в Ленинграде, а перебравшись в 1948 году в Москву, встречался с ним случайно и редко. Но мы оба работали, и не знаю, как он, а я пристально следил за его работой.
Для меня важно было, прочитав «Дом у дороги» и «Я убит подо Ржевом…», убедиться, что в нашей литературе утвердился поэт, сумевший схватить бесценный «миг узнаванья» – тот миг, который на сто лет вперёд останется инструментом познания сражающейся России. Я понял, что жизненный опыт, соединившийся с любовью к русской поэзии, всегда бившейся в стихах Твардовского, научил его и впредь схватывать эти «освещённые молнией навек» (Пастернак) мгновенья. Что, осознав себя как поэта народного, Твардовский уверенно займёт своё, особенное место в пашем искусстве. Что о влиянии на него Некрасова теперь впору вспоминать только литературоведам, а нам, его товарищам по работе, важно, куда впредь будет обращён его поэтический взгляд.
4
Чехов считал, что критические статьи о себе читать надо не сразу. Надо отложить их в сторонку, дождаться ясного летнего дня, запастись нивком и где–нибудь в прохладе, в тени, в саду, прочитать их все сразу.
Именно так должен был поступить и я, напечатав в 1949 году первую часть романа «Открытая книга». И до той поры редкая критическая статья производила на меня глубокое впечатление. Однако подчас я понимал, какую цель преследовал автор и в чём он меня упрекал. Но решительно ничего не мог я понять, прочитав шестнадцать статей, оценивших первую часть моего романа. Почему–то особенное отвращение вызвала гимназическая дуэль, о которой я рассказал на первых страницах. Никто не отрицал, что она была возможна в 1916 году, но дерзость, с которой я осмелился остановить на ней внимание читателя, казалась критикам непростительной, беспрецедентной. «Любование дореволюционным бытом» – вот куда единодушно гнули они, не замечая, что дуэль, как происшествие исключительное, нарушающее мирное течение жизни, никак не вяжется с понятием «быта». Кончались статьи горьким, а иногда грозным упрёком в непонимании задач социалистического реализма.
Роман с тех пор много раз переиздавался, дважды вошёл в собрание сочинений и в целом получил совсем другую оценку. Но без упоминания о первой его части нельзя перейти ко второй («Доктор Власенкова»), напечатанной в «Новом мире». Зимой 1951 года я получил от Твардовского письмо, в котором он вежливо сообщал, что «много наслышан» о второй части романа и был бы рад познакомиться с нею. Месяца через два он заехал ко мне в Переделкино – весёлый, летний, добродушный, в светлом костюме – и подтвердил своё желание поскорее познакомиться с романом. Мы немного прошлись, дружески поговорили, и я, окрылённый, засел за роман.
И письмо и этот приезд были для меня событием. Шумный «провал» первой части закрыл мне дорогу в издательства и журналы, и работу я продолжал просто потому, что не в силах был бросить начатое дело, стоившее мне упорного четырёхлетнего труда. Но писал я теперь хотя и старательно, но коряво, точно шёл по просторному, ярко освещённому холодным светом коридору, спотыкаясь на каждом шагу.
Была в моей жизни трудная полоса, когда мучительная бессонница заставила меня прибегнуть к лечению гипнозом. И ночь проходила ровно, я крепко спал до утра. Но на другой день странное чувство «неодиночества» не покидало меня, хотя я был совершенно один в зимнем, теплом, просторном доме. Не знаю, кто оставался со мной, но кто–то оставался, а так как «он» был не только со мной, но и во мне, трудно было надеяться, что мне удастся отделаться от «него» до новой страницы.
Так писалась вторая часть романа.
Ради беспристрастия следует заметить, что этот дух, заметно оживлявшийся, когда я садился за письменный стол, принадлежал к категории волшебных существ, которые любят людей. Это был добрый дух. В противном случае он не убеждал бы меня, что следует обходить некоторые стороны жизни, несмотря на то что они в полной мере соответствовали замыслу романа.
Еще в большей степени желала мне счастья редакторша, которой «Новый мир» поручил приготовить роман для набора. Вот кто просто из сил выбивался, чтобы не допустить появления новых шестнадцати отрицательных статей! Ведь не только для меня, но и для журнала было важно доказать, что при умелом руководстве я способен усовершенствовать своё дарование, даже в пределах того же произведения. «Александру Трифоновичу кажется, что…», «Я ничего не имею против, но Александр Трифонович…» Не знаю, что в действительности думал о моём романе Александр Трифонович. Подводя итоги, оказалось, что он возражает против каких бы то пи было личных отношений, кроме любви (в семейных границах) и коварства (при должном присмотре должностного лица).
Я защищался, и кое–что удалось отстоять. Мы ссорились. Однажды муж редакторши вышел из своего кабинета и сказал увещательно:
– Товарищи, вы же интеллигентные люди!
Искаженный до неузнаваемости, роман был папечатан на страницах «Нового мира» в 1952 году. Появились рецензии – немного, две или три. Отдавая должное моему упрямству, авторы в один голос утверждали, что, при всех недостатках, первая часть все–таки несомненно выше второй. Впоследствии я старательно восстановил первоначальный текст.
Прошел месяц, другой, и я случайно встретил Твардовского в Союзе писателей.
– Ну что ж! Почти «Джен Эйр», – сказал он.
Тон его мне не понравился. В тоне было что–то снисходительное, ласково–насмешливое. Я промолчал. Не время и не место было упрекать его в том, что он допустил появление на страницах «Нового мира» бледного подобия «Джен Эйр», с её сентиментальной порядочностью и ангельской добротой.
Я понял тогда, что Твардовский – в той полосе, когда работа в журнале для него – обязанность, серьёзного значения которой он в полной мере не осознает.
5
Другого Твардовского и другой журнал, как мне показалось, я встретил в 1960 году, когда принёс в редакцию статью «Белые пятна». Я попытался восстановить в ней историю группы «Серапионовы братья», восстанавливал по памяти свой последний разговор с Фадеевым. Упорное стремление опубликовать эту статью стоит внимания историка литературы. Это продолжалось шесть лет – и под другим названием («За рабочим столом»), с сокращениями статья все–таки была опубликована в 1965 году.
«Новый мир» был журналом, жизнь которого состояла из цепи событий. У него было не только будущее, но и прошлое, уходившее в историю русской общественной мысли. Понятие «традиции» осуществлялось как нападающее, причём объектом нападения была бедность мысли, серость языка, отсутствие достоинства, угодничество и лицемерие. На фоне упорной защиты традиций классической русской литературы острее ощущалось новаторство.
Но была и другая черта, ещё более важная. Современность всегда интересна, неподмеченное, ненаблюденное не перестаёт волновать. И эту современность, ежедневность, злободневность журнал не отъединял от нравственной цели, без которой грош цена любой занимательности, любой политической остроте.
Когда, в какой день и час произошёл решительный поворот Твардовского к журналу? Не знаю. Думаю, что он был давно подготовлен к этому повороту и что в то время как он работал над своей поэзией, его поэзия работала над ним. Смысл этого взаимопроникновения заключался в том, что Твардовский, подобно Некрасову, положил в основу своего творчества поэтическую правду, которая по самой своей природе требовала более широкого поля деятельности, чем собственно литература. Так же, как и некрасовская, это была правда, для всеобъемлющего значения которой мало одной поэзии и которая в поэзии придерживается как бы самой народной речью рождённых форм.
Но были и внутренние причины, которые создали «Новый мир» и нового Твардовского. О них я могу лишь догадываться. Без сомнения, те, кто помогал ему, учились у него многому, и прежде всего умению поддерживать ту атмосферу ответственной любви к литературе, которую чувствовал любой писатель, переступавший порог редакции. Но и Твардовский, надо полагать, учился у своих помощников, которые кое в чём были даже и опытнее, чем он.
6
По–прежнему мы встречались редко, и поводы были теперь деловые, связанные с журналом. Но встречались и без повода, случайно, и не могу сказать, что между нами завязались отношения близости или, по меньшей мере, деятельного интереса друг к другу.
Может быть, ему была чужда моя «книжность» (о которой я впоследствии напечатал статью в том же «Новом мире»), Хотя ведь и он был «книжным» человеком, прекрасно знавшим историю русской литературы, что приятно удивило меня ещё в Ялте! Но его книжность была другая – не вторгавшаяся в его поэзию, как моя – в мою прозу.
Так или иначе, встречаясь с ним, я все же не мог освободиться от чувства скованности. Мне всё казалось, что и книг моих он не знает, и моей многолетней работе не придаёт значения. Вероятно, я ошибался, и причина была совсем другая, не имевшая к литературе никакого отношения: нам обоим мешала застенчивость, которую во мне ещё труднее было предположить, чем в Твардовском.
Между тем, годы шли шестидесятые. Я много работал и все написанное относил в «Новый мир». И Твардовский не упускал случая сказать, что он думает о моих произведениях. Иногда его мнение я слышал в передаче А. И. Кондратовича или В. Я. Лакшина.
Рассказ «Кусок стекла» понравился ему. Он позвонил мне и сердечно поздравил.
– Знаете, как у нас говорят молодым: «Пишите ещё!»
Я знал о несходстве наших литературных вкусов: оно сказалось и в этом отзыве: рассказ был написан старательно, но неуверенно – соединение не так уж редко встречающееся в прозе.
О повести «Семь пар нечистых» он выразился несколько неловко:
– Вот тут наши в один голос говорят, что это лучшее из всего, что вы написали.
Я был несколько раздосадован. Уж и лучшее!
Но вот я предложил «Новому миру» роман «Двойной портрет», и разговор с Твардовским был коротким, но мучительным, пожалуй больше для него, чем для меня. Он говорил неловко, почти бессвязно, как бы сердясь на себя. Оп был огорчён, но очень старался, чтобы ни его огорчение, ни моё – в нём можно было не сомневаться – не затемнили, не заслонили сущности разговора. Роман не понравился ему. он расценил его как неудачу, характерную для литературы половинчатой, полуправдивой.
– Беллетристика, – сказал он.
В «Новом мире» этому понятию придавали значение поверхностности, скольжения, игры, может быть и талантливой, но в конечном счёте – бесполезной.
«Двойной портрет» – название профессиональное. На одном холсте я попытался нарисовать два портрета – деятеля подлинной науки и холодного карьериста. Как известно, в нашей биологической науке много лет задавал тон Лысенко, нанёсший огромный вред науке о прославленном русском земледелии. В романе раскрыта лишь одна страница этой истории – страница, основанная на подлинных документах. Весь роман состоял (в первой редакции) из происшествий поистине поразительных по той определённости, с которой выразилось в них время. Но должно ли было идти за этой исключительностью – вот в чём усомнился Твардовский. Он полагал, что нет, не должно, а между тем я ринулся ей навстречу.
Я написал, но мнению Твардовского, слишком занимательно, без психологической глубины, без той проникновенности, которая одна только и способна озарить рыцарство одних, устоявших, нравственно победивших, и низость других, вознёсшихся и смертельно боявшихся, что придёт время, когда вернутся их противники – и тогда сотни карьер рухнут, рассыплются в прах.
Вот в чём было дело и вот почему, согласившись с Твардовским, я дважды переписал свой роман, оставив только то, что соответствовало этим соображениям.
Переработка была коренная – недаром же в последнем варианте книга заканчивается смертью главного героя. Через два года после нашего разговора, в 1968 году, роман был опубликован в издательстве «Молодая гвардия».
7
С небывалой значительностью зазвучала в книгах 60–х годов социальная нота.
Рассказать о том, что было так недавно пережито, должна была литература, в которой исконное духовное начало, едва ли не со времён «Слова о полку Игореве», неразрывно соединилось с началом общегражданским, светским. Это было прямым долгом искусства.
Именно в это время между нами образовались совсем другие, свободные и естественные отношения.
Для моей жизни и работы они оказались значительными потому, что я другими глазами прочёл Твардовского, сызнова связав в его поэзии концы и начала. «За далью – даль» – не только названье его знаменитой поэмы. Это – компас, без которого не обойдётся исследователь, задумавшийся над сознательным возвращением в русскую поэзию разговорного, обыденного, прозаического слова после побед символизма и футуризма.
Месяца за два до болезни Твардовского мы случайно встретились у В. Я. Лакшина и дружески обнялись. Теперь в откровенном и доверительном разговоре звучало чувство товарищества, верности, ничего от скованности.
Твардовский – весь в продолжающейся жизни нашего искусства. Он в творческих усилиях тех, кто неустанно работает, твёрдо зная, что наша литература займёт то место, которое ей в веках предназначено и которое отменить невозможно.
«Верую» Твардовского – прочно, потому что просто. Разбежавшись в тысячах литературных и нравственных мнений, оно живёт как прикосновенье души, счастливой особенным счастьем: ничего не желая для себя, отдать всего себя Родине и литературе.
1969–1978
НИНА ДОРЛИАКЗимой 1929 года мы с Ю. и. Тыняновым поехали в «Детское Село» – санаторий учёных – и там познакомились с людьми, о которых любим вспоминать и рассказывать, потому что знакомство, а потом дружба с ними украсили нашу жизнь и незаметно сделали её содержательнее и полнее. В санатории отдыхал знаменитый революционер, народоволец, проведший 29 лет в заключении, – Николай Александрович Морозов с женой Ксенией Алексеевной.
Знакомство с ним, переписка Ксении Алексеевны с моей женой заслуживают не беглого упоминания, а обдуманной книги, полной никому не известных подробностей, тем более что после отдыха в Детском Селе мы неоднократно бывали в их доме, который сам по себе представлял бережно сохранившийся музей XIX столетия. Но об этом как–нибудь в другой раз.
Отдыхали в санатории и молодые супруги Пресняковы, Александр Александрович, режиссёр, сын известного историка, и его жена Лариса Ивановна. Это были молодые, полные жизненных сил, склонные к шуткам и розыгрышам люди.
И наконец, приехала на первый взгляд незаметная, такая тонкая, что казалось, что она вот–вот переломится, изящная, с курчавой пышной причёской, очень молодая Нина Львовна Дорлиак. Она была дочерью известной певицы, профессора Ленинградской консерватории, Ксении Николаевны Дорлиак. На вид Нине Львовне можно было дать лет восемнадцать, но она была уже замужем. Она держалась просто, но в этой простоте было врождённое изящество, удвоенное умным и тонким воспитанием.
Да, совсем забыл: в санатории жила ещё закутанная, хотя в доме основательно топили, переводчица Мария Валентиновна Ватсон, о которой было известно, что она была подругой Надсона, что она много сил отдала, чтобы он поехал за границу лечиться. Теперь, когда ей было не меньше восьмидесяти, она была занята, главным образом, политическими симпатиями своих старых и новых знакомых.
Сначала наша компания разделилась: молодые соединились с молодыми, старики со стариками. Но если вспомнить о «типах отношений», очень скоро обнаружился тот определённый тип, который можно назвать «любовью и интересом друг к другу».
Николай Александрович, который на вопрос какого–то представителя КУБУЧа: «Есть ли партийные?» —ответил: «Есть. Я – партийный, партия «Народная воля». Он рассказывал свои истории, удивительные не только потому, что они были воплощением как бы на театральных подмостках поставленных сцен, но ещё потому, что невозможно было представить себе, что этот старичок с мягкой седенькой бородкой, бесшумно, по–тюремному бродивший в домашних туфлях по дому, некогда был бесстрашным террористом. Ксения Алексеевна дополняла эти истории подробностями, без которых они становились похожи на выдуманный детективный роман.
У Преснякова тоже было что рассказать, – он в фантастически сложных условиях снимал на Крайнем Севере хроникальные фильмы, Мария Валентиновна, как бы оставшаяся в XIX столетии, время от времени вступала с неожиданной репликой, отдалённо напоминавшей о болезни и безвременной кончине умершего поэта.
Молчала и только внимательно прислушивалась к этим историям, тактичная, привыкшая молчать, пока с ною не заговорят, с умными, доверчивыми глазами, скромно оживлённая, не придававшая значения своей привлекательности Нина Львовна. Мне нравилась и её сдержанность, и то, что она живо интересовалась нашими разговорами, в которые как бы стеснялась вступать, и однажды я пригласил её погулять, почему–то не надеясь, что она согласится. Ничуть не бывало: неожиданно согласилась, побежала одеваться и вернулась в лёгком меховом пальто, в меховой шапочке, тоненькая, как нарисованная одной чертой собственная тень. О чём мы заговорили? Разумеется, об искусстве. Она собиралась стать певицей, как её мать, училась пению. А ещё – о строгости, о строгости Ксении Николаевны, которая пе прощала своим ученицам (и в том числе дочери) пи малейшей ошибки. А я стал рассказывать о романе «Художник неизвестен», над которым работал уже почти два года. Роман был сложный, и с первой до последней строчки я написал его дважды. По поводу первого варианта Ю. Н. Тынянов сказал, как всегда, только несколько слов – что–то о сухости стиля и о том, что романы, да ещё о художнике, нужно писать маслом, потому что уголь осыпается и обнажается холст. Сказанного было достаточно, чтобы понять не только смысл неудачи, но и перспективу нового произведения, для которого может пригодиться тот же использованный холст.
Я смотрел на слегка порозовевшее лицо моей спутницы, заглянул ей даже в глаза и радостно убедился, что она всё понимает. Не знаю, как передать это чувство, но тогда я понял, что мы – друзья и останемся друзьями на всю жизнь. С тех пор мы гуляли почти каждый день, зима затянулась, а потом вдруг один за другим пошли тёплые дни. солнце, как на катке, стало скользить по скользким тропинкам, и пришлось взять мою спутницу под руку, чтобы она не упала.
II вот удивительно – мы пробыли в санатории не более трёх педель, и ничего особенного не произошло за эти недели, но и чувствовал, что наши отношения не кончились после нашего разъезда и долго не кончатся или, по меньшей мере, будут вспоминаться всю жизнь. Так и вышло. У Морозовых мы с женой стали бывать вместе с Пресняковыми и познакомились в их доме на бывшей Офицерской с жизнью, которой никто, кроме Морозовых, не жил в нашей стране (разве ещё Вера Фигнер, перед которой они благоговели). Дело в том, что правительство оставило им имение «Борок» в Ярославской области, принадлежавшее отцу Николая Александровича, и, таким образом, они оказались единственными помещиками в Советском Союзе.
Расставаясь, Нина Львовна пригласила меня бывать у неё. Я скучал без неё, без наших прогулок, и едва ли было приличным уже через неделю воспользоваться этим приглашением. /Кили мы очень близко друг от друга, на Петроградской стороне, – я на проспекте Карла Либкнехта, ещё не потерявшем старого названия Большого проспекта, она – на Каменноостровском. Строгая мама оказалась не очень строгой, по крайней мере со мной. Я поразился красоте младшего брата, высокого юноши, с которого смело можно было лепить Аполлона, чем–то похожего на сестру, хотя он был такого роста и с такими большими руками, что моя ладонь потонула в его приветливой, – доброй руке. Не помню, о чём мы говорили, я пришёл не вовремя и скоро простился, но начало было положено, и мы стали встречаться, впрочем, не так часто, как мне хотелось. Потом Дорлиаки уехали в Москву, и ниточка дружеской связи, едва различимая среди больших и малых событий, казалось, навсегда оборвалась. Ничуть не бывало! Я знал, что Нина Львовна развелась с мужем, окончила Московскую консерваторию, выступала на концертах – у неё было не очень сильное, но мягкое лирическое сопрано, – и с успехом (в её таланте, обещавшем ей успех, я никогда не сомневался). Каждый раз, приезжая в Москву, я звонил ей, до самой войны, разорвавшей пе только наши пунктирные встречи, грубо, железными шагами вошедшей в жизнь, чтобы сделать её немыслимой, неузнаваемой.
Но вот разум и мужество победили. При первой возможности (после фронта я тяжело болел) мне удалось узнать много нового о семье Дорлиак, вернувшейся в Москву из Тбилиси. И это были прекрасные новости, вскоре появившиеся на афишах, конечно для того, чтобы не только я, но и вся страна знала о них. Во–первых, я узнал, что Нина Львовна вышла замуж за Святослава Теофиловича Рихтера. Во–вторых, я узнал, что она стала прекрасной певицей, и убедиться в этом оказалось не трудно.
Если не ошибаюсь, у Иоганна Себастьяна Баха было двадцать детей, – едва ли история его жены (или даже двух жён) может пригодиться нам, чтобы решить вопрос о том, как должна жить супруга великого человека. С помощью моего скромного опыта трудно ответить на этот вопрос, воспользуемся воображением. Очевидно, во–первых, надо проникнуть в смысл, в глубину его величия (именно этой черты была, как известно, начисто лишена Наталья Николаевна Гончарова). Во–вторых, нужно быть королевой вкуса, достаточно скромной, чтобы никто об этом не догадался. В–третьих, надо устроить совместную жизнь так, чтобы эта «совместимость» не мешала, а помогала и, если это возможно, была бы необременительной и даже приятной. В–четвёртых, необходимо взять на себя деловую сторону «славы», а это сложное дело, требующее немалой энергии, такта, умения расположить к себе множество людей, подчас не имеющих к искусству прямого отношения. Для всего этого прежде всего нужна незаурядная воля, – именно о ней я вспоминаю, когда задумываюсь над образом жизни жены великого человека. Всеми этими качествами вполне обладала и обладает Нина Львовна, воля – одна из поражающих и восхищающих меня черт её характера. Для того чтобы стать первоклассной певицей, поднять и усовершенствовать свой талант, завоевавший широкую известность, нужна была прежде всего воля. Воля скромная, почти незаметная, но содействующая в высокой степени пути к изящному и тонкому искусству.
Помнится, мы однажды случайно встретились с Ниной Львовной на Арбате и в разговоре как бы подвели нтог тому, что она сделала в музыке, а я – в литературе. Оба считали, что это только начало. Хотя я был старше её по меньшей мере лет на десять. Подвели и решили, что хотя кое–что сделано, но впереди ещё так много, что стоит жить и радоваться жизни. Шутя мы поклялись друг другу стать известными и даже – более того – знаменитыми людьми. И как ни странно, вспоминая впоследствии об этой встрече, я думал о том, что в тонкой нити наших долголетних отношений в этот день был завязан прочный узелок. Мне всегда были дороги паши встречи, но эта запомнилась как обязывающая. И действительно, ей довольно скоро удалось стать знаменитой. Ее концерты, на которых ей аккомпанировал на органе известный Гедике, её концерты с участием Св. Рихтера для всех любивших и ценивших музыку были запоминающимся на всю жизнь событием. Годы шли, наши встречи становились все реже, но я посылал ей свои книги и однажды получил письмо, которое мне хочется опубликовать.
5.02.77 г.
Милый, дорогой Вениамин Александрович!
Много, много раз я собиралась Вам писать, чтоб благодарить за подаренные книги, за надписи на них; часто я разговариваю с Вами, делюсь волнением, которое всегда охватывает, когда читаю Вас. «Перед зеркалом» – прекрасная, печальная, волнующая повесть, и «Освещенные окна» – памятник Пскову и всему тому времени и действующим лицам: какой полный, яркий портрет Льва Александровича! И «Здравствуй, брат…». Сейчас я снова перечитываю «Здравствуй, брат…» и восхищаюсь каждой фразой, Вашим добрым, благородным сердцем, Вашим проникновением в образ личности, о которой Вы пишете, интересом, который Вы возбуждаете к людям искусства.
Спасибо, дорогой Вениамин Александрович, за всё это, за то, что дарите нам глубокую, интересную радость! Жаль, что мы совсем не видимся.
Ваша Нина Дорлиак.
1583








