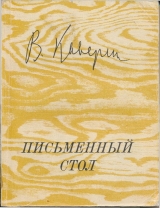
Текст книги "Письменный стол"
Автор книги: Вениамин Каверин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Однажды, лет 15–20 назад, в ялтинском Доме творчества писателей мне позвонили с просьбой выступить перед школьными преподавателями русской литературы. Я не сразу ответил согласием. Эти выступления всегда были очень утомительны для меня. Но директор Дома учителя, приглашая меня на эту встречу, добавила: «За вами зайдёт самая красивая женщина в Ялте». Я согласился.
И действительно – внешность женщины, которая пришла ко мне в назначенный день и час, была очень привлекательна. Это была не та, как бы гордящаяся собою внешность, но застенчивая, скромная, как бы не придающая себе никакого значения. Так я познакомился с Маргаритой Николаевной Саньковой, которая впоследствии стала, так же как её муж, Петр Сергеевич, нашим близким другом. Они были учителя, она преподавала литературу, он – географию и астрономию.
Не могу сказать, что встреча, на которую я был приглашён, оказалась удачной. Задавались все те же надоевшие вопросы, по которым легко можно было догадаться, что кругозор интересов моих слушателей узок, мне было трудно осветить панораму пашей литературы. Но Маргарита Николаевна постаралась оживить нашу встречу, и не без успеха. Мы разговорились, и я попросил её показать мне старую Ялту. Роман «Перед зеркалом» был ещё впереди, и я с интересом, отнюдь не профессиональным, слушал её живой рассказ. Мы ходили в посёлок Ай–Васпль. Она расспрашивала меня о театрах, о том, какие актёры мне нравятся, и я тогда ещё не понимал, почему её интересует эта сторона моей жизни…
Она познакомила меня со своим мужем, и с тех пор мы виделись каждый раз, когда я приезжал в Ялту, иногда один, иногда с женой. Во время разговоров с ними профессиональная цель пряталась где–то в глубине – мне давно хотелось написать о школе. По когда я ближе познакомился с новыми друзьями, я понял, что главное место в их жизни занимает вовсе не школа, а театр. Оба они были актёрами–любителями, организаторами театрального кружка, который на моих глазах превратился в народный театр. И это было результатом упорной и, я бы сказал, вдохновенной работы.
Недавно я смотрел «Иванова» и ещё раз убедился, что пе напрасно супруги Саньковы отдавали так много душевных сил этому делу. И хотя большинство актёров хорошо исполняли свои роли, Саньковы исполнили их лучше других. Возможно, что роль Лебедева удалась Петру Сергеевичу не только потому, что он играл без грима, но и потому, что он играл самого себя, пе стараясь изображать какого–то далёкого от него и жившего много лет тому назад человека. О Маргарите Николаевне этого нельзя сказать. Она – человек, который посвятил свою жизнь театру с юных лет и, без сомнения, стала бы известной актрисой. Я видел её и в других ролях. Она всегда играет характер и, стало быть, художественно перевоплощается. Да и вообще ялтинский народный театр произвёл на меня хорошее впечатление. Поставить длинную четырёхактную пьесу, сведя её в один лаконичный, занимательный, энергично развивающийся акт, непросто. , Для этого нужны незаурядный вкус и талантливое терпение.
Между тем знакомство продолжалось и развивалось. Нравственная чистота чувствовалась в их доме. Побывав в театре, мы убедились, что Маргарита Николаевна – талантливая артистка и что, может быть, напрасно предпочла школу театру. Что касается Петра Сергеевича – наши прогулки с ним, его рассказы могли бы составить целую книгу. Оказывается, он принадлежал к группе ялтинских горных спасателей, ли немало людей, попавших в безнадёжное положение, обязаны ему своей жизнью. Он знал каждую тропинку в Крымских горах, более того, в свободное время укреплял известную разрушавшуюся Боткинскую тропу и другие дороги. К этой работе он всегда привлекал своих учеников. Он ездил с ними в далёкие экскурсии по новым стройкам и старым городам, и, таким образом, его уроки географии были вещественны, ощутимы, зримы. И в самой Ялте он работал как географ–строитель: соорудил в городском парке на земле карту Крымского полуострова с помощью камня и цемента, назвал все главные города, выходившие к морю. Едва ли хоть один турист или отдыхающий прошёл мимо и не заметил этой оригинальной, лежащей на земле географической карты.
Петр Сергеевич глубоко заинтересовал меня прежде всего как человек, который никому, кроме самого себя, не был обязан тем, что он стал первоклассным преподавателем, строителем, спасателем, организатором будущего народного театра. Разговаривать с ним всегда было необычайно интересно. Семнадцати лет он ушёл добровольцем на войну, был разведчиком. И не раз случалось, что я просил повторить его рассказы. Они были лаконичны, просты и выразительны. Может быть, потому, что он неизменно ставил себя на последнее место. Это относится не только к деятельности учителя, горного спасателя, актёра. Он знал своих учеников, он тонко различал тех, кто будет думать прежде всего о других, а уже потом о себе. Этот дельный практик с ясным, логическим умом был душой любого дела. Что касается театра, который был его любимым делом, были, надо отметить, подчас и критические положения: без его помощи театр бы просто развалился. Почти вся Ялта – его ученики. И стоит только произнести его имя, на каждом лице появляется благожелательное выражение.
Почти то же самое можно сказать о Маргарите Николаевне. Конечно, она никогда не занималась починкой Боткинской тропы и не выкладывала из камней и цемента рельефную карту Крыма. Но она – человек искусства, что не мешает ей быть и практичной (уже много лет она директор Дома учителя, что связано с её театральными интересами, потому что именно она в Доме учителя связала школу и театр).
Я видел её в нескольких спектаклях. Она двигается легко, у неё – об этом уже было сказано – красивая внешность. Она много работает над ролью прежде, чем появляется на сцене. Об этом рассказала Ирина Овруцько в своей книге «На сцене народного театра» (Киев, 1979).
Теперь она работает в Доме–музее Чехова в Ялте.
На первый взгляд может показаться, что я подробно рассказал о Саиьковых. На самом деле это лишь поверхностный набросок. И тому, кто хорошо знаком с этим семейством, этот набросок покажется далёким от оригинала.
1983
УЧЕНИКИВ тургеневские времена эти произведения назвали бы стихотворениями в прозе. В нашей современной литературе этот жанр назвали бы эссе. И – ошиблись бы. Эссе, в конечном счёте, почти никогда не стремится к конкретности, к. предметной подаче материала. Для него характерна не столько предметность факта, сколько его приблизительность, колеблющиеся признаки слова. По–французски эссе значит «опыт, испытание, очерк». В работе того писателя, о котором я хочу рассказать, эти три составляющих соединяются иногда в самых неожиданных сочетаниях.
Мелькнувшее, по почему–то запомнившееся мгновенно. То, что скользит в глубине обыкновенной жизни, скрываясь от привычного, повторяющегося, обыкновенного. Проблеск сознания, решающего подчас самое важное в жизнн – наяву или во сне, иногда навсегда забытом. Влечение, которое остаётся необъяснимым, ошибочно и горестно принятое за любовь. Оставшаяся неразгаданной причина напряжённости между любовниками, друзьями. Инстинктивное понимание значения несовершившегося шага, который, может быть, круто повернул бы жизнь.
Мы ничего не знаем о человеке, который мучительно долго любит девушку, ответившую ему взаимностью с первого взгляда. Речь идёт не о людях, не о том, что их окружает, волнует, против чего они вынуждены бороться. Профессия не названа. И даже имя остаётся читателю неизвестным. Речь идёт только о любви. Потому что именно только с нею и приходится бороться. Эссе, испытание, очерк, превращается в трактат о загадочных поворотах отношений в мире любви, трагических, кончающихся разлукой, приносящей робкое, еле угадывающееся облегчение. Это испытание души, это эссе, этот ломающий жизнь опыт называется «Невозвращенная любовь». Но пора познакомить читателя с автором.
Евгений Ованесян, кинорежиссёр, занимается прозой тогда, когда это позволяет ему работа. Вот пример его прозы.
Но в конце концов он настанет – тот самый день, о котором ты всё время, помнишь и думаешь, и который напрасно стараешься оттянуть, и о котором напрасно стараешься забыть, – в конце концов он настанет.
Он придёт неожиданно и весь сразу, он явится целиком и врасплох, и ты начнёшь спешно укладывать и собирать то, что давным–давно уже собрано и упаковано без твоего участия, – и остаётся лишь взять это с собой. Но ты суетишься, ооеспокоенный; ты суетишься, растерянно проверяя всё, что Должен взять с собой, всё, что понадобится тебе в другом времени, – забывая, что только там всё станет ясным.
И ты спешишь, потому что день на исходе, – ты берёшь с собой воспоминания, – может быть, и они сослужат тебе службу, – ты берёшь их все сразу, боясь лишиться хоть одного, – но они сопротивляются, – или в спешке чудится тебе сопротивление?.. II ты нетерпеливо комкаешь и мнёшь их, – а день догоняет тебя.
Ты берёшь с собой свои слова – те, что уже были сказаны, и те, что ещё не появились; ты многое ещё возьмёшь с собой, и ещё больше смог бы взять, но остановишься, потому что закончится этот день.
И тогда ты вспомнишь о своей последней минуте, которая достанется провожающим; они насладятся ею или растерзают её, – но не в твоих силах взять её с собой, и она перестанет быть твоей ещё до того, как ты поймёшь это.
Но вот он настал, твой день отъезда. Торопись, он уже истекает.
Но это литературное фотомгновенье далеко не исчерпывает возможности Е. Ованесяна. Он работает – и с успехом – в реалистической прозе.
В Одессе умирает старый тренер по боксу Аркаша. II благодарные ученики несут его к могиле на руках. Траурная колесница тянется сзади. Несут и «звезды» бокса, и рядовые боксёры, а прощальную речь над могилой произносит, к сожалению, самый ничтожный из них, известный своей осторожностью и тем пе менее мечтающий о славе. Речь длинная, оснащённая внушительными цитатами, проникнутая надеждой на крутой взлёт популярности и общественной карьеры. Слушая её, ученики сперва с трудом удерживаются (а некоторые не удерживаются) от слез. Но оратор упоён собственным красноречием, «случайный человек в боксе» говорит уже главным образом только о себе, забывая об Аркаше. Боксеры терпеливы, они не хотят омрачать торжественных минут прощания. Но когда все кончается и провожавшие начинают расходиться, один из боксёров, преемник старого Аркаши, подходит к оратору: «Не сказав нп слова, взглянув на него в упор, он коротко, не разворачиваясь, ударил его в челюсть своим прославленным боковым слева. И внимательно проследил, как вскинулась и мотнулась его голова и как он тяжело рухнул на землю».
Я думаю, что таких писателей много. Более того, я надеюсь, что этот жанр, находящийся на периферии бытовой и лирико-философской темы, может и должен найти себе место в нашей многообразной и своеобразной литературе. Бытовая, повторяющаяся жизнь привычно заполняет нашу прозу, и, может быть, стоит пристально вглядеться в это, ещё почти не изученное явление.
Книгу рассказов «Окно» опубликовала Нина Натерли, инженер–технолог из Ленинграда. Мы знакомы, и я давно слежу за её работой. Она пытается соединить жизненный опыт с незаурядным воображением. Точнее сказать, заняться этим советую ей я, хотя сам недавно испытал всю сложность подобного соединения в своей повести «Верлиока».
Читая «Окно», невольно представляешь себе человека молодого, решительного, беспечного, однако серьёзно задумавшегося над вопросом: по какой дороге идти – направо или налево? Направо – психологическая проза, современная и одновременно традиционная, налево – фантастическая игра, основанная на перевёрнутых представлениях. Направо – наблюдение, психологическое исследование, логика характеров. Налево – воображение, алогизм, несоответствие синтаксического и смыслового движения речи. На какой дороге её ждёт успех и признание? Это трудно предсказать ещё и потому, что вопреки всем «выходам из действительности» на самом деле Нина Катерли с головой погружена в неё. Обыкновенное и необыкновенное происходит в том же вполне реальном мире, на улицах Ленинграда, на обшарпанных лестницах, в коммунальных квартирах. Впрочем, можно, пожалуй, сказать, что по правой дороге ей будет легче идти: дорога русского психологического рассказа давным–давно не только протоптана, но превращена в дивную, поросшую столетними дубами аллею. Недаром первый рассказ в её книге – простая история о том, как отец считал беспутным малым младшего сына(который отдал ему свою жизнь) и высоко ценил старшего, холодноватого эгоиста, – так и называется «Дорога». Рядом стоит «День рождения» – мгновенный кадр, в котором читатель–зритель успевает разглядеть беспомощную старуху, продолжающую жить в давно исчезнувшем мире. Ее память похожа на часы без стрелок в знаменитом фильме Бергмана «Земляничная поляна».
Неподалеку от этого рассказа читатель найдёт «Первую ночь». Пожалуй, судя по этому рассказу, и Катерли можно считать если не капитаном, так по меньшей мере старшим лейтенантом на действительной службе в психологической прозе. Однако, твёрдо держа перо в руке, она смело встаёт на совсем другой, рискованный путь… Старый трактор, которому нечего делать в городе, привязывается к человеку и таскается за ним, как живой, тарахтя мотором и не замечая, что он то и дело ставит своего хозяина в глупое положение. Никто не знает, откуда он взялся в гараже ишкенера Фирфарова, приготовленном для новеньких «Жигулей». Нельзя сказать, что он «втирается» в жизнь инженера, напротив, постепенно выясняется, что бывают случаи, когда он может ему пригодиться. Он понимает человеческий язык, он слепо слушается хозяина, он восторженно относится к его приказаниям и в конце концов, когда его, ослепшего и беспомощного, выгоняют, оказывается, что люди полюбили его и судьба его им не безразлична…
Недаром этот рассказ называется «Человек Фирфаров и трактор». За шутливым сюжетом просвечивается очень серьёзная мысль – серьёзная и поучительная, как это ни странно: мысль о том, что создание рук человеческих – тот же человек, продолженный в труде, творчестве, созидании.
«Коллекция доктора Эмиля», «Волшебная лампа», «Зелье» задуманы с большой оригинальностью и написаны выразительнее, точнее. Но замыслы этих рассказов не доведены до конца. Неясно, к чему лее приводит конструктора Мокшина открытие зелья, заставляющего человека всегда говорить то, что он думает, а не то, что НАДО сказать. Собачка, которую дарит неудачнику Лаптеву загадочный доктор Эмиль, исчезает на последних страницах, и занимательная история неуклонно погружается в неопределённость.
Мне хочется сказать молодому автору: как инженер–технолог вы должны знать, что такое «доводка». Любой замысел – и в особенности фантастический – должен быть доведён до конца. Пословица «конец – делу венец» – для пас не пословица, а суровый, беспощадный закон…
Молодость писателя в наше время начинается лет в сорок. Но тот, которого я считаю самым способным из начинающих, начал гораздо раньше, сразу после армии. Это Владимир Иванович Савченко. Я слежу за его работой уже более пятнадцати лет. Он писал хорошие современные рассказы, но не спешил с их опубликованием, считая, что они нуждаются в совершенствовании. Обратившись к историческому роману, он показал редкую тщательность в сборе и изучении материалов и написал повесть «Тайна клеёнчатой тетради», одобрительно встреченную читателями и критиками.
История народовольца Клеточникова необыкновенна. С помощью квартирной хозяйки, связанной с тайной полицией, он поступил в Третье отделение и начал службу как «агент внешнего наблюдения», или попросту филёр. Вскоре он был взят в канцелярию – помогли необычайные для сыщика дарования: на редкость красивый, отчётливый почерк и умение грамотно, быстро, толково составить деловую бумагу. Несколько месяцев спустя его назначили заведовать всей канцелярией, а ещё через несколько месяцев, быстро продвинувшись, он получил в своё полное распоряжение секретный отдел Третьего отделения. Держа тесную связь с товарищами народовольцами, он мог теперь предупредить их о любом намечавшемся обыске пли аресте, вообще обо всём, что затевалось в недрах царского сыска против революционеров. Недаром его считают первым контрразведчиком революции. Два года продолжалась эта деятельность, которую мало назвать опасной, – деятельность человека, балансирующего над бездонной пропастью, спокойно шагающего через ежеминутную опасность. II погиб он случайно, «провалился» отнюдь не в стенах Третьего отделения, где он успел за беспорочную службу получить орден Станислава, а по нелепому стечению обстоятельств.
Эта «двойная жизнь», которая для многих писателей послужила бы основой увлекательного, остросюжетного произведения, занимает только последнюю треть книги Владимира Савченко. А первые две трети посвящены тонкому психологическому исследованию характера Клеточникова, его духовному росту, проблеме выбора – какому идеалу, какой полезной цели отдать жизнь. Сюжет рассказан занимательно, по, в сущностй, он играет служебную роль. Он – убедительное доказательство того, что героем романа сделан глубоко продуманный выбор, этот выбор подсказан всей предшествовавшей жизнью, всеми чувствами и мыслями героя. В конечном счёте исторический роман превращается в современный – проблема выбора жизненного пути и в наше время стоит перед каждым мыслящим молодым человеком.
Изучая материал следующего романа – о Чернышевском (что отняло у него более двух лет), Савченко написал книгу (опубликованную, как и «Тайна клеёнчатой тетради», в серии «Пламенные революционеры»), которая своей весомостью и основательностью открывает новую страницу в освоении духовного мира великого мыслителя. Но книга эта – но биография. И линия Чернышевского – не единственная, по которой развивается действие.
Та же проблема – выбор пути – стоит и перед Всеволодом Костомаровым, «пламенным революционером», устроившим тайную типографию и предложившим её Чериышевскому, Михайлову и Шелгунову. Он был арестован, и его жизненное решение прямо противоположно решению Клеточникова. Он не намерен отдать свою жизнь революции. Он соглашается участвовать в обвинении Чернышевского, самое существование которого давно представлялось правительству фактом, подлежащим уничтожению. Подделывая почерк Чернышевского, Костомаров сочиняет подложные письма, связанные с делами тайной типографии, выдаёт Шелгунова, Михайлова, товарищей по студенческому революционному кружку. Но не надо думать, что этот выбор продиктован только страхом за свою жизнь. Он глубоко подготовлен самим характером Костомарова, его модным в то время стремлением «слиться с народом», может быть, даже его поэзией – он пишет недурные стихи…
Боюсь, что этот пересказ может произвести впечатление, будто весь роман написан о предателе, оставившем грязный след в истории революционного движения. Нет, роман – о Чернышевском, о двух роковых в его жизни годах – 1861–м и 1862–м. Он тоже был встречен весьма одобрительно. О нём появились статьи, трезво оценивающие дарование В. Савченко.
Но мне думается, что по своему душевному строю Савченко все–таки не исторический, а современный писатель. Умение разглядеть явлениеподчас в самом незначительном случае, ненавязчивая забота о занимательности, меткость тонко подмеченных деталей – все говорит о бесспорном таланте.
Ю. Тынянов любил слово «литератор». Это слово в полной мере относится к Савченко. Он широко образован, может написать и критическую статью и эссе, полпое философских размышлений. Моя роль как учителя заключается в немногом – может быть, он перенял мою привычку работать каждый день и научился следовать своей внутренней воле, не считаясь ни с какими другими факторами. Это и есть характерные черты литератора.
1983
В КРУГЕ ЧТЕНИЯ
ПРОЗА ПАСТЕРНАКАСборник прозы Пастернака (издательство «Советский писатель», 1982 г.), составлен нз очерков, воспоминаний, рассказов и из эссе, посвящённых французским, английским, грузинским поэтам. Последовательность основана на хронологии. Вступительная статья принадлежит одному из самых глубоких историков литературы и мыслителей – Д. С. Лихачеву. Иллюстрации отца поэта, известного художника Л. О. Пастернака, простые и изящные.
Проза Пастернака сложна, трудна для чтения, полна своеобразных мыслей, заставляющих задуматься над основными чертами русского искусства. Она не похожа на любую другую прозу. Прежде чем попытаться рассказать о ней, стоит, мне кажется, рассказать то немногое, что мне запомнилось об её авторе. Впечатление от личности Пастернака может дополнить и углубить впечатление от книги.
Мы были знакомы в двадцатых годах, но только в послевоенные годы, когда, я; ивя в Переделкине, стали встречаться – у Всеволода Иванова или на прогулках, – у меня появилась драгоценная возможность попытаться рассмотреть, разобраться в нём или, по меньшей мере, в своих впечатлениях, и я сразу должен признаться, что это была почти непосильная для меня задача. В любом обществе – а у Ивановых бывали первоклассные писатели, художники, артисты – между пим и каждым из нас было необозримое пространство, нечто вроде освещённой сцены, на которой он существовал без малейшего напряжения. Неизменно весёлый, улыбающийся, оживлённый, подхватывающий на лету любую мысль (если она этого стоила), он легко шагал к собеседнику через это пространство, в то время как собеседник ещё только примеривался, чтобы сделать первые робкие шаги. Видно было, что каждый день для него подарок, и каждая минута, когда он не работал, – не пустая трата времени, а отдохновение души. «Озверев от помарок», – написал о нём Маяковский. Думаю, что он невольно сказал о себе и что Пастернак радовался помаркам, которые слетались к нему как птицы. Праздничность была у него в крови, а так как он не был похож ни на кого другого, эта праздничность принадлежала только ему, хотя он охотно делился ею со всеми.
Признаюсь, что, встречаясь с ним случайно, на прогулках, и как будто продолжая давно (или недавно) прерванный разговор, я уже через пятнадцать минут почти переставал понимать его – мне не под силу было нестись за ним без оглядки, прыгая через пропасти между ассоциациями и то теряя, то находя ясную (для него) и чуть лишь мерцающую (для меня) мысль.
Он всегда был с головой в жизни, захватившей его в этот день или в эту минуту, – и одновременно – над нею, и в этом «над» чувствовал себя свободно, привольпо. Это не противоречило тому, что сказала о нём Ахматова:
Он награждён каким–то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
И он её со всеми разделил.
Начало этого вечного детства изображено в повести, показавшей ту черту его дарования, которой он почему–то почти не воспользовался в прозе, – способностью преображения. Я говорю о «Детстве Люверс». Там способность к перевоплощению выражена с большей силой, чем, например, в прозе, над которой Борис Леонидович работал в пятидесятых годах.
В своей ранней повести он каким–то чудом сам как бы становится тринадцатилетней девочкой, переживающей сложный переход к отрочеству и первым проблескам женского существования. Там впервые переживание соединилось с размышлениями о нём, а впечатление – с поисками своего места в жизни. Там «внутри» и «над» пересекаются в мучительном росте детского сознания. Это пересечение, или, точнее, скрещение, впоследствии стало, мне кажется, характерной чертой Пастернака. Трудно доказать это на примере. Но вот случай, который, кажется, может подтвердить мою мысль.
Однажды у Ивановых после весёлого ужина с тостами, шутками, с той свободой общества, в котором любят и уважают друг друга, все стали просить Бориса Леонидовича почитать стихи. Он охотно согласился – в этот вечер он был особенно оживлён. Не помню – да это и не имеет особенного значения, – что он читал своим глуховатым, гудящим голосом, который, как и все, связанное с ним, был единственным в своём роде. Важно то, что он забыл на середине своё длинное стихотворение и, нисколько не смутившись, стал продолжать рассказывать его, так сказать, в прозе. Но это были уже не только стихи, но и то, что он думал о них. Это было скрещение «над» и «внутри», особенно прелестное, потому что ему было ещё и смешно то, что он забыл свои стихи и теперь приходится пересказывать их «своими словами».
Однажды, когда я проходил мимо его дачи, он как раз вышел из калитки, мы поздоровались, и он сказал с оттенком извиненпя:
– Я не могу с вамп гулять, доктора велелп мне ходить быстро.
Ничего не оставалось, как согласиться с этим полезным советом, проститься и расстаться. Я прошёл дальше, вдоль так называемой «Неяспой поляны», и, возвращаясь, снова встретил Бориса Леонидовича. По–видимому, он уже забыл, что доктора велели ему ходить быстро, и, остановившись, разговорился со мной. Помнится, мы почему–то заговорили о музыке, долго гуляли, ни медленно, ни быстро, а когда расставались, упала звезда, и он быстро спросил меня:
– Загадали желание?
– Нет, не успел.
– А я успел, – с торжеством сказал Борис Леонидович. – А я успел! Она же долго падала, как же вы не успели?
Пастернак десятилетиями почти безвыездно жил в Переделкине, но жил так, как будто сам создал его по своему образу и подобию. В 1936 году, в Париже, на Всемирном конгрессе «В защиту культуры» он вёл себя, по словам Эренбурга, «очень странно». «Он сказал мне, что страдает бессонницей… Он находился в доме отдыха, когда ему объявили, что он должен ехать в Париж. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэзии. Наспех мы перевели на французский язык одно его стихотворение. Зал восторженно аплодировал!» («Люди, годы, жизнь». М., 1967, с. 67).
Илья Григорьевич подробнее рассказывал мне о Пастернаке в Париже. Борис Леонидович был всем недоволен, даже распорядком дня, привычным для любого француза. Восторженные аплодисменты раздались не только после, но и до его речи, едва он открыл рот, прогудев нечто невнятное, – я знал этот глухой звук, которым он прерывал себя, находясь в затруднении.
– Этого было достаточно, —сказал Илья Григорьевич, – чтобы почувствовать поэта.
Вот что сказал Пастернак:
«Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы её увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы её можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речп, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником».
Он «не вписывался» ни в конгресс, ни в Париж.
– Он вёл себя так, как будто сперва должен был создать свой Париж, а потом жить в нём по–своему и уж во всяком случае не так, как живут французы, – заключил Оренбург.
Однако нора оставить воспоминания и попытаться рассказать о долгожданной книге, изданной так заботливо и умело. Д. С. Лихачев в своей прекрасной статье неопровержимо доказал, что «поэзия Пастернака тоскует по прозе, по прозаизмам, по обыденности». Но как явление проза эта осталась непрояснённой, и развитие её от блистательных открытий молодости до «неслыханной простоты» в зрелые годы ещё ждёт своего исследователя. На концепцию ещё трудно решиться. Вот почему все дальнейшее претендует лишь на догадки и предположения.
Фабулы – в смысле движения скрещивающихся мотивов – в прозе Пастернака нет. Единственное исключение – «Воздушные пути» – рассказ о событиях, смело составленных из двух картин, между которыми проходит пятнадцать лет. О нём – единственном в книге – можно рассказать своими словами. В нём есть если не фабула, так, по меньшей мере, мотив: мост, переброшенный через пропасть. Рассказать об «Охранной грамоте», об «Апеллесовой черте» – невозможно.
Герой Пастернака является перед нами со всей панорамой того, что его окружает, причём они – панорама и действующее лицо – то и дело не прочь поменяться местами. «А песчаные вихри все не унимались, дождя не предвиделось, и всё мало–помалу к этому привыкли. Стало даже казаться, что это все тот же, теперь на долгие недели застоявшийся день, которого тогда вовремя не отвели в участок. Вот он и взял силу и до смерти всем осточертел. А теперь на улице его всякая собака зпает. Так что если бы не ночи, ещё дышавшие какими–то призрачными различьями, то следовало бы сбегать за понятыми и наложить сургучовые печати на иссякший календарь» («Повесть», с. 156).
Так фон —обильный подробностями, пронизанный ассоциациями, точный, изумляющий сравнениями, вмешивающийся в жизнь, – накрепко связан с нею и одновременно живёт сам по себе. Каждая картина, в сущности, – стихотворение, написанное белым стихом и не имеющее ничего общего с тургеневскими «Стихотворениями в прозе».
Так же изображает он не только внешний, но и внутренний мир, —я уже упоминал об этом. Разница в том, что на месте поездов, фонарей, полушубков, убранства комнат, чуда природы возникают мысли и чувства. Не только в «Детстве Люверс», о котором я упоминал, читатель видит весь внутренний мир героя – и то, что невнятно мелькает в сознании, и то, что запоминается навсегда.
Если несходство может дать хотя бы приблизительное представление о предмете, – нет ничего более противоположного прозе Пастернака, чем детектив или театр теней.
Герои подлинные, непридуманные, написаны без умопомрачительных ассоциаций, напротив – с трезвостью увеличительного стекла. Так в «Охранной грамоте» «рассказан» Маяковский – со всей сложной историей отношений. Читая страницы, посвящённые ему, невольно вспоминаешь стихотворение Цветаевой:
Превыше крестов и труб,
Крещенный в огне и дыме,
Архангел–тяжелоступ —
Здорово, в веках Владимир!
Но отношение Цветаевой к Маяковскому было поводом для блестящего портрета. А для Пастернака поэзия и личность Маяковского – это полнота безусловного признания и столь же безусловного отрицания. Спора и примирения. Сознания полной бездарности по сравнению с ним и столь же полного отрицания всего, что он написал в двадцатых годах. Тут уж ничего не было «над». Не до неожиданных ассоциаций. Не до чуткого прислушиваиья к «чужому». Тут уж всё было кровное, своё. Тут надо было представить Маяковского в той степени вещественности, которой никто, кроме него, пе был достоин. «Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставали его уже в снопе её бесповоротных последствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперёд, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямотою разбелявшегося конькобежца, вечно мерещился какой–то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринуждённо» (с. 261– 262). Именно так – крупно и непринуждённо – был разгадан этот характер гениального поэта – разгадан, потому что для Пастернака жизненно необходимо было его разгадать. Он сделал это лучше всех, схватив на трёх страницах громадный душевный мир, существование которого долго не давало ему покоя. Он написал о его жизни и смерти, напомнив своей краткостью и содержательностью древние русские летописи, авторы которых думали не о причинности «дела», а о его сущности и свершении.








