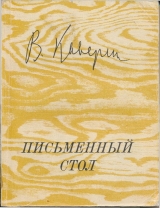
Текст книги "Письменный стол"
Автор книги: Вениамин Каверин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Бывает память тяжёлая, древняя, едва сохранившаяся, вызывающая догадки и предположения, о которых спорят люди науки, воплощённая в надписи, едва сохранившейся на развалинах тысячелетних зданий. Бывает память, отделённая от нас столетием и нашедшая своё отражение в книгах, в воспоминаниях. Они изучаются, сопоставляются, и картина времени, в котором действовал писатель или художник, возникает перед глазами, чаще всего не полная, приблизительная, с пустотами, потому что свидетелей нет и, следовательно, нет живого звучащего слова.
По есть другая, молодая память – вчерашняя, оставшаяся в сердце живых и любивших. В пей отразилось то, что не ищет и не находит себе места в сборниках воспоминаний. Она состоит из незамеченного, запомнившегося случайно, мелочей, подробностей, деталей, некогда мелькнувших, а теперь получивших новое полное жизни значение.
Я думал об этом, слушая В. Я. Лакшина, который шаг за шагом восстанавливал не биографию А. Твардовского, а ту атмосферу, в которой он жил и работал. Казалось бы, перед Лакшиным была непреодолимая по трудности, а может быть, и немыслимая задача. Как же он справился с нею? В «Последних днях» М. Булгакова Пушкин показывается только раз, – когда, смертельно раненного, его проносят через сцепу. Но Булгаков широко пользовался бессмертным искусством воображения. Персонажи пьесы говорят слова, которые он вложил в их уста, он свободно распоряжается воспоминаниями о поэте, он смело вводит живые персонажи.
В телевизионной картине «Дом Твардовского» нет места воображению. Все, вплоть до забытой Твардовским на столе пачки сигарет, – не выдумка, но скромная и поражающая своей скромностью правда.
Поэзия Твардовского участвует в фильме как некий путеводитель, который ведёт ко времени его юности, к далёким уже дням войны, к тем, кто его знал и любил. Отчий дом не сохранился, но Лакшин едет на родину поэта, чтобы увидеть своими глазами землю, на которой стоял этот дом, и найти людей, которые помнят пе только его отца, но и деда.
Вот что мы слышим на фоне панорамы Загорья: «Родина – слово для Твардовского не громкое, но полновесное, целый мир понятий, дорогих на всю жизнь: семья, детство, уголок чахлой земли, где стоял отцовский хутор, самодельный прудик, кузница, голос женщины, долетавший с поля.
И что ж такого, что с годами
Я к той поре глухим не стал.
И все взыскательнее память
К началу всех моих начал.
Нет ни кузницы, ни двора, ни дома, но все это возникает перед глазами, вдохновлённое любовью друга. Все проникнуто духом Твардовского, его незримым присутствием, отражениями его поэзии на разорённой войной и временем земле. И все это дарит нам чудо телевидения, которое давным–давно никому не кажется чудом. Так постепенно, шаг за шагом перед нами выстраивается личность Твардовского, как пьеса, в которой отсутствует герой, но в которой все пронизано памятью о нём, полной значения. И выстраивается она – в звучащем словесвидетеля и друга.
Что же такое это звучащее слово? Без преувеличения можно сказать, что самый факт появления таких произведений, как «Дом Твардовского», – новость в искусстве. Стоит только вообразить, что телевидение существовало в пушкинские времена, и сразу станет ясно, какой проникающий свет был бы брошен на все не разгаданное до сих пор, всё, что служит предметом кропотливого, настойчивого изучения.
По мере своего развития рассказ В. Я. Лакшина усложняется. Новые люди появляются на экране. Но это отнюдь но выдуманные, а существующие, реальные люди. Их можно смело назвать персонажами памяти, которая выстраивает в этом фильме как бы летописный сюжет. Вот перед нами Ефросинья Лазаревна Иванова, которая хорошо помнит всю семью Твардовских и рассказывает о ней естественно, свободно, живо. Вот Андрей Семенович Кузьминский – сверстник Александра Трифоновича и его товарищ по школе. В их рассказах перед нами проходит то, что можно назвать фоном поэзии Твардовского, её средой, окружением, обстановкой. Эти кадры относятся к молодости поэта, и, как мерцающая в полумраке свеча, их освещает красивое молодое лицо, трогательное лицо – сияние первых поэтических лет.
Для этого «фона», как, впрочем, и для всего фильма в целом, избраны не боковые, случайные линии жизни. Избрано изначальное, и это относится не только к молодости, но и к годам войны. Идя по следам биографии Твардовского, мы неотступно приближаемся к самому понятию «память», без которого поэзию Твардовского вообразить невозможно. Память стоит рядом с совестью в каждой строчке, которую он написал. Вот откуда взялось знаменитое «Я убит подо Ржевом…». А совесть – это та дверь, в которую вы входите, открывая любую страницу произведений Твардовского. Ему было страшно и стыдно остаться в живых, он с горечью праздновал торжество победы. Он был потрясён, слушая её литавры, наблюдая её салюты. Он неотступно помнил о неслыханных бедствиях войны, и это чувство осталось у него на всю жизнь.
Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа.
– Он сызмала видел, – рассказывает Лакшин, – как бились, пытаясь поднять семью из нужды, его мать и отец. Он пережил то, что после тридцатого года разметало его семью по стране – до Северного Урала. Он не понаслышке знал, что стало с родным краем в войну и как трудно было строить дома на пепелище. А ему хотелось, чтобы жизнь народа была счастлива и спокойна, чтобы люди жили по правде.
Но, живя по правде, он требовал этого и от других. И прежде всего от тех, кто отдал свою жизнь русской литературе. Вот откуда взялся его «Новый мир» с тем естественно собравшимся возле журнала огромным кругом друзей–читателей.
С тропы своей ни в чём не соступая,
Не отступая – быть самим собой.
Фильм «Долг Твардовского» хорош не только тем, что он подобрал и сохранил навеки то, что было бы, без сомнения, безвозвратно утеряно, потому что жизнь идёт, новое сменяется новым и будущее мерещится, скрывая свою недоступную тайну. Он хорош, потому что проникнут любовью к поэзии, без которой жизнь пуста и ничтожна.
1983
НЕВЕРОЯТНОСТЬ ОЧЕВИДНОГОПредставьте себе, что вас попросили рассказать содержание «Бесприданницы» Островского, – случилось, что ваш собеседник не читал этого произведения. Вы можете исполнить просьбу, и сюжет знаменитой драмы Островского появится перед глазами вашего собеседника – смутный, приблизительный, но все же различимый даже в невнятном пересказе. Но попробуйте изложить своими словами содержание пьесы «Хармс, Чармс, Шардам…», – поставленной Театром миниатюр по произведениям известного советского поэта Даниила Хармса, и вас ждёт полная неудача. Можно рассказать отдельные мотивы – и я попробую это сделать. Но подлинную, возведённую в высокий ранг искусства необычайность этого спектакля «своими словами» передать невозможно. Для этого надо оценить эту, граничащую с открытием, необычайность не только глазами, но всеми органами чувств, и в первую очередь давно забытым детским зрением, – как известно, для детского зрения плоский здравый смысл подчас кажется досадной помехой.
Когда–то, в 30–х годах, Хармс с друзьями приехал ко мне в Сестрорецк. Собрались пойти купаться под вечер, когда солнце уже заходило. Пляж давно опустел, гости – Д. Хармс, и. Олейников и Е. Шварц – разделись, пошли к морю, и за ними с карикатурной неторопливостью поползли тени. Ничего особенного не было в этих удлинявшихся тенях. Но, должно быть, все–таки что–то было, потому что длинный, костлявый Хармс вдруг подпрыгнул, смешно выворотив руки и заставляя свою тень повторить эти движения. Он втягивал тело, вдруг садился на корточки и медленно «вырастал», строго поглядывая на свой далеко распластавшийся послушный силуэт. Это было внезапное вторжение «театра теней» в жизнь, игра с вымыслом, неожиданно сломавшая привычные представления. Тени стали участниками этой игры наряду с людьми. Если бы можно было договориться с ними, Хармс пригласил бы их в ближайшую пивную. Я не удивился бы этому. Перед нашими глазами встал бы образ спектакля, который надо увидеть, но о котором нельзя рассказать.
Что особенного в том, что молодой человек решил жениться? Ровно ничего. Он приходит к своей молодой красивой высокой маме и говорит: «Мама, я сегодня женюсь». Мама занята – она переносит какие–то покупки из картонной коробки, которая стоит на правой стороне сцены, в коробку, которая стоит на левой. Она доброжелательно переспрашивает сына, и он послушно повторяет то, что хочет сказать. По мама не понимает: ей некогда заниматься женитьбой сына. Сын терпелив, он пытается в других выражениях втолковать матери своё желание. Все бесполезно: красивая, милая мать, бессмысленно коверкая слова, переспрашивает его снова и снова, ни на минуту не оставляя своего занятия, – только теперь она переносит свои покупки обратно, из левой коробки в правую. Это не «явление», как говорили в старину, это не «сцена» – ведь ничего не происходит, это уже тень сцены, перенесённой в условный мир, для которого совсем не обязателен смысл. И странное дело! Зрителю свободно дышится в этом мире, где дважды два – пять, где явную нелепость показывают ему как явление, полное глубокого смысла. Странное чувство «необязательности привычного» охватывает его, чувство, весело развязывающее руки.
Таких эпизодов в спектакле очень много. Он, в сущности, весь состоит из них. II эта «невероятность очевидного», от которой зритель не требует ни малейшей последовательности, в конечном счёте играет очень важную роль. Она неопровержимо доказывает, что Д. Хармс, которого до сих пор считали детским поэтом, – острый, оригинальный писатель, занимающий в нашей литературе особоз место.
Дело даже не в отсутствии сходства с другими писателями, дело в том, что его стихи для детей (с которых начинается спектакль) – лишь одна, и не самая главная, сторона его литературной работы. Топко догадавшийся об этом Театр миниатюр украсил нашу драматургию.
В рецензии на спектакль принято отмечать недостатки. Я заметил только один: мне кажется, что не надо с помощью радио «готовить зрителя в антрактах к следующему акту».
Я ушёл из театра с чувством праздника. Единственную женскую роль с блеском исполняет Л. Полищук… Актеры, режиссёр М. Левитин, художник Б. Мессерер, балетмейстер Е. Абрамов и композитор Э. Мельников показали нам невероятно весёлый, своеобразный, острый спектакль. Он чем–то похож на дружеский розыгрыш. И действительно, как сказал Гоголь, «скучно на этом свете, господа!» – без доброго смеха, без юмора, без искусства, в котором обыкновенное неожиданно соединяется с необыкновенным.
1983
ВСЯ ЖИЗНЬ И ДЕТСТВОВ издательстве «Детская литература» вышла книга Татьяны Луговской «Я помню». Всё, что самый строгий читатель может потребовать от художественного произведения, – свежую мысль, имеющую общее значение, русский язык, радующий своей чистотою, занимательность, заставляющую нетерпеливо листать страницы, – все это читатель найдёт в этой книге. Издательство указывает, что книга опубликована для подростков. Я бы с этим не согласился. Книга издана для всех – в этом её значение.
В русской литературе много прекрасных книг, посвящённых детству: «Детские годы Багрова–внука» Аксакова, «Детство Никиты» А. и. Толстого и множество других. Но только одна из них – «Детство. Отрочество. Юность» Л. Толстого – отличается от других знаменательной чертой, определяющей глубину нравственного значения. Это история становления характера, тесно связанная с историей эпохи. Детские годы Т. Луговской совпали с годами революционными. Перелом в истории страны как бы проявил негатив, непрозрачную, туманную плёнку сознания всех, без исключения, действующих лиц. Мало сказать, что характеры удались, они показаны с рельефностью, вызывающей то драгоценное чувство узнавания, которое невольно (хотя подчас и бессознательно) ценит читатель. Удалась пьяница–нянька, рассказчица необыкновенных историй, представляющая в этой книге как бы живое воплощение фольклора. Удался брат, Володя Луговской, впоследствии известный поэт, с его загадочнами для маленькой девочки поступками, с его неожиданным бегством на гражданскую войну, с его оригинальным поэтическим видением, связанным с умением сопровождать рисунками работу будущего поэта. Удались школьные подруги и товарищи брата, изображённые с добродушной, но меткой иронией. Удалась мать с её любовью к музыке, придавшая всей книге неопределённую, но чем–то дорогую для читателя музыкальность.
Но все эти удачи ничего не стоят перед образом отца – Александра Федоровича Луговского, в начале книги преподавателя Первой московской мужской гимназии, а после революции руководителя одной из первых загородных сельскохозяйственных школ–колоний. Читая страницы, посвящённые организации этой колонии, невольно начинаешь думать, что они незаменимы для будущего историка культуры нашей страны.
Характер Александра Федоровича Луговского надо рассматривать отдельно от всех других, потому что это характер героический, направленный на достижение, может быть, незаметной, но великой цели. И самое трогательное заключается в том, что, создавая эту школу–коммуну, он был смертельно больным человеком. Нельзя без глубокого волнения читать те страницы, когда он с маленькой Тусей ездит с отчётом в Москву. «…И вот мы идём с отцом по тёмной, заваленной снегом Москве. Пять шагов – остановка. Раскладываю скамейку, папа садится, я перегибаюсь назад, и мой тяжёлый заплечный мешок упирается в землю. Папа отдыхает, я отдыхаю, и мешок отдыхает. Переведем дыхание – и дальше. Если ветер утихнет или начнёт дуть в спину, а по в лицо, мы с папой идём гораздо дольше без остановки. Тихонечко, но идём. Молча идём. Я знаю, что около Лубянской площади надо давать лекарство. Оно уже заготовлено и разведено в маленькой бутылочке. Примем лекарство и опять в путь…»
В краткой рецензии рассказать о фигуре отца невозможно. За необыкновенной простотой в жизни и работе чувствуются тонкость, доброта, честь, мужество. О них нет ни слова, но они не вызывают ни малейшего сомнения. Здесь мы касаемся одной из тайн художественной прозы.
Но какова же героиня этих воспоминаний? Психологи думают, что именно в детстве складываются те черты личности, которые, развиваясь, формируют сознание взрослого человека. Так вот эти черты названы в книге и говорят нам о многом. Восьмилетняя девочка задумывается о смерти. «Я вдруг поняла, что умру и меня не будет». Утаенное чувство, с которым не может справиться детская душа, преследует, страшит, отравляет жизнь. Но на похоронах подруги она не чувствует ни жалости к покойной, ни сочувствия, ни сострадания… Ее занимает совсем другое: «Я обратила внимание, что Люся Сироткина пришла за ручку с мамой и тётей и её белое платьице было подпоясано широкой чёрной муаровой лентой с большим бантом сзади. В саду было так хорошо и радостно, что если бы не Люсин чёрный кушак, я бы совсем успокоилась».
Беспощадность к самой себе – прямое доказательство достоверности всего, что рассказано в книге.
Но не только эти противоречивые, загадочные чувства терзают душу восьмилетней девочки, но и множество других, о которых можно открыто говорить с отцом или братом. Брата можно спросить: «Как в тебе заводятся стихи?»; или: «Как ты думаешь, меня возьмут замуж?» Отцу можно задать более серьёзные вопросы: «Чем трусость отличается от страха?»; или: «Надо ли всегда говорить правду?» На все эти вопросы она неизменно получает ясные, отчётливые ответы. Но как быть с вопросами, на которые ответить очень трудно или даже почти невозможно? Как быть, например, с пощёчиной, которую закатила ей добрая, терпеливая, любящая мать, когда она отказалась танцевать в венгерском костюме перед женой санаторного врача, которая сшила и подарила ей этот костюм? Оскорбление пробуждает все дурные черты, прежде глубоко таившиеся в детском сознании. «Именно с этого момента я начала выкраивать жизнь «по–своему». «По–своему» ухаживать за папой. «По–своему» закручивать в улитку свою чёлку; закалывая её английской булавкой на лбу. «По–своему» лезть в драку, да ещё со старшими». Впоследствии эти усилия «совершенствоваться в плохом» были оставлены. Но после пощёчины началась новая жизнь.
Т. Луговская не ставила перед собой педагогической задачи, но опытный педагог может многое почерпнуть в этих «психологических метаморфозах». Он задумался бы, например, над главой «Лежащая восьмёрка», которая, как с удивлением узнала десятилетняя девочка, служит обозначением бесконечности времени и пространства. «Бесконечность… Это слово, как на вожжах, потянуло за собой понимание, а вслед за пониманием – ужас. Он был совсем другой, чем ужас смерти, посетивший меня в раннем далёком детстве. Тогда был ужас конца – теперь был ужас перед отсутствием конца». Отрочество отравлено этой поверженной, лежащей восьмёркой. Она рисовала эту проклятую восьмёрку где попало, кружилась в ней, как белка в колесе, и, холодея, понимала, что она не имеет ни конца ни начала, что она замкнута, что она бесконечна. И это продолжалось долго. Всеми силами души надо было воспользоваться, чтобы не допускать своё сознание вплотную приближаться к понятию «бесконечность».
Я привёл этот пример, чтобы показать, как просыпались в этой юной душе первые признаки самопознания. Этих признаков много. Они, в сущности, составляют психологический фон этой книги.
Она кончается трагически. 3 мая 1925 года. Смерть отца. Гражданская панихида. Браг читает «Последнее напутствие» Блока. «Питал наизусть, с трудом вмещая свой рокочущий голос в полушёпот:
Боль проходит понемногу,
Не навек она дана.
Есть конец мятежным стонам.
Злую муку и тревогу
Побеждает тишина…»
И мать, исполняя последнюю волю отца, поёт два его любимых романса… «Раздавайте себя, расставайте себя, не жалейте себя и умирайте достойно», – пела наша сорокавосьмилетняя овдовевшая мама, обязывая всех нас жить, как прожил жизнь отец».
Я рассказал об этой книге короче, чем мог бы. Это книга о детстве, но в ней отразилась вся жизнь. Вся необычайная жизнь, тщетно пытавшаяся притвориться обыкновенной.
НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ
ЧУВСТВО ПУТИ{«Вопросы литературы», 1982, А И. Беседу вела О. Новикова.}– Сказано было однажды о важности чувства пути для художника. Вы начали шестьдесят лет назад с рассказа «Одиннадцатая аксиома», который понравился Горькому своей «озорной, затейливой – фантазией». А вот в журнале «Новый мир» недавно опубликована повесть «Верлиока», тоже фантастическая, тоже озорная и затейливая. Еще раз стало ясно, что сюжетная острота, гротескность, экспериментальность для Вас не дань молодости или моде, а важная грань литературной позиции, писательского пути. Но не менее закономерны были для Вас и любовь к психологической мотивировке, и поэтика документальной достоверности. Взаимопротиворечащие творческие тенденции у Вас, как можно заключить, не поглощают, а дополняют друг друга.
Каждый поворот творческой биографии непредсказуем, по писательский путь в целом – это система. Что определило Ваш путь?
– Если бы меня спросили, почему я, написав одну вещь, скажем, реалистический роман, берусь за другую, далёкую в жанровом отношении, – фантастический рассказ для детей или взрослых, – я ответил бы, что не обладаю знанием будущего и для меня самого подчас загадочны эти переходы. Но дни, несомненно, продиктованы тем внутренним чувством, которое можно назвать «чувством пути».
Возможно, что это чувство было издавна связано с инстинктивным желанием добра. Впоследствии, когда я перенёс немало серьёзных испытаний в моей литературной жизни, оно стало сознательным и целеустремлённым. Я, кажется, не мстителен, никогда никому не завидовал и рано привык ставить себя на место другого. Рассказать обо всём этом скрещении чувств можно, только охватив одним взглядом всю многолетнюю работу в целом. В моей жизни были переходы обдуманные, преследующие определённую цель. Так, после первого десятилетия работы, которое было отдано попыткам сказать нечто новое в русской литературе, я взялся за традиционный реалистический роман «Исполнение желаний». Конечно, переход этот, так же как и любой другой переход, подчас бессознательный, был продиктован соотнесённостью как со временем (в общем плане), так и с тем, что происходило в литературе. Нельзя писать, поставив перед собой лишь внешнюю задачу, хотя, может быть, для начинающего писателя это полезно. Пишешь не потому, что время заказывает тебе то или иное произведение, а потому, что тобою руководит внутреннее убеждение, что новая вещь будет шагом вперёд по отношению к старой.
Но и это далеко не исчерпывает «чувства пути». Это очень сложное чувство. Оно порождено не только заботой, иногда бессознательной, двигаться дальше, – оно бывает подсказано случайной встречей, литературным спором, фактом собственной биографии, событием в жизни друга, общественным или семейным событием.
Не думая о литературной последовательности своих произведений, я оставался самим собой.
Что помогало этому? Во–первых, моя ранняя самостоятельность в жизни, во–вторых, профессиональный интерес к людям, позволяющий мне сравнивать судьбы, оценивать их по–своему, отличать крупное, значительное от ничтожного, мелкого.
Стремление к намеченной цели воспитывает волю, и мне кажется, что нет другой профессии, в которой воля участвовала бы как решающий фактор. Не что иное, как воля, заставляет всматриваться в себя, находить в себе черты своих героев, бессчётное количество раз рисовать их в воображении и с равным вниманием слушать как свой внутренний голос, так и голос извне: судьбы, читателя, эпохи.
Вы правы, утверждая, что писательский путь в целом – это система. Но мне, как, может быть, многим писателям, трудно определить концепцию, которая лежит в основе этой системы. Вот для того, чтобы решить эту задачу, и нужна критика. Но не та критика, в которой писатель различает свой собственный пройденный этап, свои собственные представления об отношениях героев, о характерах, а та, в которой писатель находит нечто новое для себя, хотя бы рукопись была переписана восемь раз, как советовал Гоголь. Критика должна как бы раздвинуть, отбросить леса, ещё стоящие перед построенным домом, и войти в этот дом с собственным ключом, открывающим то, о чём автор подчас не имеет ни малейшего представления.
– Может быть, таким ключом к пониманию Вашего пути станет ответ на вопрос о соотношении мира литературы и мира реальной жизни в Вашей работе. Вы не скрываете, что шли от литературы, от научной поэтики, от экскурсов в многовековый опыт повествовательной прозы. В своей недавней статье об Антокольском Вы говорите о нелёгкой плодотворностиподобного пути. Нелегкой, наверное, потому, что писателя, идущего «от литературы», постоянно сопровождает ярлык книжности. А плодотворности потому, наверное, что энергия напряжённого эстетического поиска может вывести на совершенно новые жизненные пространства.
Вы начали с новеллистики: «Хроника города Лейпцига за 18… год», «Пятый странник», «Пурпурный палимпсест», «Столяры», «Бочка», «Ревизор», «Сегодня утром», «Голубое солнце», «Друг микадо»… Недавно Вам пришлось перечитать всё это, составляя первый том Собрания сочинений.
Какие же были впечатления? Что может сказать писатель старшего поколения о новеллах молодого, начинающего автора?
– Действительно, мой литературный путь был очень сложным во всех отношениях. Прежде всего скажу, что Вы правы: меня в молодости не просто упрекали в книжности, меня обвиняли и осуждали. И не могу сказать, что эти упрёки оказались напрасными и не повлияли на меня, когда в 30–е годы я отказался от уже сложившейся формы парадоксальной саркастической прозы и подошёл к прозе, в которой на первый план вышло реальное видение времени и мира.
Можно смело сказать, что это было в известной мере насилием над собой, и я много лет терзался вопросом: не напрасно ли я совершил это насилие? Более того, прошли десятилетия, пока я не понял, что есть пути, есть возможности соединения двух, на первый взгляд весьма далёких форм прозаического повествования. Вероятно, это происходило постепенно. Или, во всяком случае, не было озарением. Просто, научившись, как мне кажется, писать характеры и рассказывать о событиях обыденных, я стал понимать, что эта манера не противоречит ни парадоксальности, ни иронии, ни врождённой способности чувствовать себя свободно в фантастическом, придуманном мире. Пережитое и придуманное соединились, и на основе этого соединения, придавшего мне уверенность, я принялся за такие книги, как романы «Двойной портрет», «Перед зеркалом» и др. Однако я не могу сказать, что борьба с самим собой в этом отношении копчена. В настоящее время после сказочной повести «Верлиока» я пишу, сам не знаю, повесть или роман, опираясь на опыт военных лет { «Наука расставания», – «Октябрь», 1983, № 5. } .
Я часто возвращаюсь к своим произведениям, так, роман «Исполнение желаний» переделывался три раза, и расстояние между новыми редакциями равнялось иногда десятипятнадцати годам, все это потому, что мне не нравится многое из того, что я написал раньше. Но вот ранние рассказы и повести, написанные молодым человеком, я оставил без изменений. Первый том нового Собрания сочинений напечатан по текстам 20–х годов.
– Повесть «Конец хазы» можно, наверное, считать первым Вашим произведением, в котором «книжный» замысел нашёл жизненно достоверное воплощение. Задумав «комический уголовный роман», Вы написали в итоге трагическую повесть о человеке, одержимом одной рыцарской страствю – судьба Сергея Веселаго вышла на первый план. Как и почему это произошло?
– Горький в своих письмах ко мне советовал поставить мою фантастику не на глиняные ноги. Я стал искать в окружающей меня жизни реальные, но в чём–то подобные фантастическим – по остроте, парадоксальности – характеры и события. Горький угадал внутреннюю потребность моего развития как писателя, потребность в отталкивании от уже сложившегося способа писания. Я не знаю, был ли когда–нибудь оценен историками литературы феномен отталкивания художника от самого себя. Между тем он становится прозрачно ясным, папример, когда читаешь книгу «Болдинская осень», прокомментированную В. Порудоминским и И. Эйдельманом. О чём думал Пушкин, переходя от «Сказки о попе и о работнике его Балде» к «Станционному смотрителю»?
А почему судьба Сергея Веселаго вышла на первый план? Ответ на этот вопрос касается не только «Конца хазы». Книга пишет сама себя. Наступает мгновение, когда герои начинают жить самостоятельной жизнью. Идея рыцарства, всю жизнь близкая мне, была в самом воздухе этой повести. И немудрено, что она воплотилась в главно. м герое, характер которого я, как мне теперь кажется, не сумел написать.
– Ну, с последними словами нельзя согласиться. Сергей Веселаго, при всей пунктирности обрисовки его характера, вполне живой человек. Исследовательский, правдоискательский азарт Сани Григорьева из «Двух капитанов», как, впрочем, и его романтическая любовь к Кате Татариновой, думаю, восходят именно к герою «Конца хазы».
Но это уже перекличка на большом хронологическом расстоянии. А можно найти и более близкое соответствие – «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове». Искрылов тоже романтический герой. Его отношение к литературе и литературоведению всегда личное, пристрастное. Этим он резко противоположен кабинетным филологам и благополучным беллетристам. При этом невыдуманность Некрылова доказательств не требует: он написан, как известно, с натуры. Какова роль «Скандалиста» в Вашей судьбе?
– Почему был важен для меня «Скандалист»? Для меня главной трудностью была и осталась трудность написания характера. «Скандалист» был первым романом, в котором я попытался вместо выдуманных характеров, которые мне но удавались, поставить живых людей. Не скрою, что за некоторыми из них, например, за Шкловским, выведенным под именем Некрылова, я просто ходил с записной книжкой. Но не надо думать, что живое лицо легче написать, чем выдуманное. Вот почему нисатели испокон веков соединяют два–три живых лица, чтобы написать одно, подчас представляющееся читателю выдуманным. Мучительный и радостный труд писателя, который сопровождает меня, в сущности, всю жизнь, начался именно с романа «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове».
Я принялся за него, когда Шкловский сказал мне: «Если бы ты присутствовал при моей встрече с Хлебниковым, мы бы тебя просто не заметили». Я сказал: «Ах, вот как!
Значит, вы не заметили бы меня! Так я напишу о тебе роман». И дерзко сказал ему впервые «ты». Я был его учеником и называл его, конечно, на «вы». II я принялся за «Скандалиста», причём, надо Вам сказать, роман сперва но имел никакого отношения к Виктору Борисовичу и был очень далёк от литературной стороны дела. Роман был, я об этом рассказывал в статье «Как мы пишем», историей студента. Но после разговора и ссоры с Виктором Борисовичем, когда я стал писать о нём, в роман как бы ворвался живой человек, и книга сразу стала светиться, стала ясна для меня. А живой человек не может действовать в безвоздушной среде, поэтому вслед за ним я стал писать и о других. Почему я решился на эту дерзость? Потому что я был многим недоволен в литературе и мне казалось, что надо двигаться вперёд, а не повторять прошлое.
– Вы говорите о прозе тех лет?
– Я имел в виду, между прочим, Константина Александровича Федина, с которым мы были очень близки в то время. Но мне не нравилось, что он, так сказать, идёт по следам нашей классической литературы, не пытаясь, как мне казалось, внести что–то новое, по самому существу отличное от того, что было. Он, правда, занимает в моём романе очень незначительное место (его черты есть в одном из героев), но все–таки я попытался упрекнуть его, чего он со свойственным ему хладнокровием как бы не заметил. Наши отношения не изменились. Он только сделал замечание по поводу первой, совершенно неудачной фразы, и я действительно изменил эту фразу по его совету.
– Помог ли Вам «Скандалист» обрести уверенность в себе как в прозаике?
– Да, но в некоторых отношениях результаты меня разочаровали. Я чувствую, что некоторые фигуры удались и живут, может быть, до сих пор, а некоторые не удались, причём не удался как раз главный герой, студент Ногин, в котором я попытался изобразить самого себя: я занимался как раз в Институте восточных языков.
– Самое известное Ваше произведение – «Два капитана».
Роман был построен на остросовременном материале, но его сюжетная поэтика сориентирована и на авантюрный роман, и на роман воспитания, и на детективный роман, и на идиллически–сентиментальный роман (если иметь в виду отношения Сани Григорьева и Кати Татариновой). Гротескны характеры Николая Антоновича и Ромашова. Критерии бытового психологизма для прочтения романа явно недостаточны. Этой многоязычной «исторической поэтикой» определяется и содержательный потенциал романа…








