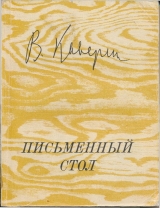
Текст книги "Письменный стол"
Автор книги: Вениамин Каверин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
В. Каверин
ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ: ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Откуда взялись у нас, уже не первый год работающих в литературе и ясно чувствующих грозное приближение войны– это было весной 1941 года, – откуда взялись эти подшучивания друг над другом, розыгрыши, весёлые поездки в Крымские горы, дегустация старых вин в подвалах Массандры, игры и танцы по вечерам в прелестном многооконном, увитом виноградом Доме творчества? Мы – это Паустовский, Твардовский, Габрилович, Роскин (автор «Антоши Чехонте»), Евгений Петров, Гайдар, Симонов. Дни, которые запомнились на всю жизнь не только потому, что превратились и превращались по временам в беспричинный праздник, по ещё и потому, что они никогда больше не повторились и не могли повториться.
Однажды мы отправились в подвалы Массандры на дегустацию вин. Нас встретил высокий сухощавый старик в ермолке, по слухам, лучший дегустатор на всём Крымском побережье. В нашу честь была открыта бутылка двухсотлетнего хереса, который оказался никуда не годным. Мы выслушали длинную интересную лекцию, в течение которой главный дегустатор, отпив глоток вина, долго катал его во рту, приглашая нас почувствовать его топкость и, как он выразился, «круглость». В подвалах было холодно, все замёрзли, хотя двадцать шесть сортов были испробованы и старательно оценены нами. В конце лекции главный дегустатор спросил, есть ли вопросы, и жена одного из писателей, на которую, очевидно, эти вина произвели сильное впечатление, сказала заплетающимся голосом:
– Можно ещё рюмочку?
Мы торопливо перевели вопрос на научные рельсы, и неловкость была заглаяюна.
По вечерам играли в телефон, танцевали, и Габрилович барабанил на рояле, а Роскин кричал моей жене:
– Тынянова–Уланова вторая!
Мы с женой были единственные ленинградцы и, по–видимому, чем–то отличались от наших друзей, потому что однажды поздним вечером, воспользовавшись балконом соседней комнаты, Евгений Петров, Роскин и Симонов проникли к нам и, встав на колени, в один голос сказали:
– Группа московских писателей просит вас научить, как жить.
Кому–то пришло в голову, что совершенно необходимо задушить маленькую, почему–то внушавшую отвращение, собачку почтенного Тренева (его супруга иногда появлялась с этой собачкой на руках).
Многое запомнилось, но одна поездка не просто запомнилась, а врезалась в память. Мы всей компанией отправились на Орлиный залёт, может быть, один из самых высоких уступов в Крымских горах, на котором, по слухам, были орлиные гнездовья. Но происхождение этого поэтического названия оказалось, как я впоследствии узнал, совсем другим: форма чёрных кряжей и скал Орлиного залёта напоминает широко распростёртые в воздухе крылья. Это сходство поддерживается плавным чередованием леса, луговин и обнажённых, розоватых и белых, скал. Рядом высится известковая, светлосерая гора Сюрюк–Кая. Отделившись от массива глубокой седловиной, напоминающая гигантскую сахарную голову, она сползает в голубую Кокозскую долину. Заставить себя взглянуть с обрывистого края пятисотметровой пропасти на окрестные дали может только очень мужественный человек. И кажется, только Симонову, который был моложе нас всех, удалось совершить этот подвиг. Добрались мы до Орлиного залёта не без труда, и вскоре весёлый пикник как–то превратился в серьёзный разговор о нашей литературе. Высота ли, красота ли этого необыкновенного места, удивительный ли вид на море подействовали, но кто–то, кажется Роскин (погибший в московском ополчении в начале войны), первый заговорил об «орлиных залетах» в литературе. Это были, по его мнению, те произведения, которые достигали той неожиданной для самого автора высоты, о которой и не подозревал читатель. Собственная оценка была независима от любого чужого мнения. Я впервые услышал от него, что любимым рассказом Чехова был «Студент», что самой лучшей из своих пьес Островский считал, на мой взгляд, далеко не совершенную «Последнюю любовь». Свифт, умирая, просил почитать ему не «Гулливера», а «Сказку о бочке». И, слушая её в последний раз, восклицал с восхищением; «Как писал!» Роскину возразили, спор затянулся, но метафора запомнилась на всю жизнь, и вот теперь я вспомнил о ней, мучаясь в поисках заглавия этой книги. Я хотел назвать её «Орлиный залёт», но потом мне удалось назвать её иначе. Я говорю «удалось», потому что книга сопротивляется неудачному заглавию. Борьба с автором начинается, когда написана последняя строка. Именно в эту минуту книга становится как бы живым существом, со своей судьбой, подчас необычайной. Она понимает, зачем она написана, она стремится к скромности и простоте, но остаться в тени, безвестности она все–таки не хочет.
Название ничего не должно обещать, ведь читатель может подумать, что автор выполнил меньше, чем он обещал. Мой учитель академик В. и. Перетц говорил, что выдумать новый сюжет невозможно. Все мотивы, составляющие все сюжеты, уже исчерпаны в мировой литературе. Не думаю, что он был прав, но, может быть, размышляя о том, как назвать эту книгу, я оказался в кругу давно использованных названий. Что делать? Без конца перелистывая страницы рукописи, я понял в конце концов свою простую задачу: рассказать, как пишутся книги. Рассказать о том, что сопровождает работу, окружает её, создаёт атмосферу взаимопонимания и взаимозависимости от друзей, советы которых помогают писать книгу и незаметно преодолевать трудности. Я понял, что это – незримая атмосфера внимания, возникающего при чтении читательского письма, высоко или не очень высоко оценивающего роман или повесть, это поддерживающий интерес, который утраивает силы, это ощущение, что твои книги занимают своё место в жизни многих и подчас помогают принять важное решение, – так после убедительного читательского письма я понял, что нужно написать второй том романа «Два капитана». В первой редакции роман кончался кратким эпилогом.
Короче говоря, содержание моей книги – это то, что происходит рядом с основной работой. Многое пишется наскоро, иногда даже начисто, со смутным сожалением о неоконченном, брошенном в середине. Читатель найдёт здесь письма друзей, которые бережно хранятся всю жизнь. Письма читателей, конечно, только те, что связаны с моей работой. Размышления, которые приходят в голову на прогулках и которые повторяешь мысленно много раз, чтобы не забыть. Интервью, когда с неожиданной для себя лёгкостью отвечаешь на неожиданные или давно знакомые вопросы. Внезапный звонок и. з редакции с просьбой написать о Пастернаке, Шкловском, Шукшине: «Хоть несколько строк». Вдруг вспыхнувшая в часы бессонницы мысль, удачная догадка, которую коряво записываешь на первом попавшемся листе бумаги. Отмеченная памятью фраза, где–то записанная, необходимость перебрать свои и чужие рукописи’ лежащие на столе, чтобы убедиться, что все записанное бледно или уже сказано другими.
Далеко не все укладывается в ежедневную узкую, знакомую только близким, внутреннюю жизнь писателя, так сказать, его микромир. Но именно в образе этого микромира отчётливо отпечатывается время. Может быть, если бы я не был в молодости историком литературы, мне не пришла бы в голову мысль записать бегущее по следам, похожее на тень отражение жизни. Но я был знаком с людьми, значение которых неоспоримо в истории русской культуры. Мои заметки о них, переписка между нами, случайные или условленные встречи, в сущности, принадлежат не мне и не нм. Может быть, я ошибаюсь, но они принадлежат истории русской культуры, которая вольно или невольно создаётся этими людьми. И не только знакомые писатели, артисты, художники – это подчас незаметные люди. Незаметные, но косвенно связанные с моими книгами многочисленными наблюдениями, неуверенными советами, как писать, а подчас – как жить.
Определить жанр этого сочинения трудно. Но вот один пример. и. Эйдельман и В. Порудоминскпй издали «Болдинскую осень» – книгу, в которой письма к друзьям и к невесте перемежаются «Маленькими трагедиями», критические статьи – главами из «Евгения Онегина», поэмы – сказками, стихи – замечаниями на собственные произведения. Я уже не говорю о том, в какой таинственной связи находятся одно произведение с другим, написанным вслед за другим, по бесконечно далёкое от него во всех отношениях. «Моцарт и Сальери» написан 26 октября, «История села Горюхина» – 1 ноября, а 2–4 ноября уже закончен «Каменный гость». Воображение автора шагает через пропасти, хронология приобретает почти мистический, самой судьбой предопределённый характер. Но меня «Болдинская осень» поразила и другим – составители и комментаторы книги как бы сдёрнули завесу, и за ней открылось обыденное, ежедневные заботы художника, в которых опытный взгляд историка находит отражение обыденной жизни. Вот эта обыденная жизнь, мало отличающаяся от жизни любого представителя «интеллигентного» труда, составляет содержание этой книги.
Стрелки часов, бесшумно (или почти бесшумно) обегающие циферблат, в равной мере отсчитывают полет времени и для тех, кто пишет книги, и для тех, кто строит дома и пролагает дороги. На трассе полёта они встречаются, обмениваясь, как это делают пилоты, покачиванием крыльев. Эти встречи, случайные и неслучайные, перемежающиеся с интервью, письмами и моими комментариями к ним, относятся к разному времени, но преимущественно к семидесятым – восьмидесятым годам.
Я не назвал эту книгу «Орлиный залёт» – пожалуй, читатель решил бы, что я считаю её лучшей из своих книг. Это не так. Она мне кажется перекрёстком, на котором соединились мои размышления о литературе с размышлениями моих старых и новых друзей.
Можно было бы привести и другие соображения, объясняющие, почему я назвал эту книгу «Письменный стол». Разумеется, я знал» что Марина Цветаева в блистательно точных, скупых строках заставила нас с волнением вглядеться в то, о чём я пытался рассказать в своём затянувшемся предисловии.
Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что, ствол
Отдав мне, чтоб стать столом,
Остался живым стволом!
С листвы молодой игрой
Над бровью, с живой корой,
С слезами живойсмолы,
С корнями до дна земли!
СЛУЧАЙНЫЕ И НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ
ТИПЫ ОТНОШЕНИЙТрудно представить себе, что человек, любящий и знающий русскую литературу, увидев в поле красный татарник, не вспомнит толстовского «Хаджи–Мурата». Такова сила совершенного произведения искусства. Оно сопровождает нас всю жизнь. Оно, не спросясь, вмешивается в наши дела и делает нас благороднее, веселее, честнее. В фильме «Мир Улановой» участники войны вспоминают о том, что в тяжёлых боях Уланова не оставляла их. Она вдохновляла их в те минуты, когда «до смерти четыре шага». Создатели фильма сделали очень многое: рассказана биография Улановой, показана она в лучших ролях. Но, как ни странпо, мне кажется, что между всем, что нам показали, и самой Улановой – пропасть. О ней рассказать так же трудно, как о Девятой симфонии Бетховена. Слезы приходят раньше разумного, трезвого толкования. Сила великой артистки как раз и состоит в том, что она каждый раз напоминает нам своё, тайное, невысказанное. В чём эта тайна? Кто знает… Это – тайна, бережно хранимая Улановой и отданная нам из рук в руки. Иные пз её друзей упоминали о её сдержанности, немногословности.
У меня была единственная пятиминутная встреча с Галиной Сергеевной Улановой. Однако она запомнилась. И, очевидно, не случайно. Это было в Перми в годы войны, когда я приехал навестить семью, – после ленинградской блокады я служил на Северном флоте. Конечно, я не упустил возможности побывать в Кировском театре, который был эвакуирован в Пермь из Ленинграда.
Шло «Лебединое», танцевала Уланова. После спектакля она зашла в ложу, где были общие знакомые, немедленно представившие меня Галине Сергеевне. Не знаю, что случилось со мной, но я заговорил с ней в каком–то несвойственном мне высокопарном тоне. Она внимательно выслушала меня, и с неба я, как камень, полетел на землю.
– Вам понравились мои косточки? – спросила она любезно…
Школьница тринадцати лет стремглав врывается к подруге и рыдает, не в силах справиться с собой. Наконец ей удаётся выговорить: «Князь Андрей умер…» Она читает «Войну и мир», и книга навсегда входит в её жизнь, искусство становится частью её биографии. Так вмешался в нашу жизнь Рихтер в музыке, Марке – в живописи. Я недаром вспомнил о них – они достигли той простоты, которая далась Галине Сергеевне. Об этой простоте писал Пастернак, пытаясь объяснить её тайну. Я чувствую её так же отчётливо, как если бы я сам хранил её, не догадываясь о её значении. Все это нашло неожиданный для меня отклик в письме М. Зощенко к М. Шагинян.
«Мариэтта, исполняю Вашу просьбу – пишу Вам о Шостаковиче. Ваше впечатление о нём – правильное. Но не совсем. Вам казалось, что он – «хрупкий, ломкий, уходящий в себя, бесконечно непосредственный и чистый ребёнок».
Это так. Но если б это было только так, то огромного искусства (как у него) не получилось бы. Он именно то, что Вы говорите, плюс к тому – жёсткий, едкий, чрезвычайно умный, пожалуй, сильный, деспотичный и не совсем добрый (хотя от ума добрый).
Вот в каком сочетании надо его увидеть. И тогда в какой–то мере можно понять его искусство.
В нём – огромные противоречия. В нём одно зачёркивает другое. Это – конфликт в высшей степени. Это – почти катастрофа <…>.
Я очень люблю Дм. Дм. Он Вам правильно сказал, что я хорошо к нему отношусь. Я знаю его давно, лет, вероятно, 15–16. Но дружбы у нас не получилось. Впрочем, я не искал этой дружбы, потому что видел, что этого не могло быть. Всякий раз, когда мы оставались вдвоём, нам было нелегко. Наши «токи» не соединялись. Они производили взрыв. Мы оба чрезвычайно нервничали (внутренне, конечно). И хотя мы встречались часто, но нам ни разу не удалось по–настоящему и тепло поговорить.
Мне было с ним так же трудно, как с Улановой.
Мое солнце не светило для них.
Не приближение, а «отталкивание» происходило. И это было удивительно и для меня и для них <…>.
О моей литературе Дм. Дм. много раз заговаривал. И всегда очень верно, даже безукоризненно верно. Его мнение мне всегда было дороже, чем мнение профессионального критика. Впрочем, Д. Д. очень любит юмор, и по этой причине к моим работам он относится пристрастно <…>» [1]1
Из письма М. М. Зощенко от 4.1.41. – См.: Шагинян Мариэтта. 50 писем Д. Д. Шостаковича. – «Новый мир», 1982, № 12. (Здесь и далее примечания автора.)
[Закрыть].
Это не значит, что между Шостаковичем и Улановой было хотя бы малейшее сходство, но «токи» Зощенко в обоих случаях были сходными. И сопоставление этих трёх великих людей по своей остроте представляет собой ещё никем не разгаданную теорему. Если искусство Шостаковича – катастрофа, конфликт самоотрицания, то в Улановой чувствуется железная воля, которая властно отменяет все попытки нарушить гармонию её искусства. Не знаю, стремился ли Шостакович нознать себя, как это всю жизнь делал Зощенко, и удалось ли ему это. Между тем самопознание было как бы самой природой заложено в Улановой, недаром она, быть может, первая в мире доказала, что в танце главное – голова, а по–том уже ноги. Она легко добралась до простоты, которую так долго искал Пастернак. Той характерной простоты для прозы Зощенко, которая с разительной ясностью противоречила его доброй, смелой, щедрой, топкой, раздираемой необъяснимой мукой душе. Мукой, от которой он годами пытался избавиться и причину которой он тщетно искал.
Задумывались ли вы когда–нибудь о «типах отношений»? Иные возникают через 15–20 лет после того, как уже прожита жизнь, в которую вместилась суровая судьба, мгновенно отменившая будущее и устроившая его совсем не так, как думалось, мечталось… Эти отношения, как ни странно, самые прочные, самые искренние, не требующие жертв и готовые на жертвы.
Бывают совсем другие связи, возникающие случайно, мгновенно вспыхивающие и гаснущие, когда исчезают обстоятельства, которые были для них опорой, основой. В 1929 году меня призвали на военную переподготовку, я оказался в одном взводе с добродушным и, на первый взгляд, бесцветным человеком, в которого мне, бог знает почему, захотелось всмотреться. Может быть, между нами как раз возникли те психологические токи, о которых М. Зощенко писал М. Шагинян.
Начала рота со строевых упражнений, не обращая внимания на чины и звания, потом перешла на стрельбу. И мы с моим новым другом оказались рядом – стреляли лёжа. Забыл упомянуть, что он чем–то был похож на Платона Каратаева, может быть, своей круглостью, законченностью, характерными для всего, что он делал. Но ещё больше – сознательным «непротивлением», покорностью судьбе, с которой, по его мнению, бороться было бесполезно.
Стреляли из боевых винтовок по мишеням, стоявшим в пятистах метрах, и я, бестолковый стрелок, всадил первых три пули в мишень моего соседа.
«Так, – спокойно сказал он. – Ты, брат, стрелял, стараясь попасть в мой «пятачок». И довольно удачно. Твой рядом. Но пе беда. Долг платежом красен», – и он вернул долг, послав три пули в мою мишень.
Жалею, что забыл его фамилию, но помню наши сердечные, откровенные разговоры. Мы быстро подружились. Он служил дворпиком в одном из домов на проспекте Красных Зорь – так затейливо в те годы назывался бывший Каменноостровский (ныне – Кировский проспект). Казалось бы, что общего между дворником с четырёхклассным образованием и литератором, уже выпустившим несколько книг, защитившим диссертацию и кончившим два факультета? Но общее было. И моя жена от души удивилась, когда, встретившись случайно на улице Льва Толстого, мы бросились друг к другу и обнялись как близкие друзья. Больше я его никогда не видел, и мелькнувшие, но на всю жизнь запомнившиеся отношения погасли.
Подобная же случайность подарила мне дружбу с Ниной Ерошенко. Это произошло в Коктебеле в конце 50–х годов. Я поехал отдыхать, измученный работой над бесконечными переделками трилогии «Открытая книга», и устроился, сняв комнату, потому что мне не хотелось встречаться с собратьями по профессии. Через два–три дня пошёл на берег, чтобы провести несколько часов на прекрасном песчаном пляже.
Было рано, часов шесть утра, на пляже никого не было, кроме какой–то девушки, которая усердно занималась строительством средневекового замка из мокрого песка. Я подошёл поближе, поздоровался и сказал несколько слов о её искусной работе. Действительно, замок был великолепен – украшенный рвом под стенами (в которых были бойницы) и несколькими зелёными ветками, изображавшими сад.
Мы разговорились. Оказалось, что Нина отстала от геологической партии спелеологов, исследовавшей пещеры хребта Яйлы, прихворнула и осталась на несколько дней в Коктебеле. Теперь предстояло догнать партию, ушедшую от Яйлы куда–то далеко на восток. Ей было 19 лет, хотя нельзя было сказать, что она хороша собой, в простоте её лица, движений, речи было что–то необычайно привлекательное. С ней не хотелось расставаться. Мы уговорились встретиться на следующий день, последний её день в Коктебеле перед тем, как покинуть его и присоединиться к партии, и весь этот день мы провели не расставаясь.
В сравнении с ней я был пожилым человеком (мне было тогда лет 55), и у меня было чем развлечь и занять мою спутницу, которой я сразу сказал, что пищу книги. Но моя профессия её почти не заинтересовала. Какой–то вопрос, сомнение, беспокойство всё время тревожили её, и я видел, что она чем–то расстроена, но неловко было расспрашивать об этом полузнакомого человека. Впрочем, нельзя было сказать, что к концу этого дня мы были полузнакомы. Симпатии так же, как антипатии, вспыхивают вдруг, и к концу дня первая стала такой сильной, такой очевидной, что казалось, что мы давно знакомы. Пожалуй, можно сказать, что я почувствовал себя помолодевшим на 15 лет, и она стала весёлой и сдержанно кокетливой. Вопреки своему беспокойству, казалось, успела за этот короткий день привязаться ко мне. В конце концов беспокойство разъяснилось – она потеряла компас, а без компаса найти свою группу было трудно, если не невозможно. Я спросил, знает ли она, как определять стороны света по часовой стрелке, а потом снял и отдал ей свои ручные часы, она приняла их просто – как от друга или близкого человека. На другое утро, тоже очень рано, часов в шесть или пять, мы простились. Я проводил ее…
Мне казалось, что я больше никогда её не увижу. Однако прошло лет пять или шесть, и однажды раздался телефонный звонок, и по голосу я сразу же узнал Нину.
– Вы думаете, я забыла о нашей встрече? Нет. Из каждой экспедиции я привозила Вам какой–нибудь красивый камень или кусок породы с вкраплёнными в него кристаллами (гранатами, бериллами и другими). Мояшо мне приехать и подарить их вам?
Конечно, на другой же день мы встретились как друзья, соскучившиеся друг по другу, и дружны вот уже двадцать лет. Коллекция полудрагоценных и драгоценных камней, дополненная другим моим другом, кристаллографом Спартаком Ахметовым, в моём кабинете нашла своё место.
1983








