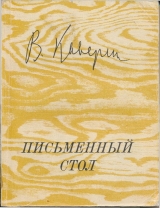
Текст книги "Письменный стол"
Автор книги: Вениамин Каверин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
1983
Целую Юр.
Е. Д. ПОЛИВАНОВЗвонок.
– Кто там?
– Извините за выражение: Поливанов.
Так странно шутил только один из друзей Ю. и. Тынянова, у которого я жил на Греческом проспекте в студенческие годы. Дверь открывалась, и в кухню – все «парадные» в ту пору были закрыты – входил высокий человек лет тридцати, немного прихрамывающий, худощавый, без левой руки, в солдатской шинели. Его встречали – мало сказать, с радостью – с захватывающим интересом. И то и другое было вполне обоснованно. Интерес, однако, приходилось сдерживать, потому что он касался не только удивительной личности Евгения Дмитриевича, но и не менее удивительной его биографии.
Он держался просто. Но это была совсем не та простота, которая позволила бы задать ему не относящиеся к предмету разговора вопросы. Расспрашивать его было как бы не принято, а по существу – невозможно.
Вот как началось наше знакомство: готовясь к экзамену по «Введению в языкознание», я услышал через полуоткрытую дверь чей–то красивый низкий голос, который рассказывал Тынянову о том, что в Ленинграде на Церковной улице открывается Институт живых восточных языков, в котором будут учиться будущие дипломаты. Я был тогда студентом первого курса этиолого–лнпгвистического отделения ФОНа – Факультета общественных наук Ленинградского университета. Это не помешало мне постучаться в дверь кабинета Юрия Николаевича, познакомиться с его гостем – это и был Поливанов – и сказать ему, что мне очень хотелось бы поступить в Восточный институт. Это неожиданное решение крайне удивило Юрия Николаевича. Но Поливанов отнёсся к нему очень спокойно.
– На какой разряд? – спросил он.
Факультеты в Восточном институте назывались разрядами.
– Разумеется, на японский, – брякнул я, только потому, что Поливанов был японистом. С равной лёгкостью я мог назвать любой другой разряд – китайский или иранский. Не выбор языка, а возможность выбора необыкновенной профессии – дипломат! – вот что поразило меня. Подумать только – провести всю жизнь за письменным столом, дыша архивной пылью, перелистывая книги, или энергично действовать на мировой арене, показывая хитрость, прозорливость и, главное, тонкое уменье думать одно, а говорить другое!
Должен сказать, что за всю мою жизнь я не встречал человека более непригодного для этой профессии, чем я. К сожалению, я окончательно убедился в этом лишь через много лет после окончания Восточного института. Все свойства моего ума и характера решительно противоречили призванию дипломата. С равным основанием я мог бы рассчитывать на блистательную карьеру в классическом балете.
Но Поливанов, как я впоследствии узнал, как раз был причастен к той вежливой, мирной и всемирной войне, которая называется дипломатией. Работая в первые послеоктябрьские дни в Народном Комиссариате иностранных дел, он принял участие в опубликовании тайных договоров царского правительства. Это было, как известно, актом мирового значения. Знаток наркомании, он был председателем «тройки» по борьбе с наркотиками в Ленинграде. Меня он интересовал глубоко, да и не только меня. У Юрия Николаевича становилось серьёзное, сосредоточенное лицо, едва Поливанов открывал рот.
Он мог шутя, между прочим, в шутливом разговоре сказать одну фразу, которую умелый и добросовестный учёный мог бы развить и представить в виде докторской диссертации. За примером ходить недалеко. Однажды мы случайно встретились с ним – оба шли в университет. II пока мы пересекали Неву (это было зимой), он изложил мне содержание моей будущей воображаемой работы о фонемах только потому, что я упомянул, что иду на лекцию академика Карского по русскому языку.
Но вернёмся на Греческий, 15. Случалось, что Поливанов после наших скромных ужинов просил Юрия Николаевича разрешить ему остаться, чтобы поработать в его кабинете. Когда холодно, работается лучше, говорил он. Однажды, рассказывая о притонах курильщиков опиума, он предложил Юрию Николаевичу заглянуть в один из них. Не помню, днём или вечером это было, но отсутствовали они довольно долго, и, вернувшись, Юрий Николаевич живо и выразительно нарисовал весьма неприглядную картину притона. Он вернулся оживлённый, весёлый и сказал, что, хотя он выкурил три трубки, опиум не оказал на него ни малейшего действия.
– Надо втянуться, – серьёзно и поучительно сказал Поливанов.
Эти курильни, очевидно, входили в круг наблюдений, необходимых Евгению Дмитриевичу, потому что в течение двух лет – 1918–1920 – он энергично занимался политической работой среди петроградских китайцев. Один из организаторов «Союза китайских рабочих», он был редактором первой китайской коммунистической газеты. Установлена его тесная связь с китайскими добровольцами, сражавшимися на фронтах гражданской войны{См.: Новогрудский Г. По следам Пау. М., 1962, с. 75–77.}. Кстати сказать, эта сторона его деятельности неожиданно коснулась и меня. Университетская стипендия была ничтожно мала, институтская – немногим от неё отличалась, и Поливанов предложил мне преподавать пятерым китайцам русский язык. Это была сложная задача: я не знал китайского, а мои ученики не знали русского. Кажется, в наше время именно этот способ изучения иностранных языков представляется наиболее надёжным. Мне тогда этого не казалось.
Мои ученики не понимали, например, падежных окончаний. Об именительном падеже они говорили, что это вообще не падеж, а когда в качестве примера я привёл им фамилию «Поливанов», они в один голос сказали, что поскольку она кончается на «ов», это не именительный падеж, а родительный множественного.
В начале 1921 года Поливанов переехал в Москву, потом в Ташкент, и с тех пор история его жизни стала напоминать «Неоконченную симфонию» Шуберта с её мерным чередованием торжественности и тревоги.
Одно только сухое перечисление того, что он успел сделать за десятилетие 1921–1931, заняло бы не две и не три страницы. Упомяну лишь избранные работы. Он написал серию букварей для киргизских школ, учебник узбекского языка для русских, первую часть истории мировой литературы для перевода на киргизский язык. Его учебно–методические труды легли в основу преподавания русского языка в национальной школе. Занятия методикой требовали глубокого знания языков Средней Азии, и он (что кажется почти непостижимым), приехав осенью 1921 года в Ташкент, печатает в первом, январском номере журнала «Наука и просвещение» работу «Звуковой состав ташкентского диалекта», а в дальнейшем начинает гигантскую работу по изучению говоров узбекского языка… Им одним описано говоров больше, чем едва ли не всеми другими лингвистами Узбекистана 20–х годов.
Однажды, готовя очередной урок по арабскому языку, я остановился перед строками, которые не удавалось перевести, несмотря на все мои усилия. За обедом я пожаловался на неудачу, и Евгений Дмитриевич, который сидел за столом в нашей «Тынкоммуне», сказал добродушно:
– А ну–ка попробуем.
Текст был переведён в пять минут.
– Вы знаете ещё и арабский?
– Немного.
Он знал 16 языков: французский, немецкий, английский, латинский, греческий, испанский, сербский, польский, китайский, киргизский, таджикский и др. Этот список (с его слов) преуменьшен, по мнению исследователей его жизни я творчества. Совершенно точно известно, что оп владел (по меньшей мере, лингвистически) абхазским, азербайджанским, албанским, ассирийским, арабским, грузинским, дунганским, калмыцким, каракалпакским, корейским, мордовским (эрзя), тагильским, тибетским, турецким, уйгурским, чеченским, чувашским, эстонским. В изучении последнего ему помогла, может быть, его жена Бригитта Альфредовна. Я знал её и бывал у них, ещё когда они жили в 1920 году в маленькой комнате студенческого общежития. Все в этой комнате говорило, кстати сказать, о скромности и непритязательности Евгения Дмитриевича, которьш был тогда профессором Петроградского университета.
Конечно, знание многочисленных языков пе лежало, подобно мёртвому инвентарю, в творческом сознании Поливанова. Говорят, арабы относятся к своему языку как явлению поэзии. Убежден в том, что эта черта была в высокой степени свойственна Поливанову. Поэзия и наука в их вещественно–ощутимом значении перекрещивались в его необычайном даровании.
Итак, двадцатые годы в жизни Евгения Дмитриевича (в особенности четыре последних, проведённые в Москве) были отличены безусловным признанием. Но вот начались тридцатые, и действительный член Института языка и мышления, профессор Института востоковедения, действительный член Института народов Востока, председатель лингвистической секции Российской ассоциации научно–исследовательских институтов общественных наук и т. д. был уволен со всех своих должностей, которые отнюдь не были для него номинальными. Уволен и, воспользовавшись приглашением узбекского Наркомпроса, уехал в Самарканд. Что же произошло?
Я не пишу здесь биографию Е. Д. Поливанова. Ее каждый по–своему рассказали участники межвузовской конференции «Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова», состоявшейся в Самарканде в 1964 году{Труды конференции «Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова», т. 1, изданы в 1964 году.}. При всей сложности обсуждавшихся специальных вопросов, эта конференция была неоспоримым свидетельством восстановления справедливости и, следовательно, явлением нравственного порядка.
В самом деле: представьте себе учёного, оставившего глубокий след в мировом языкознании, рукописи которого по отдельным листкам собираются в различных городах Советского Союза.
Представьте себе конференцию лингвистов, в которой приняли участие одиннадцать университетов, ряд научно–исследовательских институтов, более двадцати педагогических институтов и которая прошла без портрета того, кому она была посвящена, потому что, несмотря на все усилия, портрета достать не удалось.
Представьте себе учёного, написавшего грамматику японского, китайского, бухаро–еврейского, дунганского, мордовского, туркменского, казахского, таджикского языков (четыре последних ещё не найдены), учёного, о котором спорят, ещё недавно спорили: родился ли он в 1891 или в 1892 году, в Петербурге или Смоленске.
Представьте себе человека, оставившего, несмотря на необычайно сложную, трагическую жизнь, более ста научных работ, в том числе 17 книг, – человека, имя которого замалчивалось в течение трёх десятилетий.
Странного противоречия между научным значением и непризнанием пе было бы, если бы Е. Д. Поливанов признал правоту последователей академика и. Я. Марра, проповедовавших так называемое «новое учение о языке» и отрицавших индоевропейское языкознание. В 1931 году Поливанов выпустил сборник «За марксистское языкознание», в котором пе оставлял от нового «учения» камня на камне.
Еще 14 февраля 1929 года, когда он открыто выступил против марристов, его труды были объявлены «истошным воем эпигона субъективно–идеалистической школы», а он сам – «разоблачённым в своё время черносотенным лингвистом–идеалистом». Ответ Поливанова (разумеется, оставшийся ненапечатанным) полон достоинства. Оп писал: «В пересмотре, которому подлежит все наследуемое советской наукой, нет места авторитарному мышлению».
Тогда–то и был сделан оправдавшийся в полной мере прогноз. Евгений Дмитриевич предсказал, что яфетический культ «будет постепенно уходить в тень, отступать на задний план, наподобие бога–отца в христианской мифологии» (рукопись).
Розыски А. А. Леонтьева, содержательный доклад которого был заслушай на конференции, показали все значение научного подвига Поливанова, не отступившего от своих убеждений ни на йоту в этой неравной, беспощадной борьбе.
До сих пор не найден том «Введения в языкознание для востоковедных вузов», – крупнейшие лингвисты считают это большой потерей для нашей науки.
Ему надо было немногое, точнее сказать – ему ничего не было надо. Он никогда не стремился к благополучию и славе.
Но как же работал, как жил в пустыне осторожности, клеветы, подозрительности этот человек? Теперь мы знаем, как он жил и работал.
Его друг старый узбек Махмуд Хаджи Мурадов рассказал на конференции, как Поливанов приехал к нему едва ли не босиком, в рваной одежде и остался на несколько недель в кишлаке, изучая особенности местного диалекта, составляя словарь, которого ещё не было в мире. Он работал неустанно, упорно, а отдыхая, поправлял ошибки в религиозных книгах на арабском языке, которыми пользовались муллы. Когда кто–то спросил Хаджи Мурадова, как говорил по–узбекски Евгений Дмитриевич, последовал ответ: «Лучше, чем я».
Вот так Поливанов и жил в кишлаках, пригородах, где придётся. В сущности, с ним ничего нельзя было сделать. Ведь куда бы он пи попадал, везде были люди, и он мгновенно усваивал их язык, исследуя его для развития своих теорий.
Да, на конференции, собравшейся в Самарканде, я узнал многое, заново осветившее фигуру Е. Д. Поливанова. Время непризнания, замалчивания прошло. Его биография изучается, труды печатаются. Лингвистика за последние десятилетия гигантски шагнула вперёд, но то, что сделал Поливанов, не потеряло значения. Недаром доклад Вяч. Вс. Иванова на заключительном пленарном заседании конференции назывался «Поливанов и языковедение XX века».
Недалеко то время, когда Поливанов займёт своё место среди людей, которые стали гордостью нашей науки…
В 20–е годы я воспользовался рассказами Юрия Николаевича о курильщиках опиума для. новеллы «Большая игра» и романа «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове».
ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВЯ не знаю, как назвать дарование, которое судьба подарила Ираклию Андроникову. В классической литературе этим даром обладал только И. В. Горбунов, создатель знаменитого образа генерала Дитятина. Пожалуй, это дарование можно назвать перевоплощением. На ваших глазах хорошо знакомый человек превращался в другого, ни в малейшей степени на него не похожего. Становилось другим все: походка, выражение лица, голос – словом, всё, что составляет видимую сущность человеческого существа. А впрочем, даже и невидимую, потому что в результате этого поразительного превращения менялся, кажется, сам характер. Но этого мало. Способность изображать людей у Ираклия, человека на редкость музыкального, неожиданно расширялась, и ему ничего не стоило изобразить не только оркестр, но и дирижёра, причём в одном случае это был маленький, сухопарый Гаук, а в другом – уверенный красавец Мравийский.
И Ираклий Луарсабовнч никогда не отказывался, когда его просили кого–нибудь изобразить. Боясь, что он в смешном виде изобразит меня, я попросил его однажды не делать этого. Он засмеялся и сказал: «Ты ходишь по краю пропасти. Нет ничего смешнее этой просьбы, и если бы я стал изображать тебя, я бы с неё и начал».
Этот талант развивался. В молодости он был известен, главным образом, в кругу друзей, впоследствии его узнали телезрители всего Советского Союза. Естественно, он не только «изображал». Он придумывал рассказы, в которых действовали изображаемые им лица. Сюжеты были бесконечно разнообразны и касались не только литературного круга 20–х годов – именно тогда я и познакомился с ним, – но и его родственников, товарищей юности, случайных знакомых.
Дарование развивалось, усложнялось, двигалось вперёд, захватывая всё более обширный круг наблюдений. То, что он изображал неизвестных слушателям людей, уже было шагом вперёд. Сюжеты приходилось выдумывать, а это уже совсем другая работа, далёкая от перевоплощения. Необыкновенно музыкальный по природе, он на слух ловил любую интонацию, развивал её, вводил новые модуляции, рисовал целые картины. Но все это было далеко от письменного стола, так же, между прочим, как это было у Горбунова. При записи устные рассказы теряли интонационную окрашенность, а заменить её на бумаге можно было только обладая талантом опытного беллетриста. Вот почему Ираклий Луарсабович пошёл другим путём. Он историк литературы, его увлекла личность и поэзия Лермонтова, и он отдал её изучению многие годы. Но и тут сказалась черта, совершенно не свойственная профессиональному историку литературы, – он стал рассказывать о своих разысканиях, он широко распахнул ту сторону работы историка литературы, которая почти неизвестна и на первый взгляд мало касалась исторической науки. Он тонко угадал в задаче историка литературы элемент загадочности и воспользовался им как движущим фактором своих разысканий. Об Ираклии Андроникове давно пора написать книгу. В этой заметке я не в силах обрисовать весь обширный круг его интересов, ни с чем не сравнимую пользу, которую он приносит нашей исторической науке.
У него ничего не пропало даром. Дарованием импровизатора он энергично воспользовался для своих выступлений, которые познакомили с ним многомиллионную аудиторию и заставили оценить его удивительный талант. Открытия в истории литературы с годами становились всё более привлекательной целью. И все это происходило одновременно.
Словесная игра, в которой всегда виден тонкий вкус, отразилась не только в его известных устных рассказах, но и в письмах ко мне, которые я прилагаю к этой заметке.
Дорогая Лида Миколаевна!
Дорогой Венус!
Прежде всего – обожание. Вслед за тем – ещё раз обожание. Далее примешивается чувство печали по поводу долгой разлуки: мы не виделись с представителями Вашего дома более недели. Затем следует надежда на скорую встречу – на лице моем появляется просветление. Надежда вырастает в уверенность: да! мы увидимся! И даже брови сдвигаются в непреклонную складку… Но вслед за тем слезы брыжжут из глаз, и я протягиваю руки, полагая встретить Ваши: спасите! Из Пензы пришёл уяшсный ответ: деньги вышлют 1 декабря. Пауперизм мой дошёл до крайней степени. На сценическом языке это зовётся: отчаянье и мрак, по–русски – нужда. Трудно и тяжело просить интеллигентному человеку, по 3 тысячи рублей сроком до 10 (на всякий случай) декабря были бы спасением для человека, носящего громкое имя Геракла, ещё в колыбели удушавшего змей зависти, победившего затем лернейскую гидру, льва и вычистившего конюшни Авгия (на Беговой). Последние 43 года это имя ношу я и беру на себя смелость продолжить подвиги гордого героя древности, отбросить гордость и похитить названную сумму у тех, кто не менее древних будет славен в анналах новейшей истории и чьи имена Лидия и Веньямин звучат похвалой и нарицают славных умом, талантами и добродетелью. Будь мой славный тёзка на моём месте, он, протянув к Вам длани, воскликпул бы:
Злата ты мне одолжи,
Веньямин, величавый и мудрый, спасибо.
Нет на земле никого, кто такое способен свершить, не сморгнувши.
И многие другие гекзаметры произношу я вслед за ним, склоняя понятия: благородство, благодарность, дружба нежных лет, воспоминание о драгоценных слезах, сверкавших на ресницах ваших при вести о нищете друга!
Если сердце подскажет тебе, благородная, мудрая Лида,
Милость эту явить, то под камень злато клади и воскликни: явился! Твой ответ для меня приговор…
Телефон в Переделкине сгорел вместе с конторой, светлокудрый Трофим горевал, но поможешь ли горю слезами, если даже воды в Переделкине им не хватило. Операция результата пока пе дала, и белок повышается резко. Ежели это не кончится скоро, то, уверен, конец недалеко…
Ираклий Андроников – Исхититель Ираклий, сын Андроника Афинского.
Не потому прошу, что галстухи купить хочу, но потому, что есть хочу.
11 ноября 1951.
Переделкино
Дорогой Веничка!
Поздравляем тебя горячо, жарко, от душ, пламенеющих любовыо, тебя поздравляем, тебя – молодого человека и старого товарища, нашего доброго, любимого друга, нашего Венуса; желаем тебе всего, всего хорошего: новых побед, новых успехов, новых замечательных книг, дальнейшего цветения таланта, молодостн, здоровья, жизнерадостности, мудрого спокойствия, коими ты достойно наделён, как качествами непреходящего свойства.
Кидаемся навстречу! Ликуем! Шумно приветствуем! Обнимаю! Жмем руки! Лиду Миколаевну обожаем! Потрясаем руки Наташе, Коле, нашему зятю. Ни у кого: только у тебя есть Лида Миколаевна, Наташа и Коля, только у тебя есть наш зять – у других зятья не наши!
Ты наш дорогой Вена! Не забывай нас во второй половине своего века. 27 лет из твоих 50–ти ты знал нас. Не откажись от тех, кто любит тебя любовью, закалённою и выпестованною на Петроградской стороне с Элевтеро{Брат И. Л. Андроникова, академик Грузинской ССР.} на плечах. Нам хорошо при мысли, что пятьдесят – это ты! Человечество молодеет, на тебя глядя, и хорошеет, чувствуя себя немного виноватым, по не достигнувшим твоих достоинств.
О, наш дорогой Венус!
Твои – нужно ли подписываться? Ты уже знаешь – Андрониковы, всей семьёй, кончая Экиным–Пекиным{Дочь Андрониковых – Катя.}, взволнованным писанием этого письма.
19 апреля 1952. Москва.
Дорогой Веня!
Несколько дней назад я взял в руки журнал «Наука и жизнь» и увидел портрет Льва Александровича и главу из его воспоминаний. Должен тебе сказать, что я не читал ничего похожего в жанре воспоминаний. Бывают прекрасные мемуары, писанные великолепным пером, построенные как живописное полотно, картинные, сочные, образные, но сделанные, литературные, приподнятые, выстроенные. Но такой естественности, живости, лёгкости, достоверности, простоты, ёмкости, драматизма без всяких попыток педалировать эти возможности, захватывающего интереса, умения передать время, характеры, людей, показать их самоотверженность, благородство, ни слова не сказать о себе, рассказывая в первом лице, и при этом не мемуарист, а читатель переживает, сопоставляет, соображает, гордится сознанием величия науки и подвигом учёных–врачей!.. Я не могу забыть этого впечатления, поминутно возвращаюсь мыслью к прочитанному неделю назад и только об этом и могу говорить, советую – нет! прошу прочесть всех и сказать о своём впечатлении! Я Шкловскому сказал – он прочёл и пришёл тоже в восторг! Боже! Какая потеря и какое ощущение бессмертия этого человека! Сколько ещё написано? Неужели это все? Трудно поверить.
Поцелуй ручку Лиды Миколаевны. И пусть Новый год проляжет какой–то суровой гранью и даст возможность больше думать о всевозрастающем величии Льва Александровича, хотя бы но капле умаляя горе, которое принёс уходящий год.
Я прочёл сборник воспоминаний о Юрии Николаевиче. Это великолепно. И перечитал «Витушншникова», вышедшего в иллюстрациях Кузьмина. Я помню, как он писался, цитирую его целую жизнь, но тут снова поражён феноменальным блеском этой, в общем, недооценённой вещи, заключающей в себе такие победы историзма и ретроспекции языка, стиля, способа мышления, анекдота и скрупулезнейшего исследования, выраженного с какой–то фантасмагорической свободой, что неизвестно даже, как выразить в словах восхищение – это, кажется, так же немыслимо, как рассказать музыку! А статья Юрия Николаевича, предпосланная сборнику, – воспоминания о детстве и о родном городе! Новые грани – я не читал этой автобиографии прежде. Благодарю тебя за подарок, и желаем всего самого доброго вам в этом году – я и Вива!{Жена Андроникова.}
Ираклий Анидроников.
[1966]
1983








