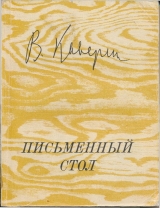
Текст книги "Письменный стол"
Автор книги: Вениамин Каверин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Веничка, если увидишь Ю. и. Лебединского, то скажи ему об этом обстоятельстве. Будучи в Ленинграде, 10. и. (что–то мне помнится) говорил, будто секретариат ССП (и в частности бедный А. Фадеев) благословил мой сборник на издание. Так ли я понял Юрия Николаевича? Если так, то пусть бы он сказал об этом дирекции издат–ва (чтоб они не пугались, увидев в редакционном плане мой сборник).
Ю. Н. был так добр ко мне, что я полагаю – его не затруднит это дело. Быть может, тогда не вычеркнут из плана мою книгу, которую я сколотил по предложению Ленингр. издательства.
Будь здоров, мой дорогой. Целую и обнимаю тебя
Мих. 3ощенко.
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА БУЛГАКОВАВ своей книге «Драматические сочинения» С. А. Ермолинский слишком высоко оценил мои заслуги в восстановлении имени М. А. Булгакова. Я просто сказал в своей речи на Втором съезде писателей о том, как многим обязана советская драматургия тому, что он сделал. Это произвело впечатление, потому что о Булгакове много лет не упоминали в печати. Я назвал не только Булгакова, но и Тынянова, о котором тоже почему–то не упоминали лет десять. Так и теперь, кстати сказать, не мешало бы вспомнить и Бабеля, и Ю. Олешу – писателей–новаторов, без которых невозможно вообразить себе советскую литературу. Но вернёмся к Булгакову. Вовсе не вскоре после моей речи на съезде вернулись и оценили его. Прошло ещё немало лет, прежде чем вдова Михаила Афанасьевича получила возможность создать комиссию по литературному наследию мужа.
Его книги после 1926 года стали выходить лишь в 1955 году. Стало быть, через 30 лет. Все эти годы он, как известно, работал – писал либретто для балетов и опер, служил помощником режиссёра в Художественном театре.
Необходимо отметить, что в этой истории постепенного узнавания Елена Сергеевна сыграла роль умного, настоятельного, осторожного «толкача», – в противном случае мы познакомились бы с творчеством Булгакова ещё десятью годами позже. С уважением и восхищением я следил за её неустанной деятельностью. Стоит прибавить к этому, что Елена Сергеевна была человеком необыкновенным. Она была очень хороша собой и обладала несомненным дипломатическим даром. Не буду перечислять других ев достоинств – это отняло бы слишком много места.
Дело в том, что отношение к Булгакову и его наследию менялось. Прежде чем окончательно установиться, оно претерпело ряд перемен. Сложная биография Булгакова как бы отбрасывала тень на всё, что он написал. И надо было осторожно, никого не обижая, отвести эту тень. Так и поступила Елена Сергеевна. Она действовала тонко, но настоятельно и изящно. Более того, она сумела привлечь в комиссию по литературному наследию Булгакова видных деятелей литературы и искусства. И тут для меня пришла пора стать рядовым членом комиссии, который способен делать смелые предложения и предлагать то, что у всех было на языке, но о чём говорить не решались.
Еще в середине 30–х годов Булгаков написал замечательную книгу – превосходную биографию Мольера для серии «Жизнь замечательных людей», основанной Горьким. С увлечением перечитав эту нимало не устаревшую книгу, я решил поступить просто: позвонить руководителю серии – деятельному и умному Ю. и. Короткову – и спросить его, не хочет ли он провести вечер над чтением очень интересного маленького романа.
Он согласился и на следующий день отправил роман в производство. В том, что комиссия не стала бы возражать, я не сомневался.
Что касается «Мастера и Маргариты» – книги, которая дважды была иллюстрирована друзьями до её издания и с которой некоторые члены комиссии были знакомы, – она оставалась одним из немногих произведений Булгакова, о которых давно ходили таинственные слухи, отнюдь не побуждавшие кого–нибудь заговорить о нём первым. Наши заседания проходили как маленькие банкеты, на которых приятно было бывать – с вином, фруктами и прекрасно приготовленным ужином, – Елена Сергеевна не упустила и эту сторону дела. Вот на таком–то заседании–банкете я и заговорил о «Мастере и Маргарите». Заговорил неожиданно, без предварительной подготовки, ни о чём заранее не подумав и ни на что не рассчитывая. Но речь, довольно длинная, оказалась недурной. Я обрисовал смысл и значение этой книги и предсказал её всемирный успех. Должно быть, я говорил убедительно, хотя и бессвязно, потому что Елена Сергеевна, прощаясь (мы были наедине в передней), обняла и поцеловала меня. Но конечно, ничего ещё не было решено.
Вопрос был как бы поставлен. Но лиха беда начало – о книге широко заговорили. И неожиданно редактор журнала «Москва», прочтя роман, напечатал его – с некоторыми купюрами, в основном восстановленными в последующих изданиях.
В письмах Елены Сергеевны отражена эта история или, точнее сказать, её тень, потому что и писем было больше, и борьба за «Мастера и Маргариту» была бесконечно более сложной.
Иногда мне кажется, что самым мощным союзником, принимавшим участие в восстановлении имени Булгакова, был сам Булгаков. О его прозе и драматургии долго не писали потому, что их долго не читали. С 1926 года по 1955–й длился период молчания, и тогда только поняли, что не только читать его, но и писать о нём – наслаждение.
Чудо его таланта жило рядом с нами. С его вторым рождением свежий воздух ворвался в нашу литературу, и стало легче работать и жить, потому что растаяла привычка к тесноте и появилась необходимость оглянуться на собственную работу, сравнивая её с тем, что было сделано им.
О М. Булгакове написано много: эссе, заметки, диссертации докторские и кандидатские и в нашей стране, и за рубежом. И я, среди других, написал о нём ни много ни мало – пять статей. Но если подавляющее большинство этих работ положить на одну чашу весов, а на другую – сравнительно небольшой труд С. Ермолинского, он, но моему мнению, перетянет.
Дело в том, что все эти многочисленные исследователи невольно рассматривали творчество Булгакова без знания его как человека или, в лучшем случае, пользуясь приблизительным знанием. Я, например, даже никогда не видел его.
Восточная пословица говорит: «Великое несчастье, когда пет истинного друга». Среди многочисленных неудач Булгакова (чтобы перечислить их на странице, не хватило бы места) в одном отношении ему решительно повезло. Он встретился и на всю жизнь сошёлся с С. Ермолинским – истинным литератором, строгим ценителем искусства, много работавшим в прозе, драматургии и кинематографии.
Дружба бывает разная: кто из нас не помнит пушкинское «Воспоминание»:
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды.
Десятки исследователей пытаются разобраться в сложных отношениях поэта с и. Раевским, с Жуковским и даже с Гоголем, которому Пушкин подарил сюжет «Мертвых душ», не потребовав за это золотой портсигар.
Но нечего будет делать историкам литературы, если кому–нибудь из них придёт в голову заняться историей отношений между М. Булгаковым и С. Ермолинским. Это сделано, и сделано с блеском. Никому из них никогда не удастся лучше рассказать, какую роль сыграла эта дружба в жизни одного из самых талантливых писателей современности. Говорят, что истинная любовь слепа. Но С. Ермолинский любил своего друга отнюдь не слепо. Он внимательно всматривался в каждое движение его души и уж конечно в каждую написанную им строчку. Ему удалось то, что едва ли могло удасться тем, кто пытался познать личность Булгакова по его произведениям. Можно смело сказать, что трагически–счастливая жизнь Михаила Афанасьевича вошла в его душу и, может быть, незаметно для него самого сделала его бесконечно богаче. Ведь заразительны не только зло, ненависть, честолюбие, жестокость. Заразительны и честь, и мужество, и желание добра, и гордость. Вот на чём были незримо построены эти отношения – на обмене мыслями и чувствами, на советах в трагических обстоятельствах, на тонкости в стремлении оставить неразгаданное – неразгаданным, на глубоком (насколько это возможно) понимании друг Друга.
Статья С. Ермолинского не историко–литературное произведение, хотя и не сомневаюсь, в дальнейшей «булгаковиане» исследователи волей–неволей должны будут ссылаться на этот «исповедальный отчёт».
М. Булгаков всю жизнь испытывал страстное стремление раскрыть перед читателем правду, – этот свет правды озаряет то, что о нём написал С. Ермолинский.
Можно было бы ещё много сказать об этой работе, которая поднимает автора на высоту выразительной прозы. Но ещё одно соображение высказать решительно необходимо: мы много говорим о том, что надо найти новый, единственно верный синоним для понятий истины, мужества, чести – синоним, который тронул бы молодое сердце. Так вот, пе надо никаких синонимов: надо воочию, вживе показывать жизнь таких людей, как Булгаков, – людей, посвятивших себя рыцарской верности, небоязни трудностей и умению восхищаться, радоваться жизни, несмотря ни на что. Именно таким и показал нам С. Ермолинский великого писателя – с его любовью к людям, с его беспредельным трудолюбием, с его трогательной благодарностью за «дар жизни», который (к счастью для нас) вдохнула в него природа.
М. О. Чудакова рассказала мне (со слов Елены Сергеевны) трогательную историю, которая при всей её простоте говорит о многом. Булгаков погребён на Новодевичьем кладбище, и Елена Сергеевна часто посещала его могилу. Приехала она и вскоре после того, как был опубликован роман «Мастер и Маргарита». Приехала, мысленно поздравила покойного мужа с долгожданным событием (которого он не дождался) и встретила неизвестного человека, который при ней положил на могилу цветы. Она подошла к нему, поблагодарила и записала фамилию и адрес. Через несколько дней скромный поклонник Михаила Афанасьевича получил по почте крупную сумму денег. От кого же? От Булгакова. Он не сомневался, что его лучшая книга будет опубликована. «И когда это произойдёт, – сказал он Елене Сергеевне, – пошли часть гонорара тому, кто первый принесёт цветы на мою могилу».
Москва. 2.ХI.55
Дорогой Вениамин Александрович, посылаю вам эту книгу – первую книгу Булгакова после 30 лет искусственного замалчивания его – в знак моего глубокого уважения к Вам – первому человеку, сказавшему громко с трибуны правду о Булгакове. В жизни этого не забуду, в жизни не перестану Вас любить.
Ваша Елена Булгакова.
Дорогую Лидию Николаевну крепко обнимаю и целую.
Москва. 13.IV.56
Дорогой Вениамин Александрович, простите ради Бога за задержку, Вы не можете себе представить, сколько бумаги было разорвано, прежде чем получилась даже такая страшная заплата для Вашей поэтической статьи. Одна надежда на Ваш карандаш.
Когда я прочла Вашу статью, придя от Вас, я хотела тут же позвонить к Вам (но было поздно) и сказать о том необыкновенном, новом совершенно, ощущении, которое я пережила: читать о Булгакове вещь, написанную так, как это сделали Вы. Не знаю, права ли я, но мне кажется, что эта статья, составляющая впечатление написанной поразительно легко, на самом деле стоила Вам очень большого труда. Знаете, как смотришь на первоклассную балерину и думаешь, что очень легко – танцевать так, как она. Сколько ума в том темпераменте, в каком написана статья. Ведь всё, что Вы пишете о Булгакове, является вызовом всем, писавшим До сих пор о нём. Но делаете это Вы так спокойно, так достойно, без всякого желания вступать в полемику, что, по–моему, теперь, после этой статьи, будет уж трудно продолжать в газетах ту травлю, которой подвергался Михаил Афанасьевич во всю свою трудную жизнь.
Каждая фраза буквально вызывает во мне массу мыслей о нём, о его творчестве, у каждой – громадный подтекст. Я могла бы продолжать до бесконечности, но боюсь, что и так уж написала много, а не сумела выразить и сотой доли своих мыслей и чувств.
С громадным уважением
Елена Булгакова.
Мой сердечный привет, как всегда, Лидии Николаевне!
Москва. 26. XI. 1960
Дорогой Вениамин Александрович, – там будь что будет дальше, не в Вашей, к сожалению, и не в моей власти решать, – но я испытываю такую благодарность к Вам, что не могла не написать. С момента Вашего звонка – мне стало легче на душе, я стала спать без снотворного и улыбаться на шутки детей. Вы – один, начиная с Вашего выступления на съезде писателей, продолжаете бороться за Булгакова. Меня иногда преследует одна мысль – неужели писателям не приходит в голову, что для потомства они предстанут в роли Булгариных – в отношении Михаила Афанасьевича. Почему они упорно хотят сделать вид, что его не существовало в литературе? Или я ошибаюсь, – м. б., они просто пассивны, оберегают своё спокойствие? Вот, например, Конст. Алекс. [7]7
Федин.
[Закрыть]– отозвался сразу же в прошлом году, послал телеграмму в Гослитиздат, по потом перестал интересоваться – чем закончилось дело с изданием писателя, о котором он так хорошо написал. <…>
Но это все – особая статья, и не об этом я хотела говорить сейчас, – а о Вас, о Вашем поразительном для меня поведении в этом злосчастном деле. Меня переполняют мысли и чувства, обрывки слов – чистота, честность, мужество, настоящий писатель… но так неловко писать об этом в лоб. М. б., Вы будете морщиться, читая это. Но пе писать Вам – не могла. Сказать же при встрече никогда не могу, даже по телефону, – когда услышу Ваш петербургский голос.
Мне хочется, чтобы Вы знали мои чувства.
Крепко обнимаю Вас и Лидию Николаевну.
Ваша Елена Булгакова.
Москва. 2.3–65
Мой дорогой Вениамин Александрович, опять и опять, снова и снова Вы нашли необыкновенно глубокие слова для Михаила Афанасьевича! Ваш рассказ о Мастере так взбудоражил слушателей, что теперь все мои друзья или просто знакомые просят дать им почитать роман.
Но это – часть тех откликов, которые вызвало Ваше выступление. О нём говорят все, бывшие на вечере.
Как мне благодарить Вас, дорогой друг!
От всего сердца желаю Вам самого прекрасного. От всего сердца обнимаю Вас.
Ваша Елена Булгакова.
Я хочу, чтобы Лидия Николаевна дочитала весь роман – как это сделать?
Москва. 14–3–65
Дорогой Вениамин Александрович, разрешите напомнить Вам – ведь на Вас чин моего ангела–хранителя. Я понимаю, что, как всякий чин, он Вас иногда утомляет. И все же опять с просьбой! Только вчера, после телефонного разговора с Константином Михайловичем [8]8
Симонов.
[Закрыть]поверила, что вечер Михаила Афанасьевича действительно состоится. А раз так, то неужели Вы не согласитесь сказать о Булгакове несколько слов? Помните, как, уходя с заседания комиссии у меня 27 октября, Вы (при этом у Вас смугло порозовели щеки и отчаянно блестели глаза) сказали несколько фраз. Но каких! Прошу, прошу Вас, вколите на вечере что–нибудь подобное, – может быть, у некоторых чиновников, сидящих в зале, прояснится в голове, и они поймут, что пора, наконец, сорвать все ярлыки, неправедно наклеенные на Булгакова, и издавать его сочинения наравне с другими писателями. Константин Михайлович вчера сказал, что именно эта цель должна быть у выступающих на вечере писателей.
Обнимаю Вас и Лидию Николаевну крепко.
Ваша Елена Булгакова.
1983
О ПАУСТОВСКОМПри воспоминании о покойном друге невольно подступают слезы. Не то с Паустовским. Он был человек светлый, весёлый, беспрестанно радовавшийся жизни и умевший внушать эту радость другим.
Я долго знал его только по книгам. Впрочем, первые его страницы, которые я прочитал, сразу же показали мне, что наша литература обогатилась новым талантом. Это были «Далекие годы». А в сцене, которая остановила моё внимание, был рассказ о том, как Паустовский едет к умирающему отцу. Так начинается книга. Нет, я вспоминаю теперь. Я прочитал резко отрицательную рецензию на эту книгу и по цитатам, приведённым критиком, догадался, что неизвестный мне доселе Константин Паустовский держит в руках смелое и умное перо.
…До умирающего отца добраться невозможно – разлилась река; насмешливый, с голубыми кошачьими глазками старик еврей отваживается перевезти семнадцатилетнего гимназиста на другой берег, и в картину опасного путешествия с неистовой силой вступает природа. Стремнина преграждает путь, лошади дрожат, вода почти сбивает их с ног, наконец с берега бросают канат, и фаэтон въезжает на остров. Отец не может говорить, у него рак горла. Но все же гимназисту удаётся расслышать его последнюю фразу. Отец сказал: «Боюсь, погубит тебя бесхарактерность». Потом похороны. Трагическое появление матери, которая опоздала и бьётся в рыданиях на той стороне реки…
Паустовского не погубила бесхарактерность. При всей своей мягкости, изысканной вежливости он был человеком железной воли, которая оригинально и тонко соединялась с чувством восхищения. Он был мягким, заботливым человеком, когда жизнь сталкивала его с необходимостью помочь подчас даже незначительному человеку, и непреклонно твёрдым, когда встречался с очевидной несправедливостью. Он был поэтом в широком смысле слова. Призвание обязывало его, свою профессию он понимал как нравственную задачу. Встречаясь с ним, я неизменно чувствовал в нём какую–то тихую радость. Это было радостное сознание, что он человек искусства, художник, писатель. Недаром он любил говорить мне, что нужно, чтобы в душе звенела постоянно какая–то нота, пусть даже еле слышная нота. Прислушиваясь к пей, надо кончать работу, и прислушиваясь к ней—начинать её на следующий день. Совет этот был, как ни странно, практический. Профессиональный писатель ни на один час не расстаётся с недописаниой страницей.
Мы познакомились в Ялте в 1939 хюду. Туда по уговору съезжались писатели, любившие или, по меньшей мере, глубоко уважавшие друг друга: Василий Гроссман, Евгений Петров, Евгений Габрилович, Аркадий Гайдар, Константин Паустовский – я уже упоминал об этом. Самым плохим рассказчиком был, без сомнения, я, самым хорошим– Паустовский. Необыкновенные происшествия он подавал как случавшиеся ежедневно. Он любил удивлять, но пе любил удивляться. Рассказывал он спокойно, неторопливо, хрипловатым голосом. Истории были действительно удивительные – трудно поверить. В самых необыкновенных главным героем был его друг Рувим Фраерман, автор «Дикой собаки Динго». Видно было, что Паустовскому самому дьявольски интересно то, что он рассказывает. В этом было что–то детское. И вообще он относился к числу тех людей, для которых юность является главной чертой. Молодостью, верой в человека, изяществом, рыцарством полны его книги.
После войны, когда я переехал в Москву, мы часто встречались. он был председателем секции прозы, я его заместителем. Возможно, что в архивах Союза писателей сохранились его выступления, хотя многое растаяло в воздухе – его слабый голос подчас слышал один я. он любил говорить о литературном языке, в который грубо вторглись канцеляризмы. Он любил говорить о наивном невежестве одних писателей, о нравственном падении других, рвущихся к власти. Он любил говорить о том, что призвание и карьера редко скрещиваются, что карьера не только прямо противоположна, но враждебна призванию. Он говорил о ножницах между дарованием и положением, когда известность опирается на должность, а не на талант. Его слова не растаяли в воздухе. Он 20лет преподавал в Литературном институте, многие первоклассные писатели считают себя его учениками. В нравственные позиции их воплощены его вкусы и убеждения. Но мы сошлись, и близко сошлись, не только потому, что я разделял его позиции в литературе. Его трудно было не любить. Он был обаятельным человеком, придававшим глубокое значение не поверхностной стороне жизни, а тому, что совершается на глубине. Так, его превосходные описания природы хороши не потому, что они изящно и талантливо написаны, а потому, что они написаны с тургеневской глубиной. Ту же любовь он неизменно ощущал и ценил в человеческих отношениях.
Понятие литературного успеха сложно. Бывает успех стремительный, охватывающий беспредельный круг читателей, но поверхностный, быстро тающий. А бывает медленный успех, успех неторопливого чтения, размышления, успех тайного влияния книги на человека, влияния, которое заставляет его к ней возвращаться. Лучшие вещи Паустовского именно таковы. В них воплощена любовь к жизни, напоминание о том, что вопреки любым трудностям, горестям, заботам жизнь все–таки прекрасна.
Как ни странно, но в его произведении вы не чувствуете авторской заботы о том, чтобы рассказанное ворвалось в душу и стало настоятельно распоряжаться ею. Паустовский видит в читателе друга, а с другом нужно быть по возможности простым, искренним и достоверным. Я бы сравнил его с Короленко, который никогда не терял надежды, который во всём, происходившем вокруг, умел найти хорошую сторону и который каждой строчкой радовался жизни, как бы она ни была грустна.
В Ялте, которую Паустовский нежно любил, мы встречались дважды – осенью и весною. Устраивали вкусный вечерний чай и вели длинные, интересные разговоры. Однажды его позвали к телефону: звонила его жена Татьяна Алексеевна. Он неохотно спустился вниз, неохотно ответил на какие–то деловые вопросы, а потом сказал: «Извини, Таня, я занят.
Мы с Вениамином Александровичем пьём чай». Впоследствии Татьяна Алексеевна со смехом рассказала мне об атом.
Он любил розыгрыши, острые шутки. Однажды он с двумя молодыми писателями убедил меня, что за мною, чтобы отвезти меня в Севастополь на мой литературный вечер, идёт миноносец. Я человек доверчивый, и уж кому–кому, а Паустовскому не мог я не поверить. В Севастополе был мой знакомый по Северному флоту, начальник политуправления вице–адмирал Николай Антонович Торик. Это подкрепило мою уверенность. Однако в семь часов утра уборщица разбудила меня и сказала, что миноносец не придёт. «Горючего мало, – сказала она, – придёт машина». Я не рассердился на К. Г. На него невозможно было сердиться.
После вечернего чая мы расходились, и, засыпая, я думал о Паустовском: старый человек в темноте, поздней ночью лежит и думает пе о себе, хотя следовало бы, следовало бы подумать о себе, о своих делах, о своей болезни – тяжёлая астма мучила его годами. Он думает о том, что непризнанные, но подлинные таланты должны занять в литературе то место, которое принадлежит им по праву. Он думает о том, найдёт ли необъятный народный опыт своё отражение в наших книгах и что может сделать он, чтобы это произошло, свершилось, утвердилось.
Мы испытали многое. Мы десятилетиями жили, как бы заслоняя себя от самих себя, избегая внутреннего взгляда. Паустовский в эти ночи не мог сказать себе пи единого слова упрёка.
Таруса. 16 сентября 1957 г.
Дорогой Вениамин Александрович, – не сердитесь на меня, милый, за то, что я так долго молчал в ответ на Ваше доброе письмо. Я никак не мог привести себя в «надлежащую форму» для спокойной повседневной жизни из–за своей отвратительной астмы. Жил я в одну десятую дыхания, и это сказывалось на всём. Но недавно произошло нечто неожиданное и чудесное, что сразу же вернуло меня к нормальной. жизни. Астма уходит, и я уже дышу полной грудью, работаю, ловлю рыбу на Оке, свободно прохожу по 8–10 километров после того, как не мог сделать и двадцати шагов. «Виновником» всей этой истории оказался не кто иной, как герой последней книги Бека – «Бережков» – он же авиаконструктор Микулин. Он где–то узнал о моей болезни, неожиданно приехал ко мне в Тарусу, обругал Бека и привёз мне изобретённый им недавно прибор – «ионизатор», который якобы совершенно излечивает астму. Я, признаться, ему не поверил, так как безуспешно перепробовал всё, что возможно, и знал, что никакой Микулин мне новые лёгкие не вставит. К тому же я не понимал, почему Микулин, авиаконструктор, занимается такими медицинскими делами. Объяснить мне это он не захотел. Вообще он произвёл на меня впечатление человека очень талантливого, по слегка авантюриста, чудака и циника. Микулин уехал, а я попробовал его аппарат, и вот через три–четыре дня астма моя начала просто на глазах пропадать. Прибор Микулина вырабатывает ионы – до миллионов иои в одном кубическом сантиметре воздуха, и вы дышите этим воздухом 10–15 минут в сутки. Микулин утверждает, что дыхание ионами совершенно снимает и гипертонию.
Что будет дальше – не знаю, но пока я дышу, закончил книгу – четвёртую книгу автобиографической повести (одесскую), Зоя [9]9
Зоя Александровна Никитина.
[Закрыть]забрала у меня рукопись для Альманаха. Не знаю, получится ли из этого что–либо путное.
Я рад, что болезнь Вас оставила. Надо вышибать её окончательно. В последнее время мне часто хочется просить всех хороших людей, чтобы они очень берегли себя.
Здесь летом жил Заболоцкий. Чудесный, удивительный человек. На днях приходил, читал свои новые стихи – очень горькие, совершенно пушкинские по блеску, силе поэтического напряжения и глубине.
Если у Вас будет охота и немного свободного времени, напишите мне несколько слов о себе и своей работе. Я сижу здесь, как в Нарыме, и ничего не знаю. В начале октября приеду в Москву и Вам позвоню. Очевидно, увидимся.
Осень холодная, очень яркая. Ока уже вся в золоте. Очень хорошо.
Будьте здоровы, спокойны, работайте. Крепко жму руку
Ваш К. Паустовский.
Привет Вашим и Николаю Леонидовичу [10]10
И. Л. Степанов, известный историк литературы.
[Закрыть], если Вы его видите.
Потрясающий городок Таруса, – недавно в местной газете был напечатан «Список хулиганов г. Тарусы» – по номерам. Сорок восемь номеров.
Крым – Нижняя Ореанда. 16/IV 1966
«Здравствуй, брат, писать очень трудно». Но читать написанное Вами легко и радостно. Спасибо за новую превосходную книгу. В ней есть необыкновенная свежесть и чистота красок, и вся она написана как бы «перстами лёгкими, как сон». Я сижу со своим мечущимся сердцем в Ореанде. Крым в тумане, море зелено – бутылочное, тяжёлое. Здесь Леонов, а в Ялте – Арбузов и Шагинян. Не приедете ли Вы? Мы проживём здесь долго, до половины мая. Перечитали всего Тынянова. Как Вы? Где Вы? Что делаете? Как Лидия Николаевна, – черкните несколько слов. Из Москвы новости доходят глухо, да и пе ждёшь приветливых новостей.
Какие планы? Привет всем Вашим, Степанову, Маргарите [11]11
М. Алигер.
[Закрыть], коль её увидите, Льву Александровичу [12]12
Старший брат В. А. Каверина, известный учёный.
[Закрыть], Наташе! Вы, должно быть, меня забываете (обычная мнительность стариков). Но я надеюсь напомнить Вам о своём существовании очень скоро.
Обнимаю Вас обоих. Татьяна Алексеевна кланяется.
Ваш К. Паустовский.
Ялта, 22. VI. 66 г.
Ах! Дорогие Каверины, скучно без вас. Идут, идут дожди. Холодно. Нам осталось до седьмого совсем немного, и мы собираемся.
В доме черт знает что и черт знает кто. Даже нет милиционеров, но оказывается, бывает и хуже.
Но зато – новости.
Автобус наехал на Мухтурку и переломал ему заднюю ножку и другую сильно помял. Он, бедняга, в гипсе. Такой бедный и очень смешной, на днях ему снимут повязку.
Но главная новость не эта.
Ах, не ругайте нас, не ругайте бедного Пауста за то, что его приехали снимать «братцы–ленинградцы».
Один из них (братцев) Юрий украл жемчужину дома.
Пока это тайна, не выдавайте меня. Но скоро ЗАГС – и в Ленинград. Кого бы, Вы думали, увозит тихий Юрий Федорович Рябов?
Нашу нежно любимую Наталию Николаевну [13]13
Сестра–хозяйка Дома творчества в Ялте.
[Закрыть], которая через несколько дней сделается Рябовой. Они просили до их отъезда молчать, но, во–первых, я пишу, а во–вторых, знаю кому.
Костя не прекрасен. Как будем жить в Москве, один Бог знает. Алешка [14]14
Сын Паустовских.
[Закрыть]в Гаграх, старшие в Германии, беспорядок.
Приедем – обязательно увидимся.
Целую Вас со всем необъятным семейством, Паустовский тоже.
Ваша Татьяна Алексеевна.
1065–1978








