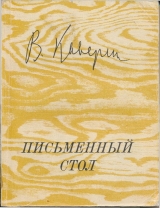
Текст книги "Письменный стол"
Автор книги: Вениамин Каверин
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Мне понравилась речь Андре Мальро, выступившего от имени писателей Запада. Он говорил, что сила доверия создала новую женщину, свободную от тысячелетней косности быта, и превратила беспризорников в пионеров. Мораль доверия к писателю и поэтические открытия – вот две силы, которые способны высоко поднять значение советской литературы.
Всех глубоко тронуло выступление Бориса Пастернака. «Двенадцать дней я из–за стола президиума вместе с моими товарищами вёл со всеми вами безмолвный разговор. Мы обменивались взглядами и слезами растроганности, объяснялись знаками и перекидывались цветами. Двенадцать дней объединяло пас ошеломляющее счастье того факта, что этот высокий поэтический язык сам собой рождается в беседе с нашей современностью, современностью людей, сорвавшихся с якорей собственности и свободно реющих, плавающих и носящихся в пространстве биографически мыслимого».
Долго думал я, выступать мне или нет. Речь Олеши решила этот вопрос в отрицательном смысле. Сомнения, от которых я почти избавился, вновь вспыхнули, когда я услышал эту болезненно–острую исповедь. То, о чём я робко и неуверенно думал, прозвучало в этой речи с неожиданной силой. он не надеялся на счастливое будущее, он не искал выхода для решения вопроса, стоит ли пожертвовать хотя бы самой малой долей правды для того, чтобы писать книги, которые не пострадают от этой неполноты. Он вообразил себя давно бросившим перо и зарабатывающим на жизнь подаянием. Эта речь была рассказом о преследовавшем его образе нищего, в котором он видел себя и который невольпо нарисовался передо мною. Он упрекал критиков, заставивших его усомниться в собственном даровании. И, слушая его, я невольно вспомнил наш последний разговор, когда он епросил меня: «Каверин, зачем вам писать? Ведь вы уже научились». Прощаясь, мы тогда заговорили о «Зависти», и он грустно сказал: «Так вы думаете, что «Зависть» – это начало? Это конец». Поразившая меня неуверенность в себе болезненно отозвалась в моём сознании, потому что и я всегда был неуверен в себе, – вот с чем мне пришлось впоследствии бороться всю жизнь, и не без успеха.
После речи Олеши, в которой часть моих мыслей нашла необычайно яркое, откровенное и горькое выражение, я решил не выступать, тем более что искренне считал Олешу мастером, а себя – подмастерьем. Впрочем, это была не единственная причина, по которой я отклонил предложение Тихонова принять участие в общей дискуссии.
Первый съезд был событием, не повторившимся в нашей литературной жизни. Он нашёл выражение в той подкупающей искренности, правдивости, с которыми говорилось на нём о деле литературы.О съезде можно смело сказать: «В начале было дело». Причем любопытно, что этот съезд загадочным образом коснулся решительно всех сторон нашей многообразной жизни. Литература становилась явлением «централизованным», все нити соединились в Москве.
На съезде выступил, например, делегат в наглухо закрывавшей лицо чёрной маске, названный председателем в высшей степени неопределённо. Это был иностранец, скрывавшийся от разведки и получивший приказ приветствовать съезд советских писателей от организации, борющейся за свободу.
Крайне важным для нас оказалось выступление Отто Юльевича Шмидта, который с присущей ему математической ясностью рассказал о своих наблюдениях над участниками зпаменитого похода. В лагере было только четыре книги (он Каялся впоследствии, что не подобрал для челюскинцев библиотеку), и среди них – томик Пушкина. Трудно переоценить значение, которое имели эти книги. Своей гениальной организованностью, стройностью своего внутреннего склада мир Пушкина незримым образом связывался с необходимостью подобной же стройности в трудном деле нравственного совершенствования, нужного для привыкания друг к другу, для работы на льдине. Иными словами, немногие книги командовали нравственным общением, и об этом Шмидт говорил бесконечно яснее, чем мог бы сказать я.
Поведение и образ жизни челюскинцев диктовали нравственную атмосферу далеко за пределами шмидтовской льдины. Ни одно слово Шмидта с тех пор не устарело, и его речь я бы советовал напечатать в виде брошюры для подростков, избирающих жизненный путь.
В конечном счёте, надо отметить, что тон всему съезду был задан речью Горького, измерявшего нашу новую культуру на шкале всемирной истории. Не упоминая присутствующих поимённо, Горький призвал всех нас помнить о главном – о человеческом достоинстве, о честности и принципиальности, с которыми мы, советские писатели, просто обязаны относиться к личности каждого человека. «Человек человеку, – сказал Алексей Максимович, – должен быть только сотрудником, другом, соратником, учителем, а не владыкой разума и воли его».
И, вероятно, только теперь, после всех исторических катаклизмов минувших десятилетий, можно вполне оценить его тогдашнее предостережение: «Вождизм» – это болезнь эпохи, она вызвана пониженной яшзнеспособностыо мелкого мещанства…»
Что касается общего направления развития советской литературы, то Горький определил его как революционно романтическое. Теоретически он сформулировал это положение так: «…Если к смыслу извлечений из реально данного добавить – домыслить но логике гипотезы – желаемое, возможное и этим ещё дополнить образ – получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, отношения, практически изменяющего мир».
Суждение это я запомнил, и в моей дальнейшей работе оно имело решающее значение.
Съезд был явлением обязывающим, потому что в основе его лежало стремление к искренности, рождающейся в спорах. Это было событие, я бы сказал – «развёртывающееся событие». Литературные схватки касались самых серьёзных, действительно дискуссионных,проблем.
Мне кажется, поэты на съезде говорили с большей определённостью и блеском, чем представители других родов литературы. В их речах была та яркая и узнаваемая существенность детали, которой порой не хватало выступавшим. Достаточно вспомнить вдохновенную импровизацию Пастернака, его искромётные прозрения. «Чистая проза в её первородной напряжённости и есть поэзия». Мне представляется, что заключительный пастернаковский аккорд должен звучать в душе каждого художника. «Не жертвуйте лицом ради положения».
Мы мало думаем о том, что наше государство состоит из самых разных людей – и по своему характеру, и по своему происхождению. На съезде выступали представители народностей, у которых литература только зарождалась. Но и национальные литературы с древними корнями, такие, как, например, армянская или грузинская, тоже заявили о своём существовании в гораздо более ясной перспективе. Ощущение, что каждого автора теперь слушают не только на его родном языке, было одним из мажорных и обнадёживающих. Мы осознавали, что ответственны перед всеми языками страны и, в конечном счёте, – перед всеми языками мира.
Трудно переоценить то значение, которое лично для меня имела встреча на этом съезде с украинскими, белорусскими, армянскими, грузинскими литераторами. Уже в том же 1934 году, после съезда, я побывал в Армении, выступал там с лекциями о Ваане Теркине в Ереванском университете и делился с друзьями впечатлениями о поразившей меня армянской поэзии…
Как у моря, у съезда были отливы и приливы, но одна черта была некоторым образом несогласна с этой повторяющейся закономерностью. Каждый говорил о своём и, одновременно, о литературе. И сейчас поражаешься тому, как смело высказывали свои убеждения Пастернак, Тихонов, Первомайский, Тициан 'Габидзе… Вспоминается Бабель, напряжённо шутивший на съезде над своим неслучайным молчанием… Неистовый Егише Чаренц, бюст которого, со склонённой головой, стоит теперь у школы его имени в Ереване…
Я не передал и сотой доли этой встречи. Многое было лишь предсказано, перечислено, указано.
Я не сомневаюсь в том, что мой «геометрический разрез» не помог мне нарисовать законченную картину съезда. Дело – за другими делегатами. Хочется только рассказать ещё о том, как размеренный, официальный характер его переломился во второй половине. Этот перелом был не только замечен, но подхвачен, точно все только и ждали, когда же кончатся наконец доклады и приветствия. Доклады по необходимости носили слишком общий характер – кому было под силу в течение часа рассказать настоящее и заглянуть в будущее украинской, грузинской, белорусской, узбекской литературы? Приветствия были воплощением трогательной надежды на нашу литературу, но им было отдано слишком много времени и внимания.
Помнится, поэты были застрельщиками перелома. Кирсанов, защищая необходимость изучения стиховых форм, доказывал, что преодоление инерции в поэзии невозможно без борьбы направлений. Тициан Табидзе сказал, что рядом с Маяковским, имя которого часто произносится на съезде, должен быть поставлен Александр Блок. Первомайский связал поиски новой поэтической формы с судьбой своего поколения – поколения двадцатисемилетних. Мало сделано: в этом возрасте погибли Лермонтов и Петефи. Не изысканная рифма, не волшебная музыка слова, а молния духа, пробегающая между ними, – вот истинная стихия поэзии.
Пастернак попытался дать её определение: «Что такое поззия, товарищи, если таково на наших глазах её рождение? Поэзия есть проза, проза не в смысле совокупности чьих бы то ни было прозаических произведений, но сама проза, голос прозы, проза в действии, а не в пересказе. Поэзия есть язык органического факта, т. е. факта с живыми последствиями. И конечно, как все на свете, она может быть хороша или дурна в зависимости от того, сохраним ли мы её в неискаженности или умудримся испортить».
Когда съезд приветствовали метростроевцы, он кинулся из–за стола президиума, чтобы снять с плеча одной из работниц отбойный молоток. Она не позволила – молоток входил в картину приветствия, – и он, смущённый, вернулся на своё место. Это происшествие отразилось в его речи: «Когда я в безотчётном побуждении хотел снять с плеча работницы метростроя тяжёлый забойиый инструмент, названия которого я не знаю, но который оттягивал книзу её плечи, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком–то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку». Он закончил свою речь предостережением: «При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя её прямых источников, во имя большой, и дельной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям».
Если сравнивать современное положение литературы с положением в тридцатых годах, следует заметить, что перемены не только неизбежны, но и необратимы. Тогда действовали первоклассные мастера, такие, как Маяковский, Пастернак, Асеев, Мандельштам, А. Толстой, Зощенко, Тихонов, Ахматова, шли пьесы Булгакова, писал своего «Пушкина» Тынянов. Количественно литература была неизмеримо меньше, но в художественном отношении уровень её был выше. Может быть, в полной определённости этой мысли я не прав. К сожалению, годы и неустанная работа заслонили от меня многие явления, характерные для современной литературы. Для меня ясно, например, что среди молодых много талантов. Что широта и глубина историко–литературных исследований заметно возросла. Что наряду с «писаревгциной», против которой так горячо возражал Блок, у нас много хороших критиков, которые с не меньшей, а может быть, и с большей глубиной задумываются над роковым вопросом: как писать? Что наша литература, к сожалению, однообразна, писатели, сами того не замечая, повторяют друг друга. Что это касается, к сожалению, нашего литературного языка, который безвкусные литераторы пытаются украсить, хотя он по своей природе чужд украшениям. Нет направлений, или они определены лишь тематическими признаками, а без направлений нет внутренних споров, с державинских времён оплодотворявших литературу.
Но будем надеяться. Художественная литература как была, так и осталась одним из важнейших факторов общественной жизни. Мы уйдём, одни скоро, другие не очень скоро, а литература бессмертна.
1983
КАК Я РАБОТАЮМеня часто спрашивают о том, как я работаю. Трудный вопрос! Боюсь, что, если бы я попытался ответить на него со всей тщательностью, на которую я способен, я попал бы в положение сороконожки, которая, стараясь объяснить, как она ходит, запуталась и разучилась ходить.
В ранние годы я тщательно разрабатывал план – главу за главой, прежде чем приняться за работу. Так было с романом о великом русском математике Лобачевском. План был тщательно продуман, материал собран, а роман так и не написан.
Потом я стал свободнее обращаться с планом. Я уже знал, что он сильно меняется, когда начинаешь писать. Принимаясь за работу, я открываю черновую тетрадь. План и заметки, связанные с композицией в общем смысле слова, с постройкой сюжета, наброски диалогов – все находит своё место в этой тетради. Как правило, я пишу медленно, в лучшем случае не больше одного печатного листа в месяц. Всегда завидовал тем писателям, которые работают быстро, и не раз пытался узнать у них тайну этой скорости, при которой книга пишется в течение двух–трёх месяцев.
Один из моих друзей сказал мне, что он работает так: заносит в черновой вариант, не задумываясь, всё, что приходит в голову. Потом, переписывая, вычёркивает примерно треть и таким образом приближается к законченному варианту.
Я попробовал поступить, как он, и выбросил добрую половину. Оказалось, что работа идёт ещё медленнее, чем прежде.
Совсем я не понимаю тех, кто работает, диктуя своп повести или романы стенографисткам. Мне кажется, что на это может решиться только гениальный писатель – Достоевский, Стендаль – художник, владеющий даром почти мгновенной импровизацпи.
Я, к сожалению, этим даром не обладаю. И каждая страница даётся мне с большим трудом.
Иные писатели не возвращаются к однажды написанной и тщательно отделанной фразе. В молодости я был близок с талаптливым писателем, который отделывал каждую фразу до тех пор, пока она не казалась ему совершенно законченной. Тогда он переходил к следующей фразе. На каждой его странице было только по пять–шесть строк, состоящих из многократно зачёркнутых многоэтажных слов.
Если говорить о внешней, технической стороне работы, которая, разумеется, имеет мало общего с внутренней, духовной её стороной, можно сказать, что я пишу так. Передо мной лежат на столе два листа бумаги. На одном я набрасываю фразу, пробую её в уме и на слух. Потом (подчас после многочисленных исправлений) переношу её на другой лист.
Это и есть черновик. На его полях я в свою очередь делаю поправки. К нему же впоследствии возвращаюсь, переписываю его снова и снова.
Известно, что Гоголь советовал первоначальпо набросать задуманное произведение с начала до конца кое–как, а потом постараться забыть его, и по возможности надолго. Разлука с рукописью важна. Она подсказывает новый взгляд на написанное, новый угол зрения. Гоголь возвращался к первоначальному наброску по семь–восемь раз.
Конечно, это далеко не единственный способ работы. Каждый писатель трудится по–своему. Особенности этого труда тесно связаны с его биографией, жизненным опытом, физическим состоянием.
О последнем стоит сказать несколько слов. Работа писателя сама по себе чрезвычайно привлекательна. Она одновременно и мучительна, и доставляет огромное внутреннее удовлетворение, к которому, впрочем, с годами привыкаешь.
Не знаю, как другим, а мне хочется писать всегда – и когда я здоров, и, может быть, ещё больше, когда я болен. Мне не удавалось подчас удержать себя от работы в дни нездоровья, дурного настроения, подавленности – и каждый раз я должен был расплачиваться за своё пристрастие, потому что в понятие вдохновения, мне кажется, неизбежно входит понятие душевной бодрости, физического здоровья.
Это может показаться странным, но, когда я пишу, мне постоянно хочется оглянуться на прежнюю, подчас давно закопчённую работу, и, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что я постоянно существую в атмосфере всей своей деятельности, начиная с первой книги и кончая последней. Это трудно объяснить, а может быть, даже и невозможно. Однако, если бы это было иначе, я не возвращался бы через десятилетия к тем произведениям, которые всякий раз после их окончания вполне удовлетворяли меня.
Конечно, это не значит, это я пренебрегаю колоритом времени, который нашёл отчётливое выражение в моих старых книгах. Я стараюсь сохранить, а иногда и усилить его.
Так, трижды я возвращался к роману «Исполнение желаний», написанному в начале тридцатых годов. Любопытно, что последнее, недавно опубликованное в моём «Избранном», издание связано с работой над сценарием, подсказавшим мне возможность нового, более лаконичного варианта.
Но если бы сценарий не вернул меня к «Исполнению желаний», я, вероятно, все–таки переписал бы его: необъяснимое чувство незаконченности, неопределённости постоянно охватывало меня, когда я перелистывал его страницы…
На первый взгляд может показаться, что жизнь прозаика, к особенности романиста, скучна, очень однообразна. В самом деле, едва ли не девяносто процентов своего времени он проводит за письменным столом. Поэты живут и работают совершенно иначе» Не думаю, что они считаются с тем необходимым режимом существования, который для романиста кажется мне одним из важных условий успеха. Каждый день работал, кажется, один Б. Пастернак, но, конечно, значительную долю его труда поглощали переводы.
Что сказать о подготовке к работе? Я никогда не был сторонником подготовки, связанной с командировками, с направленным, нарочитым изучением материала и т. д. Профессия никогда не мешала мне жить, как живёт подавляющее большинство людей нашей страны. А что касается материала, то он всегда сам находил меня, когда он был мне нужен.
Так, никто не командировал меня в портовые пивные Васильевского острова, куда даже милиция заглядывала не без опаски. Это было в середине двадцатых годов. Мне просто было интересно выйти из своей заваленной книгами маленькой комнаты и посмотреть, что делается по ту сторону моей «книжной» жизни. Так была написана повесть «Конец хазы». Правда, мне пришлось приложить к ней словарь воровского арго: выражений, понятных только тем, кто но обходился без ножа или револьвера.
Охваченный мыслью написать историю современного молодого человека, я в конце тридцатых годов поехал в дом отдыха учёных под Ленинградом и встретил там молодого человека, который, рассказав мне в течение пяти–шестни вечеров историю своей жизни, положил основу для моей пятилетней работы над романом «Два капитана».
С первой же страницы я решил не давать волю своему воображению и, разумеется, не сдержал этого слова. Но мать и отец, сестра и товарищи написаны именно такими, какими они впервые предстали передо мной в рассказе моего случайного знакомого. В сущности, история, которую я услышал, была очень проста: это была история мальчика, у которого было очень тяжёлое детство и которого воспитали люди, ставшие для него родными и поддержавшие мечту, рано загоревшуюся в его справедливом сердце. «Два капитана» – роман о справедливости, которая в конце концов побеждает.
Когда были написаны первые главы, в которых рассказывается о детстве Сани Григорьева в Энске, мне стало ясно, что в этом городке должно произойти нечто необычайное – случай, событие, встреча. И, вернувшись к первой странице, я рассказал историю утонувшего почтальона и привёл письмо штурмана Климова, открывшее вторую, «арктическую» линию романа. Казалось бы, что общего с историей девятилетнего мальчика, оставшегося сиротой, и историей капитана, пытавшегося пройти в одну навигацию Великий Северный путь? Но общее было. Так впервые мелькнула мысль об «эстафете» чести, связавшей двух капитанов.
Трудно или даже невозможно ответить на вопрос, как создаётся та или другая фигура героя литературного произведения. Помимо наблюдений, воспоминаний, впечатлений, в мою книгу вошли исторические материалы, которые понадобились для образа капитана Татаринова. Для моего «старшего капитана» я воспользовался историей двух завоевателей Крайнего Севера – Седова и Брусилова. У первого я взял мужественный характер, чистоту мысли, ясность цели. У другого – фактическую историю его путешествия. Дрейф моей «Св. Марии» совершенно точно повторяет дрейф брусиловской «Св. Анны». Для второго тома мне пригодились личные наблюдения – в годы войны я работал военкором «Известий» на Северном флоте… Можно смело сказать, что каждая книга имеет свою историю. Поставленные рядом в хронологическом порядке, они расскажут жизнь писателя в тысячу раз лучше, чем он сам мог бы это сделать. Одна из таких историй – как был написан роман «Перед зеркалом» – вошла в 6–й том моего последнего собрания сочинений (1981 —1983).
Я уже упоминал о том, что существенную часть подготовки к работе, несомненно, составляет изучение характеров будущих героев. Тургенев был убеждён, что писателю нужно знать о героях значительно больше, чем впоследствии узнает о них читатель.
Думаю, что он был прав и что знаменитый Хемингуэевский «айсберг» вполне укладывается в этот метод работы. Но изучение характеров, поиски первой фразы, которая подчас звучит как камертон на протяжении всей работы над книгой, поиски композиции, поиски стиля – словом, всё, что предшествует работе, окажется бесполезным до тех пор, пока они не сольются с тем, что можно было бы назвать открытием самого себя. В сущности, вся жизнь писателя представляет собой медленное, иногда мучительное и, во всяком случае, требующее глубоких неустанных размышлений открытие самого себя.
Я пишу не только повести, романы, рассказы, но и статьи, очерки, эссе. Идея самооткрытия в разных вариантах неоднократно повторялась в этих произведениях. В последние годы, когда я принялся за новую книгу «Освещенные окна», она приобрела для меня особенное, прямо сказать, практическое значение. Всё, что я написал до этой книги, было открыто (читатель сам может судить, в какой мере мне эго удалось) ключом воображения. Не говорю уже о сюжете, который всегда казался мне оружием, перекидывающим прочный мост между воображением писателя и читателя. Я был и остался писателем сюжетным. Но «Освещенные окна» – это история моей жизни, начиная с детских лет, которую я хочу рассказать, ничего не прибавляя и не убавляя.
Теперь в моих руках был совсем другой ключ – память.
Что же делать с воображением, со всем опытом художественного изображения действительности, которому я так старательно учился в течение многих лет? Как соединить в этой книге опыт писателя и ответственность очевидца?
На этот раз я потратил очень много времени на размышления, прежде чем приступить к новой книге. Я перечитал множество великих мемуаров: и «Поэзию и правду». Гёте, и «Исповедь» Руссо, и «Былое и думы». Я сравнивал их. Я искал в них примера – и не нашёл. Другое время, другая проза, другой век, требующий в стиле лаконичности, в основе задачи – нравственную идею. То, к чему я пришёл в конце концов, трудно объяснить. В первой части, уже законченной, я попытался взглянуть на жизнь глазами современника десятых годов. Жизнь провинциального городка в предреволюционные и революционные годы написана как бы от имени мальчика, юноши, подростка.
Но одновременно я стараюсь попять его поступки, его поведение, все сложности его характера с высоты жизненного опыта минувших десятилетий. То, что осталось неясным, неразгаданным, теперь, когда жизнь почти прожита, я способен, кажется, понять и объяснить себе и другим.
Удалось ли мне открыть героя моего детства, моей юности? Каждая книга – поступок. И, чтобы он совершился, писатель, садясь за письменный стол, должен помнить, что по другую сторону стола сидит читатель с его пристальным, внимательным, строгим взглядом.
1973








