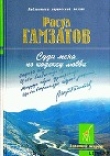Текст книги "Собрание сочинений в трех томах. Том 3"
Автор книги: Василий Федоров
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
И сохранилась в камне
На века.
РАПОРТ НА КРЫЛЕ
До войны– в новосибирском аэроклубе для учлетов был заведен такой порядок: в начальной стадии самостоятельных полетов с командиром' на борту после возвращения на землю учлет выходил на крыло и отдавал рапорт, в котором сам оценивал все стадии своего полета. Например, если он взлетел хорошо, то и должен был, не стыдясь, сказать, что взлетел хорошо; если на первом развороте недоразвернулся и нарушил «коробочку», то есть квадратный маршрут над аэродромом, то и об этом должен был доложить. Причём не надо было принимать в расчет те реплики, которые командир, сидевший в самолете в качестве наблюдателя и пассажира, отпускал во время полета часто от скуки.
У нашего командира А. Курченкова в отношении меня была своя педагогика, казавшаяся мне странной. Положив руки в кожаных перчатках на борта, чтобы я видел его невмешательство, до первого разворота он обычно молчал, но после него начинал говорить мне всякие гадости, приправляя их крепким словом. «Ну что, ну что губы развесил! – начинал он. – Не на телеге же едешь!..» На разворотах я старался делать так, как он же учил – мягко координировать движение рулей, – и слышал реплику: «Ах как нежно!.. Вон Пестов – коротконожка, а как шырнет!..» Ругаясь, он все время наблюдал за мной в зеркала – как реагирую. Реагировал я спокойно, мое лицо не отзывалось на его реплики. Они приучали меня к свободе. После одной из них я начал ходить на посадку с превышением высоты, чтобы терять ее скольжением, поставив машину на бок. При этом она падает вниз со свистом – так, что сопли летят в сторону…
Но однажды его реплики сбили меня с толку. Выйдя на крыло, я начал докладывать о своем полете. Он слушал меня, не перебивая, пока я не сказал: «Кажется, посадил по-вороньи, с плюхом…»
– «С плюхом», «с плюхом»! – передразнил он меня. – Почему это тебе так показалось?! Сажал бы всю жизнь так, хорошо бы было!.. Иди!..
Занимаясь поэзией, я часто вспоминаю это аэроклубное правило – рапортовать на крыле. Каждый поэт должен время от времени выходить на крыло своего Пегаса и отдавать отчет Музе – Что и как сделано, не впадая ни в стыдливость, ни в излишнюю хвастливость. В конечном счете нам от поэта нужны стихи, а не его самолюбие и скромность. Все большие поэты за редким "исключением обладали способностью объективного самоанализа. Оговорюсь, здесь объективность понимается мной в пределах общего самосознания поэта, понимания своего места в общем ряду. Пушкин был объективен, когда после написания «Бориса Годунова» радостно воскликнул: «Ай да Пушкин!» Никому не придет в голову упрекать его в заносчивости и за стихи:
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Сомневался ли Пушкин в своем творчестве?! Думаю, что да, если учесть, что за последние восемь лет его жизни о нем не появилось ни одной специальной статьи. Конечно, сомнения Пушкина не касались его квалификации, а носили более широкий общественный характер: «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды». Он начал ощущать, что общество еще не подготовлено для такого посева, между тем другие думали, что его стихи уже устарели. На этот счет есть прекрасное свидетельство Лермонтова, пришедшего в литературу сразу же после смерти Пушкина:
Пусть прослыву я старовером,
Мне все равно. Я даже рад.
Пишу «Онегина» размером,
Пою, друзья, на старый лад.
И тоже – отчетливое понимание своего места и своей задачи продолжателя пушкинских традиций в поэзии. У Лермонтова мы найдем и более ранние выходы «на крыло», когда им смело заявлялось, кто он и зачем.
Критики Некрасова хватались за его признание «Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть бойцом», чтобы доказать его художественную несостоятельность. Для меня же эти строчки – лишнее доказательство того, что Некрасов отлично знал, что делал. Его честные признания в своих слабостях как раз и говорят о его творческом мужестве и силе. Просто как поэт и боец он был намного требовательней к себе, чем другие.
Откровенность – черта подлинного таланта. Истинный поэт беспокоится не о том, как бы повыгодней себя подать, а едино о том, чтобы не поступиться в документальности мыслей и чувств. Знавший себе цену Блок однажды записал в дневнике, что ему следовало бы временно бросить писание стихов, потому что они стали писаться слишком легко и гладко. В сопротивлении материала он видел залог их содержательности, присутствие в них еще не освоенной жизни, что и составляет главный предмет настоящей поэзии.
У Маяковского мы едва ли найдем такие признания. Поэт-полемист, всецело занятый утверждением своей поэтической платформы «горлана» и «главаря», он заострял и свое и читательское внимание на позитивной стороне своих стихов и своей личности. «Любящие Маяковского – да это ж династия!» – говорит он о себе без тени смущения. И подобных восхвалений мы найдем в его стихах множество. Сегодня, при отсутствии или молчании его противников, самовосхваления Маяковского могут показаться неестественными, но тогда это его запугивание противника имело свой смысл. Но речь не об этом, а о том, что при таком громадном самомнении Маяковский, выходя на крыло своего Пегаса, обретал чувство меры и объективности. Так, сравнивая свои стихи со стихами Блока, он считал, что процент хороших стихов у того меньше, зато есть такие отличные, которых , у него самого нет.
Что касается Сергея Есенина, то кажется, что он всю свою недолгую жизнь стоял «на крыле» и исповедовался, часто наговаривая на себя, как в «Москве кабацкой», много лишнего. Видимо, для таких случаев и существует понятие «лирического героя», когда его образ не совпадает с образом самого поэта, хотя последний исповедуется от своего имени. С точки зрения государственной политики, как мы знаем, нэп был необходимым шагом, но мы также знаем, что в морально-нравственной сфере он выплеснул на поверхность остатки всего буржуазного, все социальные отбросы в их опасной стадии разложения. Чтобы прикоснуться к такому материалу, врач надел бы белый халат и перевязал лицо марлевой повязкой, но поэту делать этого нельзя, больше того, он должен почувствовать «болезнь», чтобы сказать: «Я такой же, как вы, пропащий». При всем при этом Есенин всегда верил в свой талант, как явление большое и национальное.
0, если б вы понимали,
Что сын ваш в России
Самый лучший поэт.
Для поэтов самообман одинаково вреден как при самоуничижении, так и при непомерных претензиях. В первом случае вредна душевная робость, несовместимая с призванием поэта, человека поиска, во втором – его подстерегает опасность утраты чувства реальности, столь же необходимого для саморазвития. История нашей отечественной поэзии полна случаев, когда стихотворцы, подстрекаемые некоторым успехом, громогласно объявляли себя гениями, а потом потихоньку сходили со сцены. Сошлюсь на небезызвестное: «Я гений, Игорь Северянин…» Видимо, жажда слыть гениальным была во все времена. Мне самому приходилось встречать около десятка «гениев». Такое их множество отчасти объясняется полной безнаказанностью хвастовства. Судите сами, если поэт объявляет себя гением и добивается признания, то позднее критики скажут то же, что я сказал выше: «Он всегда верил в свой талант», – если же гениальность не оправдалась, о поэте вообще могут ничего не говорить. Не все ли равно, что тот говорил о себе!
Вернусь к аэроклубному эпизоду с посадкой самолета «по-вороньи». Командир отругал меня за то, что, сделав правильную посадку, я перенес на нее погрешности прошлых посадок, когда мой самолет действительно падал на землю «с плюхом». Это своеобразная болезнь начинающих пилотов, при которой происходит «потеря земли». Пилоту кажется, что земля близка, он начинает самолет выравнивать, чтобы посадить его на три точки, в действительности же до земли еще четыре-пять метров, и, потеряв скорость, машина плюхается на землю. Нечто подобное происходит и с молодыми поэтами. Летит, летит, а потом плюхнется. От этой болезни есть только одно верное лекарство – чаще выходить «на крыло».
ВЕХИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
НАШ ПУШКИН
О Пушкине-поэте надо говорить торжественно,
О Пушкине-человеке – доверительно.
Нас всегда будет занимать чудо или тайна гения. Почему его слово, сказанное более чем полтора века назад, пройдя через многие поколения, пережив многие капризы вкусов и мод, наконец устояв перед сменой общественных формаций, звучит и волнует так, будто оно сказано сегодня? Не следует ли из этого заключить, как пытались не раз, что слово гения – вне времени, вне поколений, вне конкретной судьбы и жизни?
Никакой другой гений не даст нам столько возможностей опровергнуть это ложное допущение, чем гений Пушкина. И никто другой более, чем он, не приоткроет нам тайну своего бессмертия.
Его поэзия – это свет, в котором живут все цвета солнечного спектра. Достаточно свету пасть на душу, как она, подобно призме, обнаруживает все цветовые переливы радуги.
Он погиб в тридцать семь лет, успев поэтически исследовать все состояния человеческого духа: от великих надежд до великих разочарований, от беззаботной веселости до трагизма, от пылкой страсти Ленского до бесстрастной мудрости летописца Пимена, от низкой зависти Сальери до творческих высот Моцарта. К тридцати семи у него уже не было возраста. У него нет возраста и сегодня. С ним юность нашего времени и седая поучительность веков.
Как личность в высшей степени универсальная и гармоническая, он обладал всеми качествами поэта, человека и гражданина, которые нам, строителям коммунистического общества, сегодня особенно дороги:
это пытливый, творческий ум, свободолюбие, гуманизм, трудолюбие, высокое понятие чести, благородство, страсть и предельная искренность.
Невозможно единым взглядом охватить исполинскую фигуру Пушкина, трудно в коротком слове войти во все обстоятельства его жизни и творчества. Остановлюсь лишь на некоторых гранях.
Как поэт и гражданин Пушкин сформировался в годы высшего взлета народного самосознания, связанного с победой в Отечественной войне 1812 года, с движением декабристов. Со многими из них поэт находился в дружеских отношениях и вполне разделял их вольнолюбивые устремления. За три года до событий на Сенатской площади он записал:
«Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян…»
Не менее решителен был он и в своих стихах. Вслед Радищеву, воспевшему свободу, пишет он оду «Вольность», которая потрясает нас своей политической заостренностью:
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.
После оды «Вольность» в стихах Пушкина все громче и настойчивей начинают звучать гражданские мотивы. Выражаясь языком нашей современности, он четко определяет место поэта в общенародном строю.
Есть резкая и важная черта, что отличает его от многих современных ему поэтов. Если Дельвиг и Баратынский были в поэзии частными людьми, то Пушкин – государственным человеком, не в смысле официальной государственности, не по унизительной службе камер-юнкера, а по собственному пониманию нужд русской земли, своего народа, долга поэта, по собственному установлению.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Нам сегодня особенно дорого это высокое понятие чести, поднятое до беззаветного служения Родине.
Пушкин стал великим потому, что своей духовной близостью к декабристам оказался на самой быстрине общественного движения – того движения, которому в родословной нашей Революции В. И. Ленин отведет первое место. Пушкину доводилось часто встречаться с Пестелем – одним из самых последовательных вождей декабризма.
«Только революционная голова, подобная… Пестелю, – писал он, – может любить Россию – так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке».
Здесь впервые русскому патриотизму дано революционно-деятельное направление. Здесь впервые судьба родины прозревается в социальных преобразованиях. Впервые революционер и поэт сближены и поставлены рядом.
Это закономерное сближение станет потом счастливой особенностью русской поэзии. От революционных демократов и Некрасова она перейдет к Октябрьской революции, к таким ее певцам и зачинателям советской поэзии, как Александр Блок, Владимир Маяковский, Сергей Есенин. Через них от Пушкина с нами сохранена временами ослабевавшая, но прямая и непосредственная связь.
Тайна бессмертия Пушкина кроется в его разносторонней образованности, в усвоении им огромных богатств, человеческой культуры. В нем сочетались обширность познаний и редкостное чувство историзма. Историю – и русскую, и мировую, и древнюю, и, по тем временам, новую – он воспринимал не как остывший ряд героических и трагических событий, но как движение и развитие государственное и народное, а у движения и развития всегда есть проекция в будущее. Не только сюжеты давно минувшего, но все, о чем бы он ни писал, высвечивалось у него светом исторической перспективы. Не потому ли так много, сказанного им, оказалось пророческим!
Из русской истории поэт знал, как зарождалось рабство, как утверждалось и ожесточалось крепостничество, как раздаривались и проигрывались деревни, целые волости с их землями и живыми душами. И то, что другим казалось божественным предопределением, для него было результатом земной несправедливости. Вот почему Пушкин был особенно внимателен к таким народным движениям, как крестьянские войны Степана Разина и Емельяна Пугачева. В расцвете своего поэтического творчества, невзирая на бездорожье, он отправился в Оренбургские степи и собрал драгоценный для народа материал о Пугачевском восстании.
Народность – еще один гарант пушкинского бессмертия.
До Пушкина, по существу, было три языка: старославянский, удержанный церковью, условно-поэтический, начиненный старославянским, и разговорный, представленный в литературе лишь жанром басни. Условно-поэтический язык сковывал развитие словесности, и не случайными были попытки выйти за его пределы.
В год, когда двенадцатилетний мальчик появился в Царскосельском лицее, Жуковский с большим вкусом составил и напечатал избранные стихи русских поэтов, В этих лучших образцах уже блистали многие элементы нового поэтического стиля. Однако нужен был поэт, который вобрал бы в себя все эти достижения, переплавил их в горниле собственной личности, начал строить нечто новое и оригинальное.
Таким стал Пушкин. В удивительно короткий срок, каких-то четыре года, он заканчивает школу ученичества, освобождается от последних следов архаики и приходит к естественной разговорной речи. Все, что не ложилось в громоздкие стилистические конструкции торжественных од и подражательных стихов прежних поэтов, теперь выходило из-под его пера свободно и раскованно.
В цепкой памяти Пушкина хранились и просились в стихи подлинные сокровища – народные песни и сказки. Напевая и наговаривая их своему Саше, Арина Родионовна, сама того не ведая, открыла ему дверь к народности, бывшей до того в литературе за семью печатями.
Постигнуть механизм сказки было все равно что разгадать тайну ее долголетия. И тайна далась Пушкину в работе над первой же крупной поэмой «Руслан и Людмила». Здесь русская поэтическая речь получила современное звучание, а стиль обрел законченную форму, которая и поныне служит образцом естественности:
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
После этой поэмы русский разговорный язык стал в литературе не просто послушным строительным материалом, но и могучим творческим двигателем.
На пути к поэтическим высотам – мастерству и народности – Пушкина сопровождал еще один учитель, о котором нельзя умолчать сегодня. То был неведомый гений двенадцатого века, создавший поэму «Слово о полку Игореве». Эта удивительная поэма была открыта в пору, когда в нашей поэзии еще бытовали «Тилемахиды», «Петриады» и «Россиады», которые после Пушкина нам уже трудно читать. Поэма обнаружила искусственность многих поэтических созданий минувшего XVIII века. С нею до нас дошла одна из многих народных трагедий Руси, истерзанной нашествиями кочевых племен и междоусобицами русских князей. Добрым сердцем отозвался наш поэт на далекий плач Ярославны. Решусь утверждать, что без этого шедевра древности мы не имели бы блистательных поэм Пушкина в их истинно народном значении.
Поэма «Руслан и Людмила» с ее сказочностью была лишь первым этапом в постижении народности. Поздний опыт привел Пушкина к мысли, что народность – это более чем сказочность, более чем верность родному языку и родной истории. В понятие народности он вкладывает весь образ мыслей и чувствований, принадлежащих какому-нибудь народу. У великого поэта на всем будет печать народности, даже в случае, если сюжет будет взят в иноязычных хрониках. Размышляя на эту тему, Пушкин записал, что «мудрено отнять у Шекспира в его «Отелло», «Гамлете», «Мера за меру» и проч. – достоинства большой народности».
Незадолго до этой записи Александр Сергеевич закончил своего «Бориса Годунова» – драму во всех отношениях народную и потому ревностно любимую самим Пушкиным. Ничего не боявшийся, он опасался ее неуспеха, потому что неудача с ней могла замедлить преобразование русской сцены.
В этой драме впервые на русскую сцену выходит народ не только как действующее лицо, но и как окончательный судья трагическим событиям истории. После того как Мосальский, один из убийц детей Годунова, объявляет, что они отравили себя ядом, и побуждает толпу кричать здравицу новому царю, Пушкин дает последнюю ремарку: «Народ безмолвствует».
Сказанное мною прежде во многом относится к историческим обстоятельствам, в которых развивался пушкинский гений. Они, между прочим, существовали и для других современных ему поэтов. Но надо было быть Александром Пушкиным, чтобы воспользоваться всеми этими обстоятельствами, и надо было обладать каким-то особенным восприятием мира, темпераментом, впечатлительностью и душевной отзывчивостью – короче, всем тем, что составило «магический кристалл» пушкинского гения.
«Что нужно драматическому писателю?» – спрашивал Пушкин и отвечал: «Философию, бесстрастие (в смысле объективности, – замечу я. – В. Ф.), государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. Свобода».
Великий поэт перечислил все те качества, которыми обладал сам. К этому следует прибавить смелость. Он сам об этом качестве сказал так: «Есть высшая смелость. Смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслию – такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гете в «Фаусте», Мольера в «Тартюфе». Такова, скажем мы, высшая смелость и самого Пушкина. Он умел взглянуть на мир с таким в него проникновением, что с мира " слетала шелуха условности, привычности, казалось бы, незыблемости. До нас дошли непосредственные движения его сердца, как самородное золото, без посторонних примесей.
Не только поэт, драматург, прозаик, но и глубокий критик, Пушкин внимательно следил как за русской литературой, так и за литературой Запада, отмечая особенности каждой. Его оценки лучших стихов того времени и поныне удивляют нас своей точностью. На критику же собственных стихов он отвечал лишь тогда, когда полемика могла иметь принципиальное значение. Сегодня мы поражаемся, узнав, что в последние годы критика не жаловала поэта, что седьмая глава «Евгения Онегина» не имела успеха. Его упрекали в том, что век и Россия идут вперед, а стихотворец будто бы остается на прежнем месте. Возражая на это, Пушкин, всегда стремившийся «быть с веком наравне», высказывает острую мысль:
«Век может идти себе вперед, науки, философия и гражданственность могут совершенствоваться и изменяться, – но поэзия остается на одном месте. Цель ее одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другими – произведения истинных поэтов остаются свежими и вечно юны».
С тех пор как была высказана эта мысль, в науках действительно многое состарилось, но произведения истинного поэта остались свежими и юными, потому что целью его поэзии был человек, а средством – живое слово.
Критика не могла угнаться за ним. На первых порах она не могла не заметить новизны «Руслана и Людмилы» и ждала, что поэт будет создавать нечто в таком же роде. А он, отдав дань романтизму, пошел к русской реальности – «Евгению Онегину», «Борису Годунову», «Дубровскому», «Повестям Белкина». Не видя, с чем сравнить эти произведения в русской литературе, критика по привычке стала отыскивать подобия в поэзии западной, – у Байрона, например. Благо, что был к тому формальный повод. Но Евгений Онегин, как русское явление, не мог отвечать нормам Чайльд-Гарольда, тогда Онегина стали объявлять некой тенью байроновского скитальца.
В начале своей критической деятельности даже Белинский поддался на этот искус, но потом, уже после смерти поэта, когда критик отошел от своих гегельянских абстракций и стал измерять поэзию мерой жизненного опыта, мерой русской действительности, он увидел в Пушкине воистину народного, воистину великого поэта.
Настоящий литературный герой – всегда плоть от плоти своего века. Недаром Белинский назвал роман «Евгений Онегин» энциклопедией русской жизни. Его главный герой несет на себе все черты того времени, в том числе и самую главную: в нем заложена энергия поиска решений социальных вопросов, тех самых, которые пытались решить декабристы: ликвидировать рабство, духовно раскрепостить личность. Не случайно Евгений, приехав в деревню, начал заниматься социальной самодеятельностью.
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Евгений Онегин – родоначальник многих литературных героев, порожденных в поздние времена, не говоря уже о самом ему близком – Печорине. С годами этот образ развивался и трансформировался, менял свое социальное положение, расширял и углублял свою политическую программу в зависимости от того, на каком этапе его заставало русское освободительное движение. Уже у Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо» появляется герой, вышедший из народа, – Григорий Добросклонов.
Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.
Пушкин стоял у многих истоков нашей общественной и духовной жизни. Все, к чему он прикасался, носило печать долговечности.
Пушкин, как явление русской культуры, стал жить как бы в двух измерениях – в толковании критики и в творчестве его продолжателей. Ни в одном из этих направлений не обходилось без разноречивых толкований, споров и борьбы. В шестидесятых годах минувшего века Писарев, например, начисто отрицал достоинство романа «Евгений Онегин», не видя в нем зримой, прикладной пользы. Даже великие последователи поэта, истолковывая Пушкина, нередко вольно или невольно выдавали за его воззрения свою собственную философию. Так случилось с Достоевским, который приписал Пушкину идею христианского смирения: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость».
Другие сознательно суживали социальное значение многих стихов Пушкина. Это были сторонники так называемого «чистого искусства». Они отыскивали у поэта строчки вроде «Подите прочь, – какое дело поэту мирному до вас!» – и, пренебрегая подлинным их смыслом и причинами их написания, строили свои воздушные замки. В отличие от Пушкина эти поэты не видели высшей цели поэзии: «Судьба человеческая, судьба народная».
К счастью, на пути к нам у Пушкина было куда больше защитников. Его любила и знала передовая мыслящая Россия. Его любил Владимир Ильич Ленин. И в сибирской ссылке, и позже, в Кремле, книги великого поэта были всегда в числе настольных книг вождя революции.
К Пушкину вполне приложимы слова Ленина, сказанные в 1910 году в связи со смертью Льва Толстого: «Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот».
Наша партия шла к революции с двуединой задачей – социального и духовного раскрепощения народа. Не мог быть духовно свободен человек, не умевший читать Пушкина и Толстого, не владевший даже зачатками общей культуры. Народ сел за букварь и книги, но тут появились буйные головы, решившие сбросить классиков с парохода современности и построить некую новую пролетарскую культуру. Ильичу не раз приходилось отрезвлять этих путаников. Обращаясь к делегатам Третьего съезда комсомола, он сказал:
«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Ленин говорил это молодым людям двадцатого года, многие из которых или вовсе не знали Пушкина, или стеснялись признаваться, что знают его стихи, особенно те, нежные, которые про любовь.
Если в эпических и драматических вещах Пушкина нас поражает грандиозность замыслов, смелость изобретения, то в лирике – неотразимое обаяние личности, душевно открытой во всем: в озорстве, в суровости и непреклонности, в нежности и любви, особенно в любви. Кажется, что он не писал о любви, а сама любовь говорила его стихами. В мире было много поэтов, воспевших это великое чувство, но мало кому удавалось с такой непогрешимостью передать музыку любви. Среди многих были такие великие, как Байрон и Гейне, но мы не найдем у них пушкинской самозабвенности и благодарности любви. Мрачный гений Байрона относил любовь к разряду болезней: «Любовь-болезнь, горьки ее кошмары», – писал он. Иронический Гейне прятал свое настоящее чувство за масками иронии и насмешливости, тогда как Пушкин был открытой книгой природы. Он любил поземному, слова его были земными, и все-таки в них было много от извечного стремления человека к высоте.
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Может быть, в силу особенности пушкинского гения ему, как никому другому, посчастливилось высветить нравственную основу любви, если хотите, – ее философию. В истинной любви человек проявляет свою истинную природу, в ней проявляется высшее самосознание человека, не позволяющее никакого притворства, в ней человек осознает неповторимость своей личности и свое предназначение на земле.
На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой…
Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.
У Пушкина широкое поле контрастов. То мы видим Марину Мнишек – холодную и расчетливую авантюристку, то открываем новую книгу и встречаемся с Татьяной Лариной – душой открытой и доверчивой, простой и благородной, всегда женственной, всегда верной своему женскому достоинству. Во все времена о Тане, пожалуй, было сказано намного больше, чем о предмете ее любви. Значение этого обаятельного образа, беспредельно любимого самим Пушкиным, трудно .переоценить и для нашего времени. Она настолько живая, настолько реальная, что иногда кажется, ее можно встретить в нашей жизни. Невольно приходишь к допущению – если бы Таню в ее ранней поре свести с нашими современницами, закончившими среднюю школу, то через час-другой они бы уже поверяли друг другу свои сердечные тайны.
И еще одна грань.
Все исследователи, и прошлые и настоящие, сходятся на том, что Пушкину с одинаковой свободой давались сюжеты и характеры как русские, так и чужеземные. Это его качество можно отнести на счет общей образованности, обширного знания мировой литературы, наконец, артистичности натуры, способной перевоплощаться, но более всего, как ни парадоксально, оно родилось от глубокого знания русской природы, национального русского характера и русского языка. Человек, не знающий своего народа, никогда не поймет соседнего; человек, не знающий себя, никогда не постигнет другого. Потому-то Пушкин так искусно превращает псевдонародные «Песни западных славян» Мериме в истинно славянские. Его «Каменный гость» исполнен в испанском духе, «Скупой рыцарь» – вещь рыцарская, хотя рыцарство – явление чисто западное.
Воспитанный на русской истории, гуманист Пушкин никогда не болел болезнью национальной ограниченности. В понятие «Русь» он вкладывал, по существу, уже наше современное содержание многонародности и многоязычия. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык», – читаем мы в его «Памятнике».
Пушкин пристально и мудро наблюдал, как развивались и углублялись связи между народами, как все бессмысленней становились раздоры и войны. В неоконченной поэме «Тазит» юноша, воспитанный в чужом горном ауле, познавший другой народ, уже не может исполнить закон кровавой мести.
Пушкину была душевно-близка и понятна идея братства народов. И потому так современно звучат его стихи «о временах грядущих», когда «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».
Сегодня высокие идеи гуманизма стали глобальными, они требуют практического осуществления. В голосе советского народа, призывающего к миру и дружбе, звучит и голос нашего великого поэта. И в этом его непреходящее мировое значение.
Кто ищет дружбы, тот находит ее. В мире у Пушкина много друзей, понимающих его великую роль, но у него есть и враги. Враги Пушкина – это враги мира, враги добра и красоты.
Те, кто швыряет книги Пушкина и других гуманистов в костры современной инквизиции, знают, что Пушкин делает нас сильнее, непреклоннее в защите добра и разума, человеческого достоинства и свободы. Он делает нас сильными тем, что учит любить Родину, ее историю, ее славу; тем, что этой же любовью учит нас любить все человечество.
Давайте в свете сказанного прочтем и такое пророчество Пушкина: «России определено было высокое предназначение».
Кочуя по трудам ученых, по книгам литераторов, эти пушкинские слова в последующие десятилетия приобретали порой мистическое, мессианское звучание. К светлому гению Пушкина это не имеет никакого отношения. Высокое предназначение России он видел, чувствовал, прозревал в ее не разбуженных тогда социальных творческих силах, в способности ее народа разбить тяжкие оковы самовластья и угнетенья, сказать в истории свое неповторимое и весомое слово.