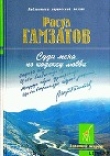Текст книги "Собрание сочинений в трех томах. Том 3"
Автор книги: Василий Федоров
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
По России – матери моей.
* * *
В стихах Прокофьева много сказочного, но, если приглядеться и прислушаться, вся сказочность обернется двумя сказками. Одна сказка – Россия, другая сказка – любовь. И эти две сказки идут всегда рядом, и от них веет чистотой и какой-то опьяняющей прохладой. Стихи о любви – не отхожий промысел поэта, не экзотическая приманка читателя. По ним в не меньшей мере, чем по стихам о Родине, можно судить о нравственном облике поэта, больше того – о моральном облике поколения и даже целой эпохи.
Александр Прокофьев как человек и поэт формировался в революционные годы. Он участвовал в боях гражданской войны, в восемнадцать лет был уже коммунистом. Все это сказалось на его стихах о любви. Безнравственность – всегда продукт неверия и обреченности, а революция могла совершиться только в безграничной вере. Любовь пришла «строгой любовью». Но, когда ее начали упрощать, Прокофьев одним из первых написал стихотворение «В защиту влюбленных». К нему дано авторское замечание «Любовь у проходных ворот, у проходных контор в творчестве некоторых советских поэтов стала таким же шаблоном, как ряд рифм, эпитетов, сравнений». Заприметили такие поэты в Таврическом саду влюбленную пору, арестовали, привели в цех, надели на молодых спецовки и сказали: «Вам любиться тут».
И, уже не верящий удаче,
«Сжальтесь! – закричал жених тогда. —
Неужели вы, смеясь и плача,
Не любили в жизни никогда?
Неужель закат, что плыл над городом,
Красоты великой не таил?» —
«Нет!» – сказали стихотворцы гордо
И ушли к чернильницам своим.
Этому стихотворению много лет, но и теперь оно отрезвляет тех, кто «украшает» любовь металлоконструкциями, как будто она не прекрасна сама по себе. Нет, Прокофьев не придумывал никакой особой любви, не выдвигал никакой особой программы. Он писал то, что чувствовал, что думал, и получалось высоко и красиво. «Птицы плещут шумными крылами над проселком, пройденным тобой». Что стоит за этими строчками, если их истолковать? Прежде всего – нравственное здоровье, характерное. не только для самого поэта, но и для всего поколения.
Поэзия любви Александра Прокофьева – земная, хмельная, восторженная: «Я тебя достану, Настя, где б ты, Настя, ни была!» Скажут: при чем здесь эпоха? Просто у Прокофьева характер такой, просто он молодой и дерзкий: захотел «достать» Настю – и говорит. Все правда – и что молодой, и что дерзкий. А разве Блок не был молодым и дерзким, и разве он меньше любил? Все было у него. Но даже в дерзости молодого Блока чувствуется отчаяние. Не случайно он так хорошо понял Катулла, потому что и сам только что вышел из нравственного кризиса старого буржуазного общества. А Лермонтов? Уже в пятнадцать лет он сводит трагические счеты с любовью. Его «Демон» – крайняя реакция на беспросветность. Трагедия Демона, духа изгнания, в том, что он бесплоден и духовно и физически. И ни к чему ему вечное бессмертие. Зато молодой Пушкин, друг декабристов, до легкомыслия радостен в любви. Даже печаль разлуки наполняет его душу блаженством: «Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою». У Прокофьева много от этого. Не надо искать построчных совпадений. Здесь не прямое влияние, хотя оно и возможно, а родство по молодости века. У Пушкина: пал Наполеон, надежда, что падет самодержавие. У Прокофьева: пало самодержавие и все, что мешало жить. Идущие к победе и победители великодушны.
Не боюсь, что даль затмилась,
Что река пошла мелеть,
А боюсь на свадьбе милой
С пива-меду захмелеть.
Я старинный мед растрачу,
Заслоню лицо рукой,
Захмелею и заплачу,
Гости спросят:
«Кто такой?»
Ты ли каждому и многим
Скажешь так, крутя кайму:
«Этот крайний, одинокий,
Не известен никому!»
Ну, тогда я встану с места,
И прищурю левый глаз,
И скажу, что я с невестой
Целовался много раз.
«Что ж, – скажу невесте, – жалуй
Самой горькою судьбой…
Раз четыреста, пожалуй,
Целовался я с тобой».
Все стихотворение написано о событии воображаемом. Но нет сомнений, что лирический герой Прокофьева так бы и поступил. И заплакал бы не шутя, и сказал бы не шутя, что сказал. Это даже не упрек, а скорее форма прощания благородного человека. Благородство всегда немного наивно. Видимо, из-за наивности это стихотворение воспринимается многими как шуточное.
Тема любви у Прокофьева развивается по двум руслам. Одно русло лирическое, другое эпико-сказовое. С характером лирических стихов мы только что познакомились. В них есть тоже сказовые элементы, но все же преобладают личные мотивы, как, например, в «Трех открытках на Юг». Здесь главный мотив совершенно реален: «Там любит меня иль не любит веселое солнце одно?» И сказка появляется лишь тогда, когда нужно поманить любимую к себе на Север, «где присказки по воду ходят, а сказки на елках сидят!». В эпико-сказовых стихах личные мотивы, как правило, отсутствуют. Написанные по законам свадебно-обрядовых и плясовых песен, они имеют объективно народную основу:
Чок-чок, каблучок.
В чистом поле ивнячок.
А мне, девушке, видна
Только ивинка одна.
Или:
То ли топнуть вдруг,
То ль не топнуть вдруг?
На дороге
Мои ноги —
Лучше топну, друг!
В поэтических завоеваниях Прокофьева на долю этих стихов приходится не так уж много. Секрет простой. Положение лирических и эпико-сказовых стихов оказалось неравноправным. Для подкрепления личных мотивов поэт шел за сказкой, а когда писал сказовые, скупился обогатить их личными мотивами. Его плясовые и обрядовые песни стали жить сами по себе как напоминание о тех источниках, из которых поэт все время черпает немалыми ковшами. Видимо, для самого поэта они сыграли роль своеобразной прививки, когда он начал работать над песней, особенно в тридцать седьмом и тридцать восьмом годах. Тогда написано много песен, в том числе:
Коль жить да любить – все печали растают,
Как тают весною снега…
Звени, золотая, шуми, золотая,
Моя золотая тайга!
Для песенных стихов Прокофьева этого периода характерна условность психологического рисунка. Личные обращения явно рассчитаны на то, чтобы они могли подойти наибольшему числу или читающих, или поющих.
Вообще поэты старшего поколения в стихах о любви заметно сдержанны. Твардовский, например, почти совсем не писал иа эту тему. Любовь в стихах Исаковского носит безличный характер. Исключение составляют, пожалуй, Н. Тихонов да Прокофьев. Но при всем жизнелюбии Прокофьева, при всем охмелении любовью для него существуют строгие границы. Под его пером тема любви никогда не превращается в интимную тему, как у К. Симонова в его «С тобой и без тебя» или у некоторых более молодых, часто теряющих чувство такта в описании интимных отношений.
Прокофьев полемизирует:
…А что потом?
Да надо ль снова
Опять кричать про ремесло?
Да неужели наше слово
Заморской пылью занесло?
Иль в дни великого горенья
И вдохновенного труда
«Я помню чудное мгновенье»
Мы не читали никогда?!
Здесь пушкинская строка говорит о многом. Она как бы определяет эстетическую и нравственную норму интимного. Пушкин не был стыдлив, под его пером все становилось прекрасным, ибо все окрашивалось истинной страстью. Переведите в рассудочный план его стихотворение. «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…» – и все станет пошлым. Влюбленные, не замечая того, могут говорить глупости, ибо их чувство неизмеримо богаче их слов. Если поэту удается передать богатство чувств, внушить читателю свое волнение – а волнение любви всегда благородно, – поэт может не чураться интимных тем. Взволнованный рассказ о женщине возвышает ее. Поэзии противопоказано хвастовство соблазнителя. И прав Прокофьев, когда осуждает ремесленничество. На осуждение имеет право поэт, написавший:
Я не знаю, что бы с миром стало,
Если б в мире не было тебя!
Зрелый, сложившийся поэт похож на спортсмена, добивающегося рекорда. Для очередной победы спортсмену нужна прибавка всего в каких-то пять-десять сантиметров. Всегда эти пять-десять сантиметров даются ему с величайшим трудом. Но, если эта прибавка дана, судьям не составляет труда зафиксировать победу. К сожалению, в поэзии фиксация этих пяти-десяти сантиметров проблематична, а между тем с ними связан непременный качественный сдвиг.
Примером может служить «Приглашение к путешествию» – одна из последних книг Прокофьева, получившая Ленинскую премию. Об этой книге написано много хороших статей, интересных исследований. Но она рассматривается критиками в пределах рекорда, зафиксированного прежде. Критика справедливо замечает, что в стихах «Приглашение» вернулся драматизм раннего Прокофьева, позднее несколько ослабленный. Да, но возвращение утраченного еще не движение вперед.
Для того чтобы лучше приметить новое, обернемся еще раз на прежнего Прокофьева, на характер его стихов. Он всегда был поэтом действия. Все его стихи – это поступки, прямые проявления силы и воли. Наугад раскрываю книгу, читаю:
Россия! За каждой избою
Звезда молодая встает,
Березы собрались гурьбою,
В черемухах ветер поет!
Нельзя не заметить, что смысловое значение строк здесь падает на глаголы, тогда как в «Приглашении», где их тоже немало, они играют вспомогательную роль. Действие уступает философской мысли:
Нет в России города без славы,
Местной, повсеместной, мировой.
На своих птенцов глядит Держава,
Видит их с горы сторожевой.
…Высоки их стяги боевые,
Широко их солнце зацвело.
С высоты веков глядит Россия,
И на сердце у нее светло!
В лучших стихах «Приглашения к путешествию» сохранены черты действия, активности, но к ним прибавилась новая: философское осмысление действия. Даже драматизм вернулся уже другим. У раннего Прокофьева преобладал драматизм ситуации. Вспомним «Смерть пулеметчика Евлампия Бачурина». «У Бачурина – тоже труба, по-матросски звучащая – амба! Сбит подносчик патронов – второй нумерной».
Вот и все.
Дальше вот что, ребята:
Подошла смерть вплотную,
И ничто не спасет —
Под живот пулемета подкладывается граната,
Пулеметчик ложится на пулемет.
Вот и все!
Дважды повторенное «вот и все» как бы подчеркивает бесполезность дальнейшего разговора. «Что мне, плакать прикажете, по большом человеке горюя?» Теперь поэт не торопится поставить точку после смерти друзей-товарищей, наоборот, он призовет их засвидетельствовать честность, смелость, несгибаемость оставшихся в живых. «И друзья, что были рядом с нами, из могилы голос подадут». И о Земле теперь он скажет по-другому: не словами сказок, а словами жизни, словами минувших испытаний.
Что-то отлюбилось, позабылось,
А земля по-прежнему мила,
Вот она сейчас дождем умылась
И зеленой шалью зацвела.
…Кто ее нарушить попытался,
Тот увидел в лютом гневе нас.
Я давно с тобой, Земля, братался,
Побратаюсь вновь в который раз!
Есть и еще внешне малоприметные сдвиги. Мной отмечены лишь главные, качественные. Изменились и функции фольклора. В нем теперь сказывается больше поэтическая инерция, скорее нагрунтовка холста, смягчающая резкость мазков.
Я не ставил перед собой задачи входить во все подробности творчества Прокофьева. Мне хотелось обнаружить главный круг мыслей в их связи и развитии. Я отмечал лишь то, что мне близко и дорого. Как критик я был бы обязан, например, остановиться на книге «Заречье» с ее стихами и поэмой «Юность», подготовившими успех «Приглашения к путешествию». Положение читателя облегчило мне задачу подчеркнуть то принципиально новое, что было в поздних стихах маститого поэта.
Предо мной лежат книги поэта – ранние и поздние. Передо мной два портрета – ранний и поздний. С одной фотографии на меня смотрит молодой чубатый парень с озорными глазами, а с другой – почти непохожий на этого паренька человек. И пришла мысль: человек может уйти от своей юности, от своего прежнего облика, а поэт при всей внешней изменчивости продолжает сохранять черты своей юности. В отношении Александра Андреевича Прокофьева мне больше нравится свидетельство стихов, чем фотографий.
РОССИИ ПРИВЕРЖЕН
Ярослав Смеляков представляется мне старинным цеховым мастером, добротность изделий которого гарантирована вековой репутацией цеха. Если такой мастер делал замок, то этот замок отвечал и условиям надежности, и условиям красоты. Он мог оказаться несколько тяжеловатым, но зато его уже не откроешь ни гвоздем, ни двухкопеечной монетой.
Такое представление о Смелякове еще больше укрепилось во мне после встречи с его стихами под общим заглавием «День России». В одном из лучших стихотворений этого замечательного цикла поэт сравнивает себя с Иваном Калитой, «на паперти жизни» впрок собирающим слова: «ведь кто-то же должен наследство для наших копить сыновей».
Нелегкая эта забота,
Но я к ней, однако, привык:
Их много, теперешних мотов,
Транжирящих русский язык.
Далеко до смертного часа,
А легкая жизнь не нужна.
Пускай богатеют запасы,
И пусть тяжелеет мошна.
Словечки взаймы отдавая,
Я жду их обратно скорей,
Недаром моя кладовая
Всех нынешних банков полней.
И смысл, и лексика этих строк заставляет меня продолжить сравнение. Ключ от смеляковского «замка» не станешь носить в кармане. Его нужно хранить в каком-то особом, дальнем месте, ибо исключена суетливая и праздная беготня в кладовую его поэзии. Предвижу возражения: поэт не скупой рыцарь, чтоб закрываться. Его поэзия и его словарные кладовые открыты для всех… Но в том-то и дело, что в отношениях поэта и читателя, в отношениях поэта к поэту существует принцип избирательности. Кроме того, на мой взгляд, в. одном лице поэт соединяет и скупого рыцаря, и его расточительного сына. Золотой серединой этого единства как раз и будет Иван Калита, который пустит свои богатства в оборот, чтобы крепить и расширять державу русской поэзии. Тот знаменитый луидор, омытый слезами вдовы, над которым сладострастно дрожит скупой рыцарь, еще вернется к отдавшим его. Это сделает Иван Калита Смелякова.
Эту книгу большого поэта читаешь с оглядкой на все его творчество. Что она развивает, что отрицает и есть ли в ней черты принципиально новые? Не произнесет ли поэт горестные слова, некогда сказанные Блоком: «Молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда!»
Нет, подобного восклицания в этой книге Смелякова мы не найдем (если не считать галантного извинения перед женой Пушкина за допущенную по отношению к ней бестактность). Не найдем мы творческих покаяний и в прежних его книгах, тогда как еще совсем недавно каялись в своих грехах даже молодые, не успевшие нагрешить.
У Ярослава Смелякова нет нужды отказываться от того, что было сделано им более чем за три десятка лет.
В чем секрет его творческой устойчивости, пронесенной через трудные годы народных и личных испытаний? Да в том, что он с самого начала выбрал для себя безошибочного лирического героя – строителя новой жизни, творца пятилеток, дело которого не может поставить под сомнение ни один скептик. Развитие героя, усложнение его характера стало развитием и усложнением характера самого поэта, хоть резких временных граней, как признает сам поэт, в его стихах нет. Действительно, прочтите «Смерть бригадира», «Машиниста», «Милых красавиц России», «Кладбище паровозов», наконец, «Строгую любовь» и вы убедитесь в этом.
Настоящий поэт всегда знает, что главная творческая проблема не количественная, даже не качественная (в смысле формальной техники), а более значительная: проблема развития личности, более глубокого осмысления жизни, ее противоречий. Если бы уже к тому, что у него написано, Смеляков присовокупил два-три десятка новых стихов, даже своего лучшего уровня, но уже знакомого «круга», – это едва ли что прибавило бы к его имени, к общему весу его творчества. Просто стало бы больше стихов одного поля, стоящих рядом и подменяющих друг друга. У Смелякова я заметил лишь один случай такой подмены. У него есть стихи о лошади и о собаке. Их поэтический «антураж» разный, а идейная подоплека – одинакова. И вот, перелистывая его однотомник, я уже не обнаружил в нем стихотворения о лошади, хотя оно и написано на высоком поэтическом уровне. Строгость и взыскательность – качества благодарные. Они в полной мере проявились в стихах цикла «День России».
В чем же новизна этих стихов Смелякова в сравнении с уже известными его стихами? Чтобы ответить на этот вопрос, требуется более пристальное их изучение. Но все-таки вот две-три иллюстрации к моей мысли. Возьмем стихотворение «Камерная полемика». Одна молодая поэтесса, «живя в достатке и красе», изучая жизнь из окна электрички, увидела женщин-работниц, обедавших на придорожной насыпи. Вместо салфеток лежали холстинки, тут же лопаты, ломы… Так вот «младая поэтесса» позавидовала им. Ей вдруг захотелось опроститься, сесть с ними рядом и прочее. Поэт же говорит:
…А я бочком и виновато
И, спотыкаясь на ходу,
Сквозь эти женские лопаты,
Как сквозь шпицрутены, иду.
После этих строк ясно, сколько иронии вложено в название «Камерная полемика». Однако главное не в этом, а в том, что чувство заключительной строфы могло родиться только в последние годы. На своем веку поэт видел женщин и с лопатами, и с тачками. В годы первых пятилеток, в годы Отечественной войны, да и поздней это было как бы естественно, привычно, даже героично. Немало стихов и поэм было посвящено образу такой трудящейся женщины. Но сегодня – при высоком уровне нашей техники, экономики и высоком самосознании – женщина с кувалдой может вызвать у поэта только угрызения совести.
Второй пример – стихотворение «Русский язык». Как правило, к таким темам поэты обращаются в начале пути и в зрелом творческом возрасте. В первом случае – для того, чтобы определить свой взгляд, укрепиться в нем. Чаще всего эти стихи декларативные. Во втором – чтобы закрепить опыт жизни, сделать из него свои творческие выводы, предостеречь:
Владыки и те исчезали
Мгновенно и наверняка,
Когда невзначай посягали
На русскую суть языка.
Наконец, скажу несколько слов о названии книги. Некоторые наши критики, да и поэты, очень стыдливо относятся к слову «Россия» – под тем предлогом, что-де нельзя всуе употреблять святое имя. Во-первых, всуе нельзя употреблять вообще никакие имена, во-вторых, имя матери тоже святое, но это не значит, что сыновья должны перестать произносить слово «мама».
«День России» – отличное название.
С ХАРАКТЕРОМ БОЙЦА
В музеях можно увидеть изображение раба с покорно опущенной головой. Если бы даже не было никаких письменных свидетельств об античном рабстве, мы все равно поняли бы, что существовала какая-то недобрая сила, перед которой человек склонил голову.
У нас есть плакаты с изображением борцов за мир. Их лица гордо и непреклонно подняты, губы сомкнуты, брови сдвинуты. Непреклонность эта вызвана волей к борьбе с мрачными силами, которым передовое человечество противопоставило свою решимость. Плакаты пишутся с нас, они передают наше состояние, и мы порой не замечаем всех тонкостей письма. Но людям коммунистического будущего это бросится в глаза.
Вот два изображения: опущенная голова раба и гордо поднятая голова борца. Потребовались века напряженной трагической борьбы, чтобы человечество от одного изображения пришло к другому. И литература на протяжении многих веков занималась тем, что объясняла общественные, моральные, психологические причины этого процесса.
В конечном счете каждый большой поэт, писатель отражает историю борьбы за счастливое будущее. Но есть поэты, писатели с наиболее выраженным характером бойца. В числе таких мы видим Николая Грибачева.
Знакомство с его творчеством наталкивает на любопытные размышления. Прежде всего о жанровом разнообразии. Грибачев одинаково хорошо владеет пером поэта, публициста и прозаика. Поэтическая его работа разнообразна – стихи, поэмы. Пример поучительный. Многожанровость не прихоть писателя, а необходимость, вызванная его боевой позицией. Для того чтобы нарисовать благородный образ парторга Зернова, нужна поэма, а на изображение какого-нибудь ренегата – фельетон. Чем разветвленней корневая система, тем больше питательных соков получит зеленое дерево жизни. Жанры помогают друг другу. В фельетонных строчках о предателе Говарде Фасте, возомнившем, что его уход из коммунистической партии нанесет невосполнимый урон социалистическому движению, чувствуется разгневанное сердце поэта: «Это – обычное заблуждение человека, вздумавшего определять свой рост по тени, которую он отбрасывает на закате». Блестяще сказано!
Обогащая писателя, жанры диктуют более четкий отбор по принципу: богу – богово, кесарю – кесарево, а поэзии – поэтичное. То, что можно сказать в прозе, нет нужды зарифмовывать.
Можно писать отдельные статьи о Грибачеве-рассказчике, Грибачеве-публицисте, но все же главным в его творчестве – и по стажу и по итогам сделанного – является поэзия. Он вошел в нее как солдат с большим и суровым опытом жизни.
И я, покамест смерть не погасила
В моих глазах последнюю звезду, —
Я твой солдат, твоих приказов жду.
Веди меня, Советская Россия, На труд,
на смерть,
на подвиг —
я иду!
Эти строчки не декларация. Написанные в минуты коротких фронтовых передышек, они сказали уже выверенное сердцем и разумом. В 1939 году Грибачев участвовал в освободительном походе наших войск в Западную Белоруссию, в 1940 году он воевал на финском фронте, в годы Великой Отечественной войны поэт был на фронтах под Москвой и Сталинградом. Для стихов этой страдной поры характерны документальность, категоричность образа, не терпящая двойных толкований. Поэт, командир батальона, рапортует Родине. Никаких подтекстов. Что сказано, то и сказано. Категорическая манера письма чувствуется во всем – в пейзаже, в передаче интимных чувств, в описаниях боя и военного быта:
Прилег товарищ, но не спит,
Он памятью, наверно, дома,
и перетертая солома
под головой его шуршит.
Дни мира сложней, богаче и разнообразней дней войны. Если поэта-фронтовика устраивали две-три краски, две-три интонации, то для изображения мира нужно все цветовое и звуковое богатство, Николай Грибачев почувствовал это, как только смолк грохот орудий.
Так этот день казался нов,
В такой красе возник,
Что мы молчали – новых слов
Еще не знал язык!
Позднее к нему придут новые, нужные слова, но еще долго, даже .в описаниях природы, будут являться сравнения из военной жизни: «Молний гвардейский залп поле изрезал сплошь…»
Не стихи военных лет принесли Грибачеву известность. Завоевание читателя началось в мирное время, мирной темой. В 1947 году поэт написал поэму «Колхоз «Большевик», а через год – «Весна в «Победе». Обе поэмы были высоко оценены. За них Грибачев был дважды удостоен звания лауреата Государственной премии. Читательское внимание благотворно сказалось на развитии поэта, который стал расти буквально на глазах. Уже между поэмами «Колхоз «Большевик» и «Весна в «Победе» есть принципиальная разница.
В первой поэме десятки героев. Что ни глава – новый герой, новая проблема. Здесь и радист, осваивающий рацию, и столяр Петька, предложивший делать мебель своими силами, и кошох Карп, заботящийся о выполнении пятилетки «в смысле коня», и грозная бригадирша Матрена с выводком девчат, и бригадир Иван с Аннушкой, сделавшей мужу намек «в смысле ребенка». И наконец, старшина, уехавший учиться в институт, а позднее, по возвращении, составляющий проект колхозной электростанции.
Многие из глав, особенно о старшине, могли бы отпочковаться и лечь в основу самостоятельных крупных вещей.
Поэма интересна, своеобразна по краскам, по ритмике, по характеристикам. Но когда начинаешь читать «Весну в «Победе», понимаешь, что она выше первой. Устремления ее героев те же, манера письма та же. Разница в том, что вся ткань поэмы каждой нервинкой своей связана с ее центральным образом – парторгом Зерновым, человеком большой красоты и редкого мужества. Всю жизнь он отдал народу, чтобы сделать его жизнь богаче, радостней, умнее, прошел через войну, через холод и голод. И вот износился. Смерть уже ходит вокруг, стережет. И он знает об этом. Но всеми помыслами он с людьми, ои продолжает оставаться бойцом. К нему приходят за советом и уходят от него окрыленные. Он думает о судьбе отбившегося от рук паренька, как о судьбе родного сына:
Наш довоенный недогляд,
что рушит ряд, что портит лад…
Прекрасно написана глава предсмертных видений парторга.
Образ Зернова – большая удача поэта. Читателю не нужно сорок маленьких героев, дайте ему одного, но такого вот, глубокого, большого!
У Грибачева много поэм. «Видлица» и «Судьба» написаны еще до войны, «Ким Ир Сен» и «У наших знакомых» – позднее. Разговор о них мог бы обогатить читательское представление о поэте Грибачеве, однако это особая тема.
Но, как и должно, особенно ярко перемены роста отразились в лирических стихах Грибачева. Лирика чутка к переменам. В ней мы подмечаем новые черты, которые можно охарактеризовать таким понятием, как потепление души. В прежних стихах образ борца за правду был прямолинеен и суров: «И я смирял себя в себе, и шел и вел навстречу бою». Никаких слабостей, никаких сердечных признаний! В число же слабостей попадала и простая человеческая доброта. Но странное дело, теперь поэт не боится признаться в своих человеческих слабостях, а между тем знакомый нам образ выигрывает.
Прочтем стихотворение «Ненастный вечер». На дворе разгулялась пурга. Девушка не встретится с любимым. Прежде поэт сказал бы: «Экая" беда!.. В мире такое творится!» Теперь же поэту ее жаль:
Только сердце велит пожалеть…
Видно, так вот всю жизнь мы и будем
Биться насмерть за правду – и млеть
В нерастраченной нежности к людям.
Палитра художника стала мягче, изображение объемистее. Если в прежних стихах убеждало свидетельство очевидца, то теперь появилась художественная убедительность образа. Для того чтобы изобразить курицу, не нужно выписывать каждое перо. Раньше мера мысли и чувства была ограничена строгой документальностью образа, теперь же образ получил перспективу, и каждый читатель найдет в нем свою меру глубины мысли и чувства. Это похоже на две струны. Они кажутся одинаково неподвижными. Но одна струна действительно неподвижна, а другая при этом издает звук.
Все большие поэты росли в борьбе. Отвечающий только за себя, заботящийся только о себе дряхлеет и выпадает из литературы, как зуб, потерявший своего напарника.
Не всякая борьба плодотворна. Метать громы и молнии по поводу того, что кто-то случайно наступил тебе на ногу, – занятие бесплодное. Нужно правильно определить противника. Грибачев его определил. Это те, кто мешает нам строить коммунизм. Среди них противники открытые и скрытые, международные и доморощенные, сознательные, а иные противники по «неразумению», вроде деляги Холодкова из поэмы «У наших знакомых». Они заставили поэта овладеть более совершенным поэтическим оружием, философски осмыслить свое место в жизни.
При этом поэт не рядится в тогу непогрешимости:
Я человек, что в спешке толп несметных
И погрешит, и погрустит за двух,
И попусту обронит слово злое,
И разъярится, сплетней с толку сбит,
И вынырнет не сразу из-под слоя
Каких-то вовсе мелочных обид.
Хоть в три, архангел, загреми трубы:
По воем краям бурлит без исключенья,
По всем сердцам проходит фронт борьбы.
Повторяю, поэзия Николая Грибачева разнообразна. Он понимает и любит природу. «Набиваюсь в родню к лесам, набиваюсь к полям в родню». Ему дано увидеть и подслушать в природе то, что может увидеть и подслушать только поэт.
И сад вздыхал тепло и сонно
И пил, набравшись новых сил,
И травы поднимались, словно
Их кто-то за уши тащил…
И птицы пели, пели, пели
По местожительствам своим,
И дождь то заглушал их трели,
То подражать пытался им.
У Грибачева много стихов посвящено деревне, ее людям. Некоторые из них очень напоминают отрывки, главки из поэм. Прежде чем нарисовать большую картину, художники рисуют этюды – портреты, пейзажи, отдельные детали. На выставках этюды часто экспонируются рядом с картиной. Имеет на это право и поэт. Но в ряду стихов-этюдов у Грибачева есть вещи, по поводу правомочности рождения которых хочется поспорить. Сначала прочтем одно место из авторского предисловия к его двухтомнику: «Кстати, у нас в последнее время начало вырабатываться этакое пренебрежительное отношение к материальной стороне бытия и в чистую поэзию стали зачисляться лишь томные охи и лирические вздохи».
Отбросим охи и вздохи. Если уж они есть, то зачислять их куда-то надо. Поговорим о материальной стороне бытия, в каких случаях она достойна поэзии. Мы живем в эпоху великих открытий, в эпоху быстрого накопления материальных ценностей. Огромная страна похожа на строительную площадку: воздвигаются города, большие и малые электростанции, металлургические заводы. Мы освоили космическую скорость, которая в недалеком будущем станет бытовым понятием. Все это достойно поэзии. Но возьмем стихи о наших спутниках. Много ли удач? Их почти нет. Ничего, кроме охов и ахов. Правда, эти охи и ахи другого порядка, нежели те, которые осуждает Грибачев. А ведь о спутниках писали поэты талантливые. В чем же причина неудач? А в том, что это событие застало нас врасплох.
Поэзии достойно все, что формирует нового человека, что сказывается на его судьбе, а мы еще не нашли психологической связи между человеком и спутником. Он оторвался от нас и улетел. Предметом поэзии должны стать те перемены, которые происходят в человеке в связи с великими и малыми открытиями, в связи с материальной стороной, о которой говорит поэт.
В свете этих рассуждений перечитываем стихотворение «Сторожа». Дед дежурит в сельсовете. Посмотрел газеты, свернул цигарку, затянулся, подошел к карте, пофилософствовал. Телефонный звонок. Звонит сторож другого сельсовета, такой же старичок. Начинается разговор о том, о сем. Так – от скуки.
И про верные приметы
Ливней будущих и рос
Разговаривают деды
Через ночь и двадцать верст.
Деды выполняют иллюстративную роль. Они здесь нужны лишь для того, чтобы показать, что техника входит в сельский быт. Из отношений самих стариков поэзия не извлечена, а «материальная сторона» сама по себе не вызывает интереса. То же самое можно сказать и о стихотворении «Саня», в котором показано, как хорошо пользоваться мотоциклом, когда нужно поспеть во многие места. Значит, материальная сторона жизни может иногда загородить человека. К счастью, в стихах Грибачева последних лет духовный мир человека занимает все большее и большее место.
* * *
Иному читателю Грибачева может показаться, что во имя борьбы поэт временами поступается личным, индивидуальным. Но тот, кто правильно прочитает Грибачева, поймет: именно в строю бойцов поэт по-настоящему обретает себя.
И растворяюсь в их судьбе,
Чтоб вправду стать самим собою…