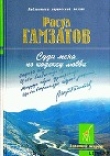Текст книги "Собрание сочинений в трех томах. Том 3"
Автор книги: Василий Федоров
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
ДОЛГ ПАМЯТИ
Вероятно, как и многим ныне работающим поэтам, в молодости мне довелось пройти начальную школу литературных объединений. Правда, работая на заводах в три смены, я не всегда мог их посещать аккуратно, отчего мое знакомство с некоторыми их членами было, к моему нынешнему огорчению, шапочным. Так, до сих пор мне жаль, что мне не довелось сойтись с двумя молодыми поэтами: до войны в Иркутске – с Иваном Черепановым, во время войны в Новосибирске – с Борисом Богатковым. Оба были талантливы, оба не вернулись с Отечественной. Возможно, поэтому они стоят в моей памяти всегда рядом, чем-то похожие друг на друга.
Чем? Схожестью судеб? Но я знаю только их последний исход. Чем-то другим. Пожалуй, тем, что уже тогда они для меня были поэтами, вокруг них уже складываласьатмосфера того дружеского обожания, какое выпадает на долю обещающего таланта.
В моей памяти они стоят в таком соседстве, что иногда кажется, будто Борис Богатков – это новое проявление характера Ивана Черепанова в годы военных испытаний, хотя по годам Иван, кажется, был на несколько лет старше Бориса. Для того чтобы объяснить этот сдвиг своей памяти, приведу два сходных примера из жизни этих двух поэтов.
Помню, в Иркутске, пропустив одну-две встречи, я шел к Василию Стародумову, работавшему тогда в нашей заводской многотиражке. Если в его квартире был беспорядок, надо было ждать восторженного возгласа:
– Чего же ты опоздал? У меня только что был Ваня Черепанов! – и, захлебываясь от восторга, начинал рассказывать, как после стихов любимый им Ваня перевернул в его квартире все кверху дном. От Стародумова же я узнал, что бесшабашный поэт, с которым меня так хотели свести из особого любопытства – что получится? – побывал в Москве, добился встречи с Алексеем Толстым и сочинил разговор с ним, очень напоминавший воображаемый диалог Пушкина с русским императором.
И вот уже в Новосибирске, когда я стал изредка приходить в литобъединение при Союзе писателей, меня встречали возгласами, знакомыми по Иркутску:
– А у нас был Боря Богатков! Какие стихи прочитал!
Тут я невольно осматривал помещение – не найду ли вещественных следов его пребывания, но все вещи стояли на своих привычных местах. Новосибирский вариант «моего поэта» был строгим, собранным, торопливым. После госпиталя Борис Богатков с лермонтовской жаждой жизни торопился снова на фронт. Именно жажда жизни призывала его к активной борьбе, к боевым товарищам, которых он вынужденно оставил на фронте. Это его настроение передавалось через отдельные фразы, брошенные им, через стихи, только что прочитанные на ходу:
У эшелона обнимемся.
Искренняя и большая,
Солнечные глаза твои
Вдруг затуманит грусть.
До ноготков любимые,
Знакомые руки сжимая,
Повторю на прощание:
«Милая, я вернусь».
Потом я видел эту девушку – сестру одного из наших литкружковцев, высокую и голубоглазую, едва ли понимавшую всю глубину чувств, вложенных в простые по форме стихи. Нет, совсем не хочу сказать, что она была равнодушна к стихам, скорее, наоборот, она была к ним, может быть, слишком привычна, чтобы выделить их из множества стихов молодых поэтов, окружавших ее. Меня всегда удивляла в этих стихах наивно-смелая характеристика – «искренняя и большая». Очень уж как-то просто. Но теперь вижу в ней «зерно» той настоящей поэзии, которая всегда чуралась вымученных красивостей.
Я должен вернуться, но если…
Если случится такое,
Что не видеть мне больше
Суровой родной страны, —
Одна к тебе просьба, подруга:
Сердце свое простое
Отдай ты честному парню,
Вернувшемуся с войны.
Как-то по-народному мудро и просто. Теперь для меня это больше, чем стихи. Это подлинный человеческий документ, скрепленный печатью судьбы.
Потом, когда он уехал на фронт, его внешний облик у меня стал ассоциироваться с обликом Александра Матросова, фотографии которого появились в печати: знакомое лицо рабочего парня, сверстника, грамотного больше по жизни, чем по книгам, самозабвенно верящего в коммунистическое будущее, не допускавшего в мыслях ни крохотной возможности того, что Советская страна может оказаться побежденной фашистами. И то, что фашисты оказались на нашей земле, было для него не только противоестественно, но и несовместимо с сознанием собственной жизни, жизни товарищей, всей страны. Отечественная война стала для него не только всенародной, но и глубоко личной.
Впереди – города пустые,
Нераспаханные поля.
Тяжко знать, что моя Россия —
От того леска – не моя…
До Отечественной, борясь с собственнической психологией, мы ко всему приставляли не «мое», а «наше». Теперь, по законам диалектики, высшее чувство коллективизма проявилось в богатковском частнособственничестве: «Моя Россия». Отсюда все – горечь, гнев, порыв – «только бы прозвучал короткий, долгожданный приказ: «Вперед!»
По тем личным впечатлениям, которые я вынес из короткого пребывания Богаткова в Новосибирске, и по немногим его стихам у меня сложился образ удивительно цельного молодого человека, я бы сказал, типичного для предвоенных и военных лет. Не случайно его внешний облик у меня ассоциировался с Александром Матросовым. Наверно, и душевно они были братьями-близнецами. Оба погибли в одном всепоглощающем порыве «Вперед!». Мне кажется, в поэме Александра Смердова «Пушкинские горы», посвященной памяти Бориса Богаткова и Георгия Суворова, это душевное состояние в момент атаки передано сильно и точно:
Сейчас – минута дорога —
Она пришла, настала…
…В глаза багровая пурга
Озлобленно хлестала.
Вперед, вперед – стихи поют,
Над глухотой, над болью.
«Есть упоение в бою» —
Не это ль? Не оно ли?..
Ни в его человеческом поведении, ни в его поэтическом проявлении себя не было ничего случайного. Его короткий, но яркий жизненный путь опровергает утверждение некоторых «теоретиков», отказывающих героическим проявлениям личности в элементе сознательности.
Для Богаткова отважная боевая жизнь была программной еще до армии. Среди его немногих вещей есть стихотворение «Сквозь ливень», написанное в 1940 году, в котором говорится, что лучше смело шагать сквозь грозу, чем, переждав ее, плестись потом за другими. Судя по стихам, он все время выверял себя не только в морально-нравственном плане, но и в своей социальной принадлежности. Он пишет о своей ранней зависти к отцу, принадлежавшему к железной когорте коммунистов-революционеров, о готовности с оружием в руках защищать его завоевания («Совершеннолетие», написанное, видимо, тоже до войны).
Передо мной лежит тоненький сборник стихов «Родина», изданный в Новосибирске в 1944 году. Он открывается стихами Бориса Богаткова, а закрывается моими. Нас представили читателю в алфавитном порядке, но если бы этот порядок был иным, все равно сборник следовало бы открыть стихами Богаткова. Так программно они звучали тогда, так звучат и сегодня:
Молодость за все родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам своим!
Когда я думаю о Богаткове, я всегда вспоминаю и других талантливых ребят, погибших на взлете и не успевших развиться в ту полную силу, какая была им дадена природой и жизнью. Для меня память о них – не только воздание почести, но и факт творческий. Однажды войдя в мою жизнь, они никогда не выходили из нее. В трудные минуты – житейские ли, творческие ли – они как бы призывались мною для работы. Одна мысль, что, будь в живых, эти ребята такое бы выдали! – придавала мне силы, находчивости. Без этой внутренней ответственности перед их памятью, как перед памятью многих поэтов и не поэтов, во мне было бы меньше творческих сил, меньше стойкости в своих убеждениях. Больше того, я думаю и о том, что, будь они живы, они бы имели возможность развить свои поэтические идеи, отстаивать их, завоевывать и воспитывать своего читателя. Значит, живущим сегодня поэтам надо помнить, с какими верованиями и чаяниями они ушли от нас, понять эти верования через их слово, оставленное нам. По возможности взять на себя хоть часть не сделанной ими работы в поэзии. В этом и заключается главный долг нашей памяти.
Для меня встреча со стихами Бориса Богаткова – больше, чем встреча с юностью. Радостно сознавать, что душевные порывы погибшего поэта продолжают оставаться с нами. Так, я очень обрадовался, когда встретил его стихи в большом томе «Библиотеки поэта» рядом со стихами других поэтов, разделивших общую судьбу. При этом пришлось и огорчиться. Не знаю, по чьей вине – вине ли составителей книги В. Кардина и И. Усок – в стихах появились неоправданные поправки, кем-то и непонятно зачем дописанные строфы. Зачем, например, было менять «Совершеннолетие» на – «Из школьного дневника»? Но это еще самое невинное вмешательство в текст. Читаю стихи:
Вспоминаю с гордостью теперь я
Про рассказы своего отца.
Самому мне Родина доверит
Славное оружие бойца.
Охватило страны пламя злое
Новых разрушительных боев,
Вовремя пришло ты,
Боевое Совершеннолетие мое.
Встану я, решительный и зоркий,
На родном советском рубеже,
С кимовским значком на гимнастерке,
С легкою винтовкою руке.
Вторая строфа, невесть откуда попавшая в стихи, как ватная прокладка, только ослабляет общее впечатление. Сами стихи очень ранние, они, конечно, слабей поздних, но ведь «Охватило страны пламя злое», дописанное кем-то вовсе беспомощно. Приведу еще один пример грубого вмешательства в текст. В подлиннике Богаткова:
Как партийцы шли вперед бесстрашно,
Сквозь свинец и ветер, а потом
Зло скрестили в схватке рукопашной
Взгляд со взглядом, штык с чужим штыком.
А вот что вышло из-под пера ревнителя ученической правильности:
Как партийцы шли вперед бесстрашно,
Шли,
а ветер заглушал «ура-а»,
Как скрестили в схватке рукопашной
Взгляд со взглядом,
штык с штыком врага.
Совершенно очевидно, что поводом для присочинительства послужила грамматическая неустойчивость слова «зло». Об этом говорит поправка: «Как скрестили…» Но, во-первых, поэтическую фразу надо было прочитать полностью, чтобы понять, в каком качестве употреблено «зло». После прочтения совершенно ясно, что оно употреблено не в качестве имени существительного. Во-вторых, если бы поэт был жив, ему в случае сомнения можно было бы предложить поправку, но, когда его нет в живых, сочинительство за него – неприлично. Свои стихи с их отдельными неловкостями поэт подтвердил собственной кровью, они стали историческим документом, с которым надо обращаться осторожно. В этом тоже долг нашей памяти.
КОММЕНТАРИИ НА ПОЛЯХ
Старый мир отпел свои песни.
В наше время невозможно появление ни Редьярда Киплинга с его колониалистской филантропией – «несите бремя белых», ни его русского соперника Николая Гумилева, хвастливо писавшего:
Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Старый мир еще существует, но он уже давно похоронил своих певцов. Ни один истинный поэт, уважающий себя и слово, не станет воспевать, например, Чомбе или его белого покровителя из главного штаба неоколониализма. Все песни на стороне Патриса Лумумбы, который и сам был поэтом.
Поэзия – это юность народов. Наш советский мир юн, и потому в нем так любят поэзию. Человечество не знало
более поэтической цели, чем коммунизм. Если оно за последнее столетие стало более зрелым, доросло до сознания полнейшей нетерпимости всякого угнетения, в этом первостепенная заслуга коммунистических идей, заслуга великого союза революционеров и поэтов, заключенного еще в глубине веков. Они всегда были рядом у колыбели новизны.
Напрасно кое-кто говорит, что великие открытия века упразднят поэтическое слово. Наоборот, с каждой нашей научной и технической победой будет побеждать и поэзия. Уже сейчас Дни поэзии стали в нашей стране такими же народными праздниками, как День авиации, День танкиста, День урожая и другие почетные «дни». А всякий праздник – самая массовая и самая радостная форма общения людей/ Цель моих «Комментариев» в том и состоит, чтобы содействовать такому общению.
Представьте, из леса привезли дерево. По одному дереву еще нельзя судить о всем лесе. Все ли там деревья такие, или это одно – исключение? В лесу надо побывать. Точно то же можно сказать о поэтах, когда они представлены одним или несколькими стихотворениями. В данном случае я взял на себя приятную обязанность побывать в «лесах» и «рощах» нескольких, совершенно разных поэтов и поделился тем, что я приметил. Делясь своими впечатлениями, иногда беглыми, я не хочу давать качественных оценок, для этого в каждом отдельном случае пришлось бы заниматься более пристальным исследованием. Мне хочется лишь по возможности объяснить некоторые их особенности – то, чем они интересны прежде всего для меня, а может быть, и для других.
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ
Однажды, просматривая комплект «Сибирских огней» более чем тридцатилетней давности, я натолкнулся на одно из первых стихотворений Леонида Мартынова. Оно было написано под сильным влиянием Сергея Есенина и отличалось формальной простотой. С той поры его поэтика претерпела эволюцию – от классической устойчивости формы к большой ритмической маневренности. И все чаще стали раздаваться голоса: «Мартынов сложен», «Мартынов непонятен». Как ни странно, эти голоса принадлежали критикам, то есть людям, которые в силу своей профессии должны бы анализировать и объяснять сложное.
Кстати, о сложности. Некоторые утверждают, что для нашего времени характерна именно усложненность стиха. Объясняют это явление тем, что усложняется мир, в котором мы живем, и техника, в частности. Но замечено, что техника усложняется лишь до тех пор, пока не накапливается опыта, достаточного для того, чтобы найти принципиально новое, простейшее решение вопроса. Так, появление полупроводников в электротехнике сделало ненужными многие технические детали. Нечто похожее происходит в поэзии. Поэт большого таланта и жизненного опыта говорит афоризмами, при которых совершенно лишними становятся промежуточные звенья. Появляется тенденция к предельной краткости. В этом отношении книга «Стихи» Мартынова показательна. Она вся состоит из коротких вещей. Для примера процитирую из нее пять характерных строк.
Из смиренья не пишутся стихотворенья,
И нельзя их писать ни на чье усмотренье.
Говорят, что их можно писать из презренья.
Нет!
Диктует их только прозренье.
Во имя краткости и афористичности поэту в какой-то мере пришлось поступиться предметностью. Все реже встречаешь в его стихах живописание деталей.
Тебя я рисовал.
Но вместо тела
Изобразил я полнокровный стебель,
А вместо плеч нарисовал я листья,
Подобные опущенным крылам.
И лишь лицо оставил я похожим…
Проблеме взаимоотношений жизни и искусства Мартынов посвятил немало стихотворений. Среди них только что процитированный «Подсолнух», «Прохожий» и другие. Стихотворение «Пустота» посвящено той же теме. В нем речь идет о том, что, «когда раскапывали Помпею, нашли под слоем пепла ряд пустот», при этом не знали, как заглянуть в них, чтобы узнать, что же это такое. II тогда придумали залить пустоту раствором гипса, как заливают литейные формы.
И этот гипс заполнил пустоту,
И приобрел он очертанья тела,
Которое давным-давно истлело
В объятьях пепла. И не красоту
Являл тот слепок, а предсмертных мук
Невыразимо жуткую картину:
Несчастного помпейского детину,
От глаз не отрывающего рук.
Это стихотворение Мартынова наиболее сложное. Две трети его – экспозиция, выписанная предметно. Здесь все просто и ясно. Сложность не в экспозиции, а в переходе от предметного образа «пустоты», бывшей когда-то человеком, к обобщению через отвлеченное понятие пустоты, лишенное прежней предметности.
Я видел эту скорбную статую,
Напоминающую о беде…
И если слышу проповедь пустую,
Хоть чью угодно, безразлично где,
И если слышу я пустые строфы,
И перед беспредметным полотном
Я думаю лишь только об одном:
А какова причина катастрофы?
Конечно, сложно перейти от зримой пустоты к пустоте проповеди, к пустоте строфы и полотна. Но, преодолев эту сложность, начинаешь понимать глубокую мысль автора, заключенную в вопросе: «А какова причина катастрофы?» Мысль такова: если строфа пустая, то поэт наверняка пережил какую-то катастрофу, при которой в душе его что-то выгорело. Точно то же произошло и с художником, написавшим беспредметную картину. Это сложно, но постижимо.
НИКОЛАЙ УШАКОВ
Известный наш поэт Николай Ушаков живет и работает в Киеве. Ему обязаны мы многими высокохудожественными переводами украинских поэтов – и классиков, и наших современников. Оригинальный лирик, Николай Ушаков, на мой взгляд, еще не оценен в полную меру критикой. Как и Василию Казину, советская поэзия и ее широкий читатель обязаны ему тем, что еще в конце 20-х годов тему труда он сделал предметом высокой поэзии.
В нем все органично. После такого стихотворения, как «Кладбище паровозов», не поражаясь переходу, наслаждаешься дерзкими философскими стихами «Мастерство»!
Мир незакончен
и неточен —
поставь его на пьедестал
и надавай ему пощечин,
чтоб он из глины
мыслью стал.
Николай Ушаков последователен и поступает точно так с поэтическим сырьем, добиваясь выразительности образа. Он давно породнил в своих стихах суровую, огнедышащую домну и нежный, кудрявый подсолнух:
Домна твердила:
«Дыши, гуди
жаром и пылом песенным».
Как распустился подсолнух среди
ввинченных в небо
лесенок?
Паровички розовели во рву.
Бункеры были темными.
Подсолнух сказал мне:
«Я здесь живу
и, видите,
дружен
с домнами?»
Не надо думать, что Ушаков – «рабочий поэт», как у нас принято квалифицировать поэтов, занятых рабочей темой. Нет, Ушаков по своей «строчечной сути» интеллигент, но с широким кругом интересов. Загляните только в оглавление его книг, и вы увидите любопытное соседство таких стихов: «Адмирал землечерпалок», «Похищение Афродиты из Музея изящных искусств», «Признаки весны», «Университетская весна».
Это он произнес классическую фразу об умении поэта не только говорить, но и терпеливо молчать: «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь». Этот мудрый афоризм следовало бы вывесить над своим рабочим столом каждому поэту, особенно молодому с его естественной страстью к писанию. Поэтов часто упрекают за то, что они молчат. К сожалению, бывает не за что похвалить и тогда, когда они много пишут.
Однажды, получив стихотворение Николая Николаевича «Новая весна», в редакции журнала «Молодая гвардия» вспоминали, что его первое, напечатанное журналом в 1928 году стихотворение было посвящено тоже весне и называлось «Ледоход». Найдя тот номер, мы прочли буйные строки:
…У льдов и воронок
глухая игра.
Взлетают вороны
и бродят ветра.
Как верен себе этот поэт! Иные на всю жизнь задают себе молодеческий тон, а между тем у каждого возраста есть свои достоинства. Буйство молодости сменяется зрелостью мысли, мягкостью красок, как мы это видим в поздней весне Ушакова.
Вое осторожней наблюдаешь
за солнышком в голубизне,
весну с тревогой ожидаешь
и так завидуешь весне —
и этим мальчикам зеленым
с их бедной рифмой корневой,
и этим девочкам влюбленным
с практической их головой,
и этим зданиям высотным,
еще не знающим жары,
и этим прутикам, свободным
от прошлогодней мишуры!
Этому стихотворению поэт предпослал эпиграф из Фета: «В эфире песнь дрожит и тает, на глыбе зеленеет рожь, и голос нежный напевает: «Еще весну переживешь!» С особым поворотом мысли эпиграф вошел в конец стихотворения:
И вновь таинственно и нежно
на глыбе
голубеет рожь,
и в сердце тихая надежда
еще весну
переживешь!
В чем здесь особость мысли против фетовской? На первый взгляд в итоге она одна и та же: «еще весну переживешь!». Но первая половина стихотворения подготовила иной, более глубокий и активный поворот мысли. Смысловая нагрузка подготовки поворота пала на строчки: «и этим прутикам, свободным от прошлогодней мишуры». Здесь подмечено такое состояние природы, когда она, не считаясь с тем, что было сделано ею в минувшем году, готова работать заново: раскрывать на прутиках почки, украшать прутики новыми листьями и новыми плодами.
В том и разница, что концовка Фета звучит со стороны как предопределение судьбы, а у Николая Ушакова надежда пережить еще одну весну родилась с готовностью начать новый круг творчества. По существу, зеленые мальчики «с их бедной рифмой корневой» – те же прутики, вызывающие добрую зависть маститого поэта, отчего стихи становятся по-своему молодыми. Они как бы говорят: «Я еще с вами!» И нам радостно, что поэт Николай Ушаков с нами.