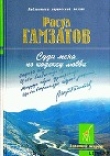Текст книги "Собрание сочинений в трех томах. Том 3"
Автор книги: Василий Федоров
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
ДВА ИЗМЕРЕНИЯ
Первая книжка Юлии Друниной не отмечена высоким поэтическим мастерством, но в ней есть неоспоримое достоинство подлинного и искреннего поэтического документа. Наконец-то вместо мимолетных видений регулировщиц и медсестер на поэтической автостраде появилась живая фигура девушки-фронтовика, у которой свой сложный духовный мир, свой голос, не очень громкий, но очень правдивый. Он рассказывает о себе и о других:
Я ушла из детства
В грязную теплушку,
В эшелон пехоты,
В санитарный взвод.
Стихам Друниной чужда легкомысленная стилизация. Они наиболее действенны, когда говорят о настоящем времени, о только что происшедшем, еще остро ощущаемом. Об этом недавно пережитом поэтесса стремится сказать как можно более сжато и выразительно:
Целовались,
Плакали
И пели.
Шли в штыки.
И прямо на бегу
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
Из трех разделов книжки – «По горячему пеплу», «Памяти однополчан» и «Дома» – самым интересным следует признать первый. Он состоит из коротких дневниковых записей. Юлия Друнина – лирик по складу своего дарования. Каждое стихотворение – душевная разрядка. Это простые и искренние стихи. Сильные страсти всегда требуют простых выражений, но от этого их сила нисколько не теряется. Отсюда предельная сжатость и точность слова в наиболее удавшихся стихах. Их хочется запомнить, потому что в них много умной доброты и светлой сердечности. Они раскрывают перед читателями скромный и обаятельный образ фронтовой подруги, советской девушки, отдавшей себя делу победы.
Во «Вступлении» к книге есть стихотворение, написанное еще в 1939 году, когда поэтесса, очевидно, еще училась в десятилетке. Здесь такие строки:
Я люблю нашу жизнь за кипенье,
За романтику будничных дней.
Стихи Друниной, особенно первого раздела, вполне оправдывают эту заявку. В доказательство одно стихотворение выпишем полностью:
Кто-то бредит,
Кто-то злобно стонет,
Кто-то очень, очень мало жил,
На мои замерзшие ладони
Голову товарищ положил.
Так спокойны пыльные ресницы,
А вокруг – нерусские края.
Спи, земляк.
Пускай тебе приснится
Город наш и девушка твоя.
Может быть, в землянке, после боя,
На колени теплые ее
Прилегло кудрявой головою
Счастье беспокойное мое.
(1944)
Будничный факт фронтовой жизни здесь получает подлинно поэтическое раскрытие. Привлекателен образ и самого поэта, умеющего видеть и выражать большой и хороший смысл повседневных и обычных поступков, совершаемых советскими людьми. Это оригинальные стихи. Иногда оригинальность путают с формальной замысловатостью. Настоящий поэт добивается предельной выразительности и ясности, устраняя всякие формальные препятствия, мешающие глубокому восприятию поэтической идеи произведения. Любое «украшательство» было бы чуждым и инородным телом в приведенном нами стихотворении, стояло бы на пути воплощения его замысла.
Язык лучших стихов, получающих всеобщее признание читателей, обычно предельно прост, внешне почти прозаичен, зато исполнен внутренней поэтичности. Такие стихи диктуются жизнью, в них содержится оригинальная и верная идея, они украшены душевной красотой поэта. У Друниной есть такие стихи, привлекающие своим внутренним благородством.
Лучшее в книжке стихотворение посвящено памяти Героя Советского Союза Зины Самсоновой. Оно хорошо прежде всего тем, что здесь дано самое душевное действие, а не комментарии к нему. По этому действию мы узнаем характер героя и, узнав его, поверим в его лучшие стороны. По одному факту мы догадываемся о многих.
Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть,
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле. —
Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня – лишь она одна.
Две девушки – две судьбы. Какой задушевный чистый разговор, какое проникновенное, искреннее чувство!
Мы видим, что для этих девушек, настоящих советских девушек, подвиг – это закономерность.
…Зинка нас повела в атаку.
Полны трогательного недоумения последующие строки:
…Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Три маленькие главки одного стихотворения рассказывают о большой жизни. В какой-нибудь час совершились огромные перемены – не стало подруги. Мы слышим почти те же слова, но в новом значении. Их говорит уже другая, как бы продолжая прерванный смертью разговор:
Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет,
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
В дни войны советские поэты, более опытные и умелые, чем Друнина, написали много сильных и правдивых стихов о борьбе советского народа против гитлеровской Германии. Круг наблюдений Друниной не широк, тесно связан с ее личным, непосредственным опытом – девушки на войне, но эти свои наблюдения и переживания молодая поэтесса раскрывает с той моральной чистотой, с тем душевным здоровьем, с той органической преданностью общим, всенародным задачам, которые характерны для советской молодежи.
Но как бы разнообразна и богата событиям ни была война, она беднее мира. Молодая девушка, пришедшая на фронт из десятилетки, сразу же нашла свое место в строю,, определенное приказом командования. Вернувшись из армии, она ищет свое место на фронтах послевоенной пятилетки. Перед нею разнообразнейший мир творческого, созидательного труда. И новые задачи встают перед ней. Друнина стала поэтом на фронте именно потому, что безо всякой дурной «литературности» писала о войне, выражая чувства и мысли рядовых советских людей. Теперь же она хочет прежде всего проявить свою поэтическую «особость», и это препятствует ей свободно и сильно рассказать о реальной действительности, которая отличала ее фронтовые стихи. Этот процесс преждевременной профессионализации был заметен и у других молодых тогда поэтов. Они были заняты не столько окружающей их жизнью, сколько собственными «творческими поисками». Лишь постепенно они – С. Гудзенко, А. Межиров и другие – точно определили свое место в строю созидателей и строителей, нашли новые образы для полного и сильного выражения неуклонного роста страны. Друнина в своих послевоенных стихах так же обдумывает свои задачи, убеждения. Она рассуждает и декларирует, она справедливо считает, что мир – это не отдых, а завоеванное счастье выше мещанского уюта. Кто-то думает об этом по-другому, и Друнина полемизирует с ним:
Разве ты не понимаешь сам,
Как непрочно комнатное счастье,
Наглухо закрытое ветрам?
(«Стихи о счастье»)
-Что случилось, поэт, с тобой,
Или покинул гвардейский строй
В самый суровый год!
Молодость снова вступает в бой,
Однополчане идут в забой,
Голос труда зовет.
(«Поэту»)
Но эти полемические стихи, к сожалению, не убеждают нас в том, что самому поэту удалось после «романтики будничных дней» войны почувствовать романтику будничных дней мира. Вместо реальных, точных образов появляются общие, поэтические, условные – «счастье, наглухо закрытое ветрам». Отвлеченный «ветер» олицетворяет силы, враждебные мещанскому уюту. «Голос труда зовет», «пятилетки упрямый ритм» – в этих строках нет убеждающего, содержательного образа труда.
В послевоенных стихах Юлии Друниной еще нет живой и проникновенной отзывчивости и естественности, идущей от глубокого знания жизни. Для того чтобы полновесным словом сказать о настоящем, нужно не только видеть поля и корпуса заводов, но и включаться в ритм трудовой жизни так же, как поэт был включен в боевой ритм на фронте. Друнина внутренне все еще стояла на грани между войной и миром.
Притихший лес в тылу врага
И обожженные снега…
А за окном – московский день,
Рабочий день.
Если вспомнить о том, что Друнина вступила «в сырые блиндажи» прямо со школьной скамьи, то станут понятными и недостатки двух ее последних циклов.
Я хочу забыть вас, полковчане,
Но на это не хватает сил.
Нет, не надо молодому поэту забывать своих «полковчан», нужно внести свой опыт, приобретенный на войне, в стихи, посвященные мирному труду, нужно увидеть и передать благородство чувств и мыслей советских людей, охваченных пафосом созидания. Строительные будни так же исполнены внутренней поэтичности, как и будни фронтовые.
Формально стихи Юлии Друниной становились лучше – появлялось чувство пропорции, чувство ритма, но в них ощущался недостаток прежней обаятельности, какой-то милой, естественной угловатости.
* * *
Книга Юлии Друниной «Два измерения» открывается стихотворением, объясняющим смысл ее названия.
Живу как будто
В двух измереньях:
В шестидесятых
И в сорок первом.
Эти два измерения были еще в ее первой книге. Но тогда война была совсем рядом, и линии двух измерений пересекались под слишком малым углом. С годами контрасты жизни обострились до того, что дали поэтессе возможность программно сформулировать свое нынешнее состояние. Естественно, хочется сравнить, к каким мыслям и чувствам она пришла, вновь и вновь возвращаясь к теме войны. Для этого надо хоть бегло вспомнить, что сделано ею за многие годы.
После книги «В солдатской шинели» ей удалось прочно утвердить свое имя в нашей поэзии. В послевоенные годы многие поэты-фронтовики, писавшие о войне, напали открывать для себя новые темы – темы мирного труда. Казалось, что и Друнина поставит свой заявочный столб на одной из них. Помню, тогда я советовал ей побыстрей догонять своих товарищей на новом пути. Давая такой совет, едва ли я осознавал, что исполнить мой совет ей будет очень трудно. Дело в том, что на фронт она ушла со школьной парты и самым сильным впечатлением в ее жизни была, война. На мой взгляд, несмотря на многие удачные стихи, в мирной жизни ей так и не удалось открыть своей коренной, сквозной «мирной» темы. Такой главной развивающейся темой осталась минувшая фронтовая жизнь. И удачи чаще всего приходили тогда, когда поздние лирические мотивы соединялись с ней. При этом Друниной удавалось поднять температуру стиха, иногда сниженную вспоминательностью прямых описаний. Как на пример такой удачи можно сослаться на стихотворение «Два вечера».
Так порою на чужих глядят.
Посмотрел и улыбнулся мне:
– Ну, какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Неужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Понимаешь, просто не могу
Я тебя представить в сапогах…
Тут героиня стихов вспомнила, что когда-то на войне ее фронтовой друг удивился другому:
– Вот лежим и мерзнем, на снегу
Будто и не жили в городах…
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках!
Как видим, огонь военных стихов начал поддерживаться материалом мирной жизни, сопоставлением настоящего и прошлого, осмыслением и того и другого времени. Поэтесса все чаще стала обращаться к русской истории вообще. В «Двух измерениях» мы прочтем стихи «Полонянка», в которых она вспомнит о тех трагических испытаниях, через которые прошла по истории русская женщина, и вздохнет в глубоком огорчении:
Все воюет, воюет старушка Земля,
Нет покоя па этой планете…
В мире снова тревожно. Будто из мертвых воскресают те же мрачные силы, что повергли человечество в пучину минувшей войны. «И носятся слухи упорно, что будто бы здравствует Борман и даже сам Гитлер воскрес». Вот эта тревога, приближение новой опасности, еще более страшной, заново обострили память, воспламенили чувства, открыли новые грани в разработке военной темы. Но прежде чем перейти к более подробному разговору о новых стихах Друниной на военную тему, снова вернусь к ее ранним стихам.
Одно время в нашей поэзии, особенно молодой, шла беспощадная критика стиляг. В этих баталиях Друнина занимала сдержанную позицию. Она говорила: и мы в свое время до фронта были такими же. Такой взгляд с .позиций ее большого жизненного опыта, как бытовой, был мне понятен. Тогда я не знал таких стихов, как «Заявление в суд», в котором уже дается философское объяснение своей позиции. Сюжет стихотворения прост. В одной из квартир стиляги до четырех часов ночи будоражат весь многоэтажный дом стильными танцами и хриплым голосом Джонни Холидея. Стилягам грозят судом, выселением из Москвы. Но вот героиня стихотворения идет к ним и видит застенчивых ребят, только слишком увлекшихся танцами и музыкой. Оказывается, они – геологи и утром должны уехать из Москвы «в поле». Поговорила, и ребята примолкли. Что же, так тоже бывает. Действительно, не бежать же по всякому такому случаю в суд. Только меня смущает концовка:
Вот и все. Тишина. Обошлось без суда…
Мы терпимее быть и умнее должны,
Нам добрей надо стать, надо помнить всегда —
Сколько горя в истории нашей страны.
Во-первых, почему терпимее, умнее и добрее нужно быть только «нам», людям старшего поколения? Разве геологам, достаточно взрослым и ответственным перед жизнью, эти качества – терпение, ум и доброта – менее нужны? Во-вторых, в данном частном случае ребята оказались застенчивыми и сговорчивыми, а если бы они в ответ на уговоры утихомириться ответили более дерзким хулиганством? Поскольку в конце стиха сделаны слишком большие обобщения, выходящие за пределы частного случая, то призыв к терпимости может быть воспринят по отношению ко всем стилягам – застенчивым и незастенчивым. Под большим крылом доброты места хватает и тем и другим. Еще странней, что терпимость надо оправдывать только потому, что слишком много горя было в истории нашей страны. А что, при нашей терпимости горя в стране будет меньше? Едва ли!
Говорю об этом стихотворении подробно лишь потому, что между ним и темой войны в творчестве Ю. Друниной есть, на мой взгляд, определенная связь. «Гуманизм» этого стихотворения – бытовая реакция на те ужасы войны, которые пришлось увидеть и пережить поэтессе. Разумеется, ночные выходки стиляг по сравнению с теми ужасами – сущие пустяки. Но у самой же Друниной есть другая, более высокая и суровая мера гуманизма, иначе бы в ее книге мы не прочли таких строк:
Смотрю назад,
В продымленные дали:
Нет, не заслугой
В тот зловещий год,
А высшим счастьем
Школьницы считали
Возможность умереть
За свой народ.
В книге Юлии Друниной тема войны представлена действительно в двух измерениях – памяти и жизни. Диапазон между ними достаточно большой, чтоб в него вошли стихи и о молодом, фронтовом, и о постаревшем комбате, о жене командира, ушедшей в ополчение в модном манто, где ничего подобного никто не носил, и носящей его теперь, когда такие манто давно вышли из моды. Сюда входят стихи об отце, умершем, хоть и в глубоком тылу, но все равно как на фронте. Наконец, стихи о себе самой в разных ситуациях жизни и фронтовой памяти. И когда мысленно прослеживаешь весь творческий путь поэтессы, подмечаешь в ней одну сквозную, развивающуюся тему – военную, убедительным документом звучат стихи:
Все грущу о шинели,
Вижу дымные сны —
Нет, меня не сумели
Возвратить из войны.
ОТ «ТИШИНЫ» ДО «ЗЯБИ»
«Тишина» – так назвал свою книгу стихов поэт Дмитрий Ковалев. На первый взгляд покажется, что не по времени такое название. Земля гудит от дел, от великих событий, которые свершаются на ней, а тут – «тишина»!
Но вот берешь эту книгу, начинаешь читать, и чем больше читаешь, тем многозначительней становится название. А главное, оно такое точное, оно – от судьбы поэта. О тишине мечтали на фронте солдаты, но не о той, которую испытывал краснофлотец-подводник.
Но закрою глаза – и опять,
И опять, и опять:
Освещенный неярко отсек,
Тишина.
Нет, такой тишине
На земле никогда не бывать!
Как по уровню моря принято измерять всякую возвышенность, так и по глубинной тишине, когда слышно дыхание товарищей, поэт измеряет все земные шумы. Глухой, как правило, говорит очень громко. Ему все кажется, что его не услышат. Наоборот, Дмитрий Ковалев в своих стихах не позволяет себе никаких повышенных интонаций, ибо знает, что его слышат. Главная его забота – это точность слова, правда чувства.
В книге Ковалева тишина многообразна. И шум весеннего ручья «на утреннем просторе», и шум ливня с перекатами грозы, и шелест отяжелевших хлебов со стрекотом самоходного комбайна, и постук плотничьего топора – все это лишь обогащает образ тишины. Но когда стихают эти шумы и наступает ночная тишина, память поэта начинает возвращаться к пережитому:
А у меня – сыны…
И странно мне:
Давно ли сам я спал вот так же сладко?
На лбу морщин ощупываю складки
В такой знакомой с детства тишине.
За тонкой стенкой ходики стучат.
В окне деревьев шелестят вершины.
Как нам хотелось стать скорей большими!
Хочется обратить внимание на то, как начато стихотворение: «А у меня – сыны…» Что-то тревожное легло в эту фразу. И тревога оправдывается раздумьями о будущем сыновей: может быть, им придется испытать суровые тяготы войны, которые сам испытал, шагнул мимо своей юности прямо в возмужалость. Поэт не собирается заранее оплакивать судьбу сыновей, он думает лишь о таком их воспитании, чтобы они в трудные для Родины дни исполнили свой долг.
Не забывай:
Быть может, им война,
Как нам,
Увидеть юность помогает…
Рассветная мне эта тишина
Доверия большого не внушает.
В разговорах о нашей поэзии все настойчивей звучит требование, чтобы она отражала правду жизни. Наша поэзия переживает такую пору зрелости, что с этим требованием никто не спорит. Но, к сожалению, критики мало говорят о том, из каких элементов в стихах и поэмах складывается правда жизни. Она состоит из многих зависимых друг от друга правд, но в разговоре о стихах Ковалева я выделяю три: правду ситуации, правду чувства и правду слова.
В свете этих трех правд разберем одно из лучших его стихотворений «А думал я…».
А думал я,
Что как увижу мать,
Так упаду к ногам ее.
Но вот,
Где жгла роса,
В ботве стою опять.
Вязанку хвороста она несет…
Да, на фронте думал, что упадет к ее ногам, а встретил и не упал. Вот правда ситуации, которая дала возможность построить сюжет стихотворения, вдохнуть в него жизнь. «Окликнуть? Нет, так испугаю вдруг». Вот правда чувства. Не упал. И если бы упал, то выразил бы свою любовь не больше, чем боязнь окликнуть ее.
…Но вот сама заметила.
.Уже,
Забыв и ношу бросить на меже,
Не видя ничего перед собой,
Летит ко мне:
«Ах, боже, гость какой!»
Нельзя лучше и точнее выразить чувства матери, годами ожидавшей своего сына, не чаявшей увидеть его живым и здоровым. И как видна здесь крестьянка! Она хворост забыла бросить на межу, так и припала к сыну, одной рукой держа вязанку, другой обнимая его. В первую минуту она не назвала его сыночком – это она скажет потом, – она извеличала его гостем: «гость какой!» В этой фразе и любовь и уважение крестьянки к своему сыну.
Поэт разговаривает с читателем тихо, спокойно. Он как бы предполагает, что в читателе нужно лишь тронуть дремлющие чувства и оживить их. Нужно лишь напомнить, как «филин проплачет в тиши», как «небо уронит звезду». Или вот что надо сказать о молодой женщине: «Спасибо ей в том возрасте счастливом, когда и ситчик стираный к лицу»; или заметить о неудачной любви девушки: «И при чем тут время и эпоха? Без взаимности и нынче плохо». При таких словах читатель сразу вспомнит и переживет что-то свое.
Автор «Тишины» прошел через Отечественную войну, которая еще так жива в памяти народной. Ее страдным дням поэт посвятил большой цикл стихов под названием «Студеное солнце». В нем рассказывается о моряках и морской пехоте, воевавших в Заполярье:
Война не понаслышке нам знакома.
Мы собственную землю брали с боя.
У нас нет улицы
И даже дома,
Где не было б вдовы
Или героя.
После первой мировой войны, да и после второй тоже, на Западе развивалась поэзия, пропагандирующая неверие в жизнь, в красоту, в любовь, в дружбу, в доблесть. И это понятно. На войне были принесены великие жертвы, а что завоевано? Ничего! И поэты, не видящие дальше своего носа, вместо того чтобы бороться за человека, начали его порочить. Конечно же, и у нас среди хороших людей есть люди плохие, своекорыстные, эгоистичные. Наши поэты не закрывают на это глаза. И вот какой гуманистический вывод делает Ковалев в разговоре на эту тему:
И все же,
Когда раскрываю я душу,
Случайно сойдясь с человеком, как брат,
То чаще всего узнаю,
Что он лучше,
Чем слышал о нем,
Чем о нем говорят.
Тут дело не в индивидуальных качествах данного поэта, а в гуманистической философии всей нашей поэзии, ибо она призвана сотворить прекрасного человека коммунистического завтра. Но это особая, слишком большая тема, чтобы решить ее на примере одного поэта. Нелишне напомнить нашим критикам, что каждый поэт, не лишенный оригинальности, может дать материал для больших раздумий.
Хочется вернуться к разговору о правде слова. В нашей печати все чаще заводится речь о литературном, в частности поэтическом, языке. Появились серьезные статьи А. Югова, в которых он обоснованно ратует за расширение поэтического словаря. Действительно, еще не так давно нормой литературного языка был обедненный словарь Ушакова. Ссылкой на него, волей редактора часто урезывались права поэта пользоваться словами и словообразованиями, которых в словаре не было. Теперь, когда мы пользуемся словарем Даля, дело значительно поправилось. Но и нынче за пределами словаря Даля в его нынешнем виде осталось множество слов, имеющих право быть употребимыми. Таков ход мыслей А. Югова. С этим нельзя не согласиться. И поэтому хочется поднять другой вопрос.
Что дают словари поэту? Конечно, иной раз ему нужно рассеять некоторые сомнения. Тогда он берет словарь Даля, допустим, самый полный. Но главным источником словесного обогащения поэта, его главной стихотворческой лабораторией всегда будет жизнь. Из словаря Даля можно взять красивое, редко употребляемое русское слово и поставить его в строку. Если это слово поставит в строку поэт, знающий жизнь, слышавший, как это слово работало в жизни, он выполнит возложенную на него задачу. Если же таким словом соблазнился поэт, далекий от жизни, из одного желания обогатить свой поэтический словарь, это слово не прозвучит. Во втором случае на свет божий явится то, что мы называем псевдонародностью.
Поэт Ковалев знает русский язык не по словарям. Проживший большую трудовую и ратную жизнь, он знает, в каких сочетаниях, в каких оборотах «работают» слова в жизни.
Так много снегу нынче,
Что весна
Никак, потея, не отроет прясла.
Как естественно поэт поставил в строку редко употребляемое нынче в поэзии слово «прясло»! Оно освежило стих. «Изгородь», «забор», «заплот» не принесли бы такой свежести.
Или: «не шелохнется зрелая такая, что вся шуршит в безветренном томленье». Чтобы сказать так, это нужно было увидеть в жизни. Кстати, во всем стихотворении даже не сказано, что это рожь, потому что и без того ясно. Как просто и в то же время поэтично сказано о родном городке:
Первый раз увидел,
Как родился,
А второй довелось —
Как женился.
Из всего, что написано выше, может создаться впечатление, что Ковалев – поэт безукоризненного мастерства. Конечно, нет. У него рядом с достоинствами есть и недостатки. Мне хотелось показать, чем он интересен как поэт. Выражаясь его же словами, можно сказать, «что он лучше, чем думал о нем». Недостатки поэта часто вытекают из его достоинств. Вернемся к началу разговора. Когда-то, будучи подводником, он узнал глубинную тишину. Этот факт его биографии сказался на его манере разговаривать тихо и спокойно. Но поэту не нужно забывать, что читатель не пережил той особенной тишины и для него порой нужны повышенные интонации; порой после крестьянской неспешности ему нужен более убыстренный ритм. Это задача нелегкая, но, судя по всему, поэт Дмитрий Ковалев ее решит.
* * *
После книг «Рябиновые ночи» и «Тишина», четко определивших лицо Дмитрия Ковалева, он издал около десяти сборников с такими загадочными названиями, как «Студеное солнце», «Тихая молния», «Солнечная ночь», «Молчание гроз». Даже тот, кто знаком только с «Тишиной», обратит внимание на то, что в названиях новых книг есть своя последовательность и логика. Знакомая метафора тишины была как бы одним постоянным полюсом,. относительно которого во всех стихах определялся другой «блуждающий» полюс. Метафора тишины была мерой всем шумам. жизни. В новых книгах поэт ставит более трудную задачу: обнаружить полюсы света и тени на малой площадке каждого стиха. Для примера сошлюсь на стихотворение «С небес»:
Как медлит реактивный накренясь!
Как долго блики на крыле меняет!..
Как мелко все —
Что нас разъединяет!
Как крупно все —
Что породнило нас!..
А море из глубин мерцает дном.
А горы с неба – не крупнее кочек.
А звезды открываются и днем.
А солнце светит на земле и ночью.
Названиями своих книг Ковалев, как правило, никогда не подчеркивает социальную направленность своих стихов. Он сразу же отсылает читателя к природе, к такому ее состоянию, которое может только обострить внимание к социальным проблемам нашего времени. Книга «Зябь» не является исключением. В ней полярность света и тени проявляется программно. Об этом говорят названия многих стихов – таких, как «Свет и тьма», «Тени», «Ночных лесов глаза», «Ночное солнце» и другие. С названием «Зябь» связаны вполне определенные ассоциации. Зябь – это осенняя вспашка земли под весенний посев. При этом в борьбе с сорняками земля в свои сроки может быть вспахана дважды. Программа книги, отраженная названием, вполне соответствует возрасту и опыту поэта. А что касается сорняков, то плуг у поэта против них острый:
Как звезд тех на космической орбите —
Призывов на шоссе: «Лес берегите!»
А чуть свернешь с дороги: елки-палки!
В «зеленом друге» – мусорные свалки.
Нельзя пройти мимо и другого стихотворения с не менее острой постановкой вопроса охраны природы. У нас так много развелось ее преобразователей, что их самодеятельность становится опасной.
Была речушка рыбная
На славу,
Удильщикам и детям —
Благодать.
Спрямили русло,
Сделали канаву,
Теперь лягушек даже
Не видать.
Живой подземный ток
Иссяк, заилен.
Исчезли
Живописные мазки.
Не терпят умники
Ни в чем извилин,
Хотят, чтоб было все
Как их мозги.
В полярности света и тени эти стихи занимают в книге не главное место. Основной акцент в ней сделан на природе в ее извечно творческом состоянии, зависящем от человека, от его активного и мудрого вмешательства. Природа у Ковалева многолика и многообразна. Здесь и затюменская нефть, что «плывет, лоснясь как сом», и яркость «в пасмурности» озера Сетин, и «кальмары реактивные» из глуби океана, и «мужичья внешность» тысячелистника, и детская чистота подсолнухов. А сколько названо и описано цветов в тонких подробностях жизни и смерти. Поэт заставляет нас поверить, что у цветов есть душа – душа добрая, которой можно припоручить свои печали и недуги. «Они все тайны нам открыть могли бы, но к ним у нас любви недостает».
В стихах Ковалев любит подробности. Он все заметит – и «сухой ботвы картофельной клубок», и зазеленевший на солнце бок картофелины; обратит внимание на лягушонка с лапками, «как ручонки у младенца». Вы идете среди подробностей, словно по густому, чуть-чуть пасмурному лесу, цепляетесь за ветки – то жесткие, то ласково-мягкие, натыкаетесь на суховатые сучки-обломыши и вдруг выходите на простор больших обобщений, где много воздуха и света:
Особенно здесь чувствуется остро,
Что ты Земля,
Что, может, только ты —
Единственный обетованный остров,
Звучащий в океане немоты.
Размышляя о книге «Тишина», я обратил внимание на то, что поэт, бывший подводник, приученный к глубинной тишине, в разговоре с читателями почти нигде не повышал тона. Мне казалось, что иногда это требовалось, потому как читатель не проходил той же школы тишины. В поздних книгах, в том числе и в «Зяби», поэт не изменил своей прежней манеры разговора, зато усилил внутреннее напряжение стиха, наполнил его большей страстью и нервностью, отчего стихи стали более слышимы. И вот в некоторых стихах «Зяби» – в стихах о природе – слышимость несколько ослаблена. Причину этого, по-моему, надо искать во множестве деталей и подробностей.
Возьмем, к примеру, стихотворение «На счастье». Его первая половина написала крупным планом. И это понятно. Речь идет о людских судьбах, о жизни, о любви, о детях, чуть ли не каждый день приносимых аистами из-за плеса. И бездетная соседка привечает аистов не колесом на шесте – колес давно нет, а покрышкой с самосвала, взгроможденной на крышу. Появляется естественная шутка:
И шутят мужики, что помоложе,
Так неспроста с улыбкою приветной, —
Она бы самосвал втащила тоже,
Будь только это доброю приметой.
После этого крупного плана Ковалев так же естественно переходит к щедрости и богатству природы, которая окружает людей, жаждущих любви и счастья.
Грач зелено поблескивает, черный.
Красуются озимые в залужьях.
И раздувают солнечные горны
Дурашливые вихри в чистых лужах.
На чистоте их – мошки, как марашки.
Сигают паучки по водной глади.
И, переносчики сверхтяжкой клади,
По спинам кочек бегают мурашки.
И шмель свой дизелек заводит сразу,
И сладко трудятся пчел дружных семьи.
И страсть во всем, невидимая глазу,
Сквозь трепет сеет всходу жизни семя…
Собственно, это вполне самостоятельное стихотворение с теми живописными подробностями, которые соответствуют философскому смыслу двух последних строк. Если бы поэт закончил свое стихотворение на них, этот отрывок еще связывался бы с жаждой материнства, описанной в начале стихотворения, но когда после этого отрывка поэт снова возвращается к знакомой нам женщине и аистам на крыше, я воспринимаю тему ослабленно. Она оказалась заслоненной множеством подробностей природы. Секрет ослабления образа в том, что во всем описанном – «страсть… невидимая глазу». Во множестве подробностей ее трудно было сделать сквозной, неотделимой от страсти человеческой. В данном случае поэта подвело богатство наблюдений, жадность к деталям природы. К счастью, такого в книге немного. В лучших своих стихах о природе поэт при малых затратах, двумя-тремя мазками, может нарисовать целую картину в состоянии трудноуловимой подвижности, вроде:
А днем,
когда порывист ветерок,
Речные зыби
Как сирень в цветенье,
Рожь – вся в затменьях,
Вдоль и поперек,
И зыбок свет,
И мимолетны тени.
Сегодня, как никогда, поэт – явление общественное. Он не имеет права уклоняться от решения сложных социальных вопросов. Впрочем, такого права он никогда не имел. Наше время – время поисков более совершенных форм жизни, а это обязывает поэта быть более активным в утверждении "истины, справедливости, красоты: в борьбе со всем, что мешает такому утверждению. На мой взгляд, Ковалев стоит именно на таком высоком понимании своего предназначения.
Сейчас людей более всего беспокоит проблема мира: дадут ли человеку спокойно трудиться на земле? Когда читаешь книгу Ковалева, об этом все время думаешь. Видимо, об этом думал и он, когда работал на своей осенней вспашке. Не случайно в книгу включены стихи из военных тетрадей, напоминающие нам тяжкое бремя войны с ее неисчислимыми утратами. Матерям все еще снятся их погибшие сыновья. Есть в книге одно страшное по своей силе стихотворение об этом.