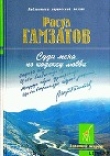Текст книги "Собрание сочинений в трех томах. Том 3"
Автор книги: Василий Федоров
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ночи
Маячить больше невмочь.
Здесь еще только информация о том, что было многими ночами. Эмоциональный взрыв с троекратным повтором «Черный человек» обусловлен переходом к настоящему времени, к данной ночи, о которой предстоит рассказать. «Черный человек на кровать ко" мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь». Трагедия вступила в свои права.:.
Когда я занялся дискуссией о спорной букве есенинского стиха, у меня не было заведомого желания что-то доказывать. Мне нужно было сначала разобраться во всем самому, что я и попытался сделать. Не знаю, смогу ли я своим разбором убедить других, но себя я убедил в том, что вместо «г» следует читать «ч». Правда, меня и теперь смущает одно обстоятельство. Почему Сергей Есенин, пользовавшийся интонационной разбивкой строк, не отделил «шею от ночей», скажем так:
Ей на шее
Ночи маячить больше невмочь.
Но тут приходит и другая мысль. Если бы поэт знал, что может разгореться такой спор, вероятно, отделил бы, но он-то писал, не подозревая о нем.
А стоило ли спорить из-за какой-то буквы? Ведь читал же я раньше «на шее ноги» и ничего со мной страшного не происходило. Нет, стоило! Реставраторы картин не терпят на полотнах великих живописцев ни одного постороннего мазка. А разве поэзия таких мастеров, как Есенин, не то же самое? Изучая инструментовку есенинского стиха, я еще больше понял, какой он прекрасный мастер.
А. ТВАРДОВСКИЙ – В СТИХАХ И ПОЭМАХ
Есть поэты, занимающие такое положение в литературе, которое обязывает каждого другого поэта, независимо от личных пристрастий, выяснить к ним свое отношение. К таким поэтам принадлежит Александр Твардовский.
В русской поэзии он – такая же веха, как Некрасов, Блок, Маяковский и Есенин. Его имя лично мне давало возможность гордиться нашей современной поэзией, ее народностью, не прибедняясь, ставить ее вровень с классикой XIX века.
По вехам поэзии поэты сверяют, уточняют дороги. Они могут идти другим путем, но пренебрегать вехами им не дано. Веха – факт объективный. По Твардовскому многие из нас определяли свое направление, корректировали свою программу, не говоря уже о том, что многие прошли его поэтическую школу. Даже спор с ним становился уроком. На мою долю выпало несколько таких уроков, и каждый из них заставлял меня думать и мобилизовываться.
Критика уже давно, точнее с появлением поэмы «Страна Муравия», обратила внимание на то, что ее автор – поэт некрасовской школы. С годами это мнение становилось все очевидней и бесспорней. Казалось бы, выбор учителя, особенно в первую пору, – дело случая, но для Твардовского с его ранним успехом Некрасов стал учителем исторически закономерно. Их родство состоялось на крестьянском вопросе, который на разных этапах русской истории вставал по-новому. Почти всегда в острые моменты его решения появлялись поэты, чуткие к нему. На нем вырос Некрасов, в годы революции – Есенин, на этапе утверждения Советской власти в деревне появился Исаковский, а революционные преобразования тридцатых годов призвали к слову Твардовского. Рассказывая о том, как была создана «Страна Муравия», он писал:
«Я рад, что эта революция в сельском хозяйстве, во всем жизненном укладе миллионов явилась для меня в юности примерно тем, чем для старшего поколения наших людей были Великая Октябрьская революция и гражданская война».
Когда говорят, что Твардовский – целая эпоха, говорят правду, но слишком фигурально. То время, которое он проработал в поэзии, при наших темпах жизни можно рассматривать как три эпохи. «Страна Муравия» – это эпоха от времен коллективизации до. Отечественной войны», «Василий Теркин» – это эпоха военных и послевоенных лет, «За далью – даль» – нынешняя эпоха, в которой, кроме этой поэмы, он успел утвердиться новыми стихами. Во всех трех эпохах поэт представлен своими вершинными вещами. Среди вершинных вещей мной не названа замечательная поэма «Дом у дороги». Это требует объяснения, что я и сделаю позднее.
Должен сказать, что наброски этой статьи были сделаны при жизни поэта. Делая их, я не мог и представить, что в текст о его стихах и поэмах придется вписать горькие строчки о его смерти. После Маяковского наша поэзия со смертью Твардовского понесла самую большую утрату, которую нельзя восполнить никакими коллективными усилиями.
Поэтов принято подразделять на лирических, эпических, сатирических и других – в зависимости от того, кто в каком из этих видов и подвидов более всего преуспел. В свете такого деления за Твардовским уже давно утвердилась слава выдающегося эпического поэта, хотя, по моему твердому убеждению, большой поэт всегда един и неделим. Между его лирическими стихами и поэмами нет водоразделов, даже наоборот, на каждом творческом этапе стихи заметно тяготеют к той поэме, которая у него в это время родилась. Есть круг стихов, тяготеющих к «Стране Муравии» с ее деревенскими красками, с трудными проблемами тридцатых годов, есть боевая эскадра, плывущая по времени во главе с флагманским кораблем – «Василием Теркиным». Корабли, разные по величине и вооружению, идут общим строем, но каждый из них выполняет свою самостоятельную боевую задачу. Так, стихотворение «Я убит подо Ряжевом» отличается от поэмы лишь объемом, а не значением.
Эмоциональное и смысловое тяготение лирики Твардовского к его поэмам не следует объяснять ее подчиненной ролью. В данном случае лирика – не подготовительный материал к большой работе, не эскизы художника к новой картине и не отходы большого производства, хотя в какой-то мере это возможно. Допускаю, что от поэм «Василий Теркин» и «За далью – даль» могли отпочковаться некоторые стихи. Их свободная конструкция давала такую возможность. Главное не в этом.
Для подлинного поэта у каждого времени есть своя эмоциональная и философская окраска. Твардовский был настолько чувствителен к ней, что между его поэмами мы не найдем прямых видимых связей. Так они различны. Возьмем, к примеру, «Страну Муравию» и «Книгу про бойца». Но, приступая к работе над «Василием Теркиным», поэт записал в своем дневнике: «Я чувствую, что армия для меня будет такой же дорогой темой, как и тема переустройства жизни в деревне, ее люди мне так же дороги, как люди колхозной деревни, да потом ведь это же в большинстве те же люди». Здесь поэт определил только общефилософскую связь вещей, а не эмоциональную и тематическую, хотя есть и такие связи, но обнаружить их может только лирика, ибо она способна аккумулировать время в его подвижности со множеством оттенков красок и настроений, переходов от одного состояния к другому.
Что предшествовало появлению «Страны Муравии»? По правде сказать, перечитывая первые стихи молодого поэта, еще не видишь в них автора знаменитой поэмы. Да и поэт-то в них-прорезается только отдельными строчками, но уже отчетливо заметными на фоне прозаических текстов. Так, в стихотворении «Перевозчик» вдруг блеснуло:
Всю жизнь он правил поперек
Неустающего теченья.
Известно, что до «Страны Муравии» поэт написал и напечатал две поэмы. В собрании своих сочинений он нашел нужным напечатать лишь небольшой отрывок из второй, под новым названием «Тракторный выезд». И этот отрывок ничего не обещал.
Настоящий поэт является в стихотворении «Братья»:
Нас отец, за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.
Ну, сыны?
Что, сыны?
Как, сыны?
И сидели мы, выпятив груди, —
Я о одной стороны,
Брат с другой стороны,
Как большие, женатые люди.
С этого стихотворения, судя по его месту в первом томе, поэт начинает набирать силу. В его стихах все становится сообразовано с мыслью и формой, с точностью словоположения в строке. После них стала возможной уже настоящая, высокохудожественная поэма. Впрочем, для самой поэмы не прошли даром ни прозаические стихи, в которых уже была жизнь и тема, ни две поэтические неудачи. Неудача – тоже хороший учитель, когда поэт найдет силы ею воспользоваться.
Но более всего поэму подготовили такие стихи, как «Гость», «Бабушка», «Он до света вставал», «Мужичок горбатый», «Рассказ председателя колхоза». Видимо, много материала оставалось еще в запаснике. В это время поэт, сотрудничая в смоленских газетах, часто ездил по деревням, много видел, писал статьи, очерки, заметки – одним словом, осмысливал события тех лет. Поэту не хватало лишь организующего замысла. По его признанию, замысел поэмы был ему подсказан А. Фадеевым в одном из докладов, когда тот разбирал роман Ф. Панферова. «Бруски». Речь шла о Никите Гурьянове, середняке, убежавшем от колхоза, объехавшем полстраны в поисках бесколхозной и безындустриальной земли. Поплутав по земле, Никита Гурьянов был все же вынужден вернуться в колхозную деревню. Не будь у Твардовского тех накоплений материала из деревенской жизни, вероятно, он пропустил бы мимо ушей размышления Фадеева, как это сделали многие. Но в том-то и сила настоящего поэта, что ему достаточно одного внешнего толчка, чтобы накопленный материал пришел в движение и начал организовываться по строгому закону замысла. Так, достаточно в насыщенный раствор бросить один-единственный кристаллик, чтобы он стал бурно наращиваться.
Как я уже говорил, к художественному уровню поэмы он пришел уже в стихах. Все же, сравнивая поэтическую фактуру стихов и поэмы, мы замечаем, что если в стихах образ часто теснился, то в поэме он получил большую свободу и просторность.
С утра на полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон
И сверху – облака.
Мы как-то привыкли уже к формулам «переустройство деревни», «ломка старых устоев» и не очень представляем все подробности, связанные с ними. А надо при этом представить, какая вековая громада ломалась и преобразовывалась. И поэт прав, когда приравнивает эти события к революции, что лишний раз подтверждает справедливость моей концепции о перманентном значении «крестьянского вопроса» для нашей страны и его влиянии на литературу вообще, и на поэзию в частности. В крестьянской жизни было несколько понятий, принадлежавших к особой исторической категории, за которыми надо было угадывать не простой, а двойной и тройной смысл, который теперь утрачен. Если «дом», то не просто дом, где жили, а нечто неизмеримо большее, почти в том же значении, что и «дом Романовых»; если «земля» – не просто земля, а «мать», «кормилица» и «поилица», а лошадь считалась членом семьи и в семейной иерархии стояла сразу же после хозяина.
То конь был – нет таких коней!
Не конь, а человек.
Бывало, свадьбу за пять дней
Почует, роет снег.
Земля, семья, изба и печь,
И каждый гвоздь в стене,
Портянки с ног, рубаха с плеч —
Держались на коне.
Как руку правую коня,
Как глаз во лбу, берег
От вора, мора и огня
Никита Моргунок.
И в ночь, как съехать со двора,
С конем был разговор,
Что все равно не ждать добра,
Что без коня – не двор…
Кроме всех этих качеств, серый копейчатый конь Моргунка оказался волшебным и для самого автора. Впряженный в оглобли замысла, он помог поэту организовать сюжетную интригу и, по правде сказать, вывез всю поэму. Сначала на «серого» позарился бродячий поп, встретившийся на перепутье, однако угнать его от хозяина не решился, видимо, еще было в нем чувство греха; но вот повстречался Моргунку его раскулаченный сосед Илья Бугров, под видом слепого бредший из ссылки. Этот не постыдился ночью ускакать на моргунковском коне и даже оставить при Никите своего сынишку – «поводыря». Эгоистическая, беззастенчиво-кулацкая природа Ильи Бугрова сказалась и здесь. Бывший сосед заставил Моргунка самого впрячься в телегу.
Поиски друга-коня привели Никиту Моргунка, впряженного в телегу, к сложным зигзагам безлошадного пути и поучительным встречам. Двинулся он к цыганам и был немало удивлен, что и те оказались колхозниками. Стали они выводить ему своих лошадей, да каких: одна лучше другой…
Попросили Моргунка
Отойти немного.
И выводят из станка
Жеребца, как бога.
Корпус, ноги – все отдай,
Шерсть блестит сквозная. —
Ну, хозяин, признавай,
Признавай, хозяин!
Кстати, в свое время поэма была экранизирована, и эта сцена в фильме получилась сказочно красивой, под стать описанию лошадиной красоты в поэме. Ночью Моргунок не мог заснуть. Даже решился на грех – угнать одного из цыганских коней на том наивном основании, что за цыганами издавна идет слава конокрадов, только оказалось, что хозяева хорошо стерегут своих красавцев.
А утром, когда Моргунок тянул свою телегу по дороге к базару, перед ним пятнисто-белым видением проскакал его «серый» уже с бродячим попом на загривке. Оказалось, что поп не постеснялся обойти вора Илью Бугрова. В этих перипетиях воровства, в том числе и моргунковской готовности украсть, поэт подчеркивает мысль, что частнособственническая природа людей вообще эгоистична и безнравственна. По сути, в Никите Моргунке с его мечтой разбогатеть сидит в зародыше тот же Илья Бугров. Новые встречи, особенно с Андреем Фроловым, коммунистом и председателем колхоза, помогают ему в этом разобраться. Интересно, что с некоторыми людьми Никита встречается не однажды и все по-новому: с Бугровым уже как с врагом, который и на этот раз его перехитрил, зато у Фроловых он оказался гостем на свадьбе меньшого, где его называют «товарищем Моргунком». Там его никто ни в чем не укоряет, однако он уже чувствует потребность в оправдании себя:
– Да я ж, – кричит Никита, —
Не хуже всех людей!
Конечно же, по старым законам счастливой свадьбы должно везти не только жениху и невесте, но и всем ее участникам. Моргунку повезло: заслышав свадебный шум, в надежде подработать, на ворованном коне подскакал безработный поп. Пока тот вел переговоры, Моргунок метнулся на крыльцо «и, повод оборвав, повис на шее у коня…». Здесь герой поэмы как бы возвращался на свой прежний круг, но уже в новом качестве. Даже любовь к коню приобрела иную окраску. За конем стояло много добродетелей, появилась новая: конь – еще и достоинство человека. Без коня-то даже вернуться в деревню было бы стыдно, а с конем, даже подбитым, уже можно. Снова Моргунок советуется со своим «копейчатым», только на этот раз с позиций обретенного опыта:
– Что, конь, не малый мы с тобой
По свету дали крюк?..
По той, а может, не по той
Дороге едем, друг?..
Не видно – близко ль, далеко ль,
Куда держать, чудак?
Не знаю, конь. Гадаю, конь,
Кидаю так и так…
Посмотришь там, посмотришь тут,
Что хочешь, выбирай:
Где люди веселей живут,
Тот вроде– лучше край…
Кладет Никита на ладонь
Всю жизнь, тоску и боль…
– Не знаю, конь. Гадаю конь.
И нам решаться, что ль?..
В начале статьи я говорил, что на всем творчестве Твардовского, а на «Стране Муравии» особенно, сказалось влияние некрасовской поэзии. Читатель заметит это даже до тем извлечениям из поэмы, которые я уже сделал. Но хочется остановиться на четырнадцатой главе – о селении Острова, где Некрасов проявился почти в натуральном виде. Название села символично, потому как в нем живут еще единоличники, окруженные морем колхозных хлебов. Село бедное, сонное, ленивое. «Мы – люди темные…» – говорит один. «Мы индюки…» – признает другой.
– Ты что строгаешь?
– Дудочки.
– А для чего они?..
– А дам по дудке каждому,
И дело как-никак.
– А не кулак ты, дедушка?
– А как же не кулак!
Богатством я, брат, славился
В деревне испокон:
Скота голов четыреста
И кнут пяти сажен.
Здесь не только интонация, но само село, люди в . нем – некрасовские. Некоторые фразы звучат так, будто они целиком перенесены из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Так, на замечание Моргунка о небогатой жизни села старик отвечает: «А счастье не в богачестве». Знакомый оборот!
Твардовского роднит с Некрасовым и фольклорная стихия поэтической речи: пословицы, поговорки, частушки, иногда трансформированные, но всегда органически спаянные с оригинальным текстом, с конкретным событием в поэме. Речь идет не только об игровом, свадебном фольклоре, например, особенно богатом в русской народной поэзии: «А что ж тебя заставило выйти замуж за старого», «У твоего миленочка худая кобыленочка. Он не доехал до горы, ее заели комары», «Бабий век – сорок лет», но и множество других примеров уже не в свадебной ситуации.
Вот Моргунок везет телегу, впереди спуск к мосту.
И пошел, пошел с разбега,
Только грохот поднялся.
Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса.
Появившись в 1936 году, «Страна Муравия» заняла в советской поэзии тех лет самое почетное место. А в те годы активно работали многие поэты – Д. Бедный, М. Исаковский, А. Прокофьев, хорошо знавшие деревню, в расцвете талантов были Н. Тихонов, А. Сурков, В. Саянов, И. Уткин и многие другие. Но Твардовский, как говорят, прошел «по главному», тронул самый чувствительный нерв народной жизни. Индустриализация страны в наших тогдашних масштабах была тоже делом неслыханным, но в морально-нравственном и политическом плане она протекала менее болезненно, чем коллективизация. Следует напомнить, что и заводские стройки дали тогда своего певца – Николая Дементьева с его примечательной поэмой «Мать».
«Страна Муравия», определив уровень поэтического слова тридцатых годов, имела большое влияние на молодых поэтов, шедших вослед Твардовскому. Было написано немало поэм с темой поиска крестьянского пути, напоминавшего поиск Никиты Моргунка. А о стилистическом влиянии и говорить не приходится. Примером может служить «Флаг над сельсоветом» А. Недогонова. Не без явного влияния «копейчатого» недогоновский старшина решил вернуться из Европы в колхоз на доброй лошади. Знаменательно, что «Флаг над сельсоветом» поднялся в то время, когда в нашей поэзии был уже «Василий Теркин».
В русской, да и мировой литературе известно много случаев, когда писатели и поэты пользовались уже известными или подсказанными сюжетами. «Мертвые души» Гоголя были подсказаны Пушкиным, для своего «Фауста» Гёте взял известную легенду с одноименным героем, в основе большинства шекспировских трагедий лежат литературные источники; загробный мир, еще без имени «Ад», смертные посещали и до Данте. Что касается Твардовского, то, не ставя знака равенства, скажу, что он поступал так же смело. Для «Страны Муравии», как мы уже знаем, поэт воспользовался размышлениями А. Фадеева о романе Ф. Панферова «Бруски», а для «Василия Теркина» был использован «Вася Теркин» – герой финской войны, рожденный коллективной фантазией группы писателей, в том числе Н. Тихонова, В. Саянова, Ц. Солодаря, А. Щербакова и самого Твардовского.
Поэт берет готовый сюжет и образ лишь тогда, когда к ним его приводит собственный материал. Так что надо сразу же сказать, что «Василий Теркин» – с одной стороны, от своего литературного прототипа, с другой – от живых прототипов, с которыми пришлось встретиться поэту на фронтах Отечественной. От прежнего Васи ему достались веселость, удачливость, находчивость, но уже в новом, не героическо-лубочном тоне, а в самом натуральном, житейском, а значит, и подлинно героическом. Одним словом, за короткий срок – от финской до Отечественной – Вася повзрослел и стал Василием. Преемственность в образе поэт подчеркнул в начале поэмы стихами о том, что на войне:
Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой, —
Без тебя, Василий Теркин,
Вася Теркин – мой герой.
Здесь уместно задать вопрос: почему для Великой Отечественной войны Васю Теркина вырастил Твардовский, а, допустим, не Н. Тихонов или В. Саянов? У них, как «отцов» Васи, были на него почти те же права. Видимо, права-то были, но не было равных возможностей. Речь идет даже не о творческих возможностях вообще, а об органической близости к образу, представляющему человека колхозной деревни, душевно более близкому и понятному Твардовскому, чем его прежним соавторам. Правда, представляя Василия Теркина читателю, автор не торопится объявить о его крестьянской природе. Это и понятно: война – народная, и Теркин – представитель народа без деления на деревенских и городских. Потом, когда мы успели его полюбить, он сам представляется нам в главе «О награде»:
Вот пришел я с полустанка
В свой родимый сельсовет.
Я пришел, а тут гулянка.
Нет гулянки? Ладно, нет.
Я в другой колхоз и в третий —
Вся округа на виду.
Где-нибудь я в сельсовете
На гулянку попаду.
И, явившись на ветерку,
Хоть не гордый человек,
Я б не стал курить махорку,
А достал бы я «Казбек».
По этим словам мы узнаем героя, уже знакомого нам по стихам Твардовского. Вспомним, что поэт записал о людях Советской Армии: «…Ведь это же в большинстве те же люди». Василий Теркин – именно из тех людей, только теперь он поставлен в условия опасной фронтовой жизни, что выдвигает перед поэтом новые труднейшие задачи. Одно дело – знакомый герой, другое – военная тема огромного охвата, которую не возьмешь поэтическим наитием. Вася Теркин в первом варианте традиционно условен, сотворен по рецепту сказки. Там он прежде всего человек «необыкновенный», богатырь, косая сажень в плечах, к тому же любящий повеселиться и поесть.
Но зато не бережет
Богатырской силы
И врагов на штык берет,
Как снопы на вилы.
Василий Теркин Отечественной войны совершенно лишен условности, сказочности. Образ его реален, натурален и по-житейски постижим во всем. От раннего Васи у него сохранены как раз самые бытовые черты – смекалка, шутливость, непритязательность к удобствам, хороший аппетит. Но он уже не богатырь, берущий врага «как снопы на вилы». Теперь на вопрос: «Теркин – кто же он такой?» – автор отвечает, что «просто парень сам собой он обыкновенный».
Впрочем, парень хоть куда,
Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе.
Его подвиги стали реальными и возможными почти для всех солдат, но в этой реальности, в «снижении» образа – огромный философский и художественный смысл. Богатырей на земле не так много, а Теркины оказались в каждой роте и каждом взводе. Герой стал необыкновенным своей обыкновенностью, натуральностью и чувством почти плотского существования. В этом-то и народность вещи.
В своем «Ответе читателям «Василия Теркина» автор дал объяснение, почему имя Васи первой редакции он заменил на Василия. Причина в том и есть – в превращении героя из сказочного богатыря в «обыкновенного». «И можно было бы сказать, – пишет Твардовский, – что уже одним этим определяется наименование героя в первом случае Васей, а во втором – Василием Теркиным». Авторская аргументация перемены имени меня убеждает лишь отчасти. Мне видятся причины более глубокие, которые автором, возможно, подразумевались, но не были объявлены вслух, ибо тогда ему пришлось бы сказать о своем творческом скачке в освоении военной темы. Над образом Васи Теркина работал квалифицированный ремесленник с просверками таланта, над Василием Теркиным – выдающийся художник, мыслитель.
Если Твардовский сам не сказал этой правды, то, видимо, еще и потому, что не всегда и не во всем отдавал отчет в том, что делал и почему делал. Поэмы пишутся не только головой, но всем существом поэта. Так, боксер бьет не только рукой, а нагружает свой удар всей тяжестью тела.
В «Книге про бойца» нет сюжета, зато есть замысел, трансформация имени входит в него составной частью. Прежде всего после финской войны богатырь Вася повзрослел, хотя и стал ростом меньше. В этой его метаморфозе есть своя художественная тайна: нужно было его «уменьшить», чтобы он стал заметней и значительней. Когда мучаются боги, нам нет до них дела, им не больно, они бессмертны. Василий же Теркин – человек, олицетворяющий миллионы людей, стоявших насмерть против фашистских захватчиков. Как национальный герой и выразитель народного духа, он близок и понятен миллионам. Создать «Василия Теркина» помог не только его предшественник «Вася Теркин». Как и в случае с поэмой «Страна Муравия», до «Книги про бойца» тема уже осваивалась в стихах. Если военный опыт поэта 1939—1940 годов помог ему быстрее постичь глобальный характер Отечественной войны, глубину ее фронтов, ее маневренность, часто трагическую, то стихи помогли в другом: прежде всего осознать выдающуюся эпическую вещь, найти конструкцию, нужную тональность, а более всего – психологически углубить образ, показать героя «натурально», в охвате множества сторон его ратной жизни. Одним словом, показать героя человеком.
Если «Вася Теркин» был условен, сказочен, фельетонен, то стихи той поры были настоящими и психологически выверенными. А это как раз то, что нужно было поэту в новой огромной вещи, потребовавшей от него напряжения всех творческих сил. Из времен финской к этому кругу тяготеют такие стихи, как «Григорий Пулькин», «Шофер Артюх», «В подбитом танке», «Жеребенок», «Спичка», «Зима под небом необжитым» и другие. В некоторых стихах тех лет, например в последнем, поэт еще ищет ассоциаций с картинами мирной жизни. Лютая зима сорокового года. Солдаты разжигают костер в палатке. Здесь поэт вспоминает то, что в Отечественную войну вспоминать становится некогда.
И все пришедшие погреться
Сидят сговорчивым кружком,
Сидят на корточках, как в детстве,
Как в поле где-нибудь, в ночном…
Во многих стихах тема подвига решается еще традиционно и в смысле тональности стиха, и в смысле облегченного психологизма. Но зато уже появились такие стихи, которые оказались потом на уровне «Василия Теркина».
И вслед за огненным налетом
К высотам, где укрылся враг,
Пошла, пошла, пошла пехота,
Пошла, родимая!
Да как!
Военные стихи сорок первого года принципиально мало чем отличаются от стихов предыдущего, сорокового. Они еще статичны и отражают не общее настроение, а отдельные явления боевой жизни, выхваченные из трехтысячеверстного фронта, но эти отдельные картины, солдатские судьбы и подвиги скоро соединятся в одно всеобъемлющее чувство неотвратимости возмездия. Стихи сорок второго года открываются программным стихотворением «Дорога на Запад».
Друзья! Не детьми, а сынами
Зовут нас в Отчизне родной.
Дорога лежит перед нами
В три тысячи верст шириной.
Ведет она всех без изъятая
На запад в одну сторону,
Где сестры и старшие братья,
Где матери наши в плену.
Стихотворение написано в дни, когда пружина наших отступлений оперлась о крепкий тыл и сжалась до предела. Не сломалась пружина, не подалась опора. Вместе со всеми поэт почувствовал, что пришло время пружине разжиматься и давить на врага.
С точки зрения художественной интересно заметить, что стихотворение написано в интонации и размере известного стихотворения «Во Францию два гренадера из русского плена брели». Конечно, эта же интонация была избрана поэтом не случайно. Она напоминала всем, в том числе и врагу, о бесславном конце Наполеона, ибо «Дорога на Запад» – дорога нашей победы.
Именно где-то на этом этапе в стихах Твардовского стал проглядывать «Василий Теркин». Характерно, что в поэме он начинает жить в то время, когда наши армии перешли к активным наступательным действиям. И в стихах он проглянул в такое время, когда наши войска начали возвращать отнятое. Прочтите «Дом бойца», и вы убедитесь в этом.
Сколько было за спиною
Городов, местечек, сел,
Что в село свое родное
Не заметил, как вошел.
Не один вошел – со взводом.
Не по улице прямой —
Под огнем, по огородам
Добирается домой…
Кто подумал бы когда-то,
Что достанется бойцу
С заряженною гранатой
К своему ползти крыльцу?
В том году поэтом были написаны такие прекрасные стихотворения, как «Баллада об отречении», «Партизанская Смоленщина». В следующем году появляется такое отличительное стихотворение даже среди стихов самого Твардовского, как «Две строчки», о бойце-парнишке, что был в сороковом году убит в Финляндии на льду. По мере психологического углубления стихов полновесней становится и образ Василия Теркина, который к этой поре стал любимым образом не только на фронте, но и в глубоком трудовом тылу. При этом поэт прекрасно понимал, что Василия Теркина нельзя перегружать психологическими переживаниями, нюансами этих переживаний, какие мы находим во многих стихах. Василий Теркин, выполняя свою главную роль – поддерживать в бойцах-товарищах боевой тонус, часто скрывает свои глубинные чувства, прячет их за веселыми нередко и к своей выгоде шутками, как в «Переправе».
Под горой, в штабной избушке,
Парня тотчас на кровать
Положили для просушки,
Стали спиртом растирать.
Растирали, растирали…
Вдруг он молвит, как во сне: —
Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне…
Василий Теркин, выражаясь языком Маяковского, был социальным заказом народа, и не одному Твардовскому, а всем поэтам страны. Вот почему во всех фронтовых газетах появилось множество разновидностей Теркина – Гвоздевы, Смысловы, Протиркины и прочие. Кстати, такой социальный заказ не есть частный случай только Отечественной войны. Такие социальные заказы уже были и в русской и в мировой истории. Они возникали во все времена освободительных войн и революций. Достаточно вспомнить «Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера – героя Фландрии, веселого, остроумного, находчивого, бесстрашного воителя против испанцев, избравшего девизом своей жизни и борьбы:
Слово «жизнь»
На знамени я написал на моем,
Пусть сгинут тоска и печали…
Моя первая шкура – кожа моя,
Вторая шкура – из стали…
Война с полчищами Наполеона породила немало героев того же типа. Первый Вася Теркин, к слову сказать, родился не без помощи тех лубочных картинок и рассказов к ним о том, как русский крестьянин утянул из-под носа французов их пушку, или о том, как другой с одними вилами взял в плен дюжину незадачливых вояк. Революция дала нам ряд блистательных имен, вполне реальных, подвиги которых не требовали никакой собирательности – Камо, Олеко Дундич, например.
Возвращаясь к стихам круга «Василия Теркина», следует остановиться на выдающемся стихотворении Твардовского «Я убит подо Ржевом», хотя оно помечено 1945—1946 годами, когда поэма была закончена. Но, видя в конце две даты, можно предположить, что его замысел возник еще раньше. Такие стихотворения не возникают вдруг. Тема гибели за правое дело, тема «братства павших и живых» прошла через все творчество Твардовского не только военных лет. Ей он посвятил многие свои стихи и после войны. Среди них я уже называл «Две строчки», в том же сорок третьем году написано «У славной могилы», а поздней – «Перед войной, как будто в знак беды», «Их памяти», «Мне памятно, как умирал мой дед». Еще больше строк и строф о том же в стихах на другие темы. Из всего складывается впечатление, что смерть как философская категория занимала Твардовского не менее самой жизни. Дело не только в количестве стихотворений, строк и строф, посвященных общим и личным утратам. На войне было многое множество смертей, и обойти их поэту было бы странно. Важно другое, что смерть для Твардовского вообще постоянная и крайняя мера жизни, а в бою – ее вершина.