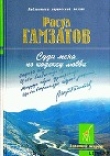Текст книги "Собрание сочинений в трех томах. Том 3"
Автор книги: Василий Федоров
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
ИНЕРЦИЯ СТИЛЯ
Однажды в газете прочел заметку об испытании турбогазового локомотива. Автор заметки, захлебываясь от радости, описывает истошный рев турбогазовых моторов, дающих небывалую скорость. Скорость – это хорошо. Но к чему радоваться реву, который издают новые моторы?! Представил их на наших железных дорогах и ужаснулся. Вокруг и так много всякого шума, а с новыми локомотивами будет не жизнь, а зверинец.
Нечто похожее часто встречаешь и в поэзии.
В годы первых пятилеток, когда наша промышленность только зачиналась, поэты радостно воспевали то, как отступает тайга, как напуганный зверь – консерватор – уходит в таежные дебри. Но странно теперь, когда и настоящей тайги-то не стало, читать восторженные стихи о том, как под электропилой вповалку ложатся сосны, как медведь, может быть последний, начинает реветь в страхе перед будущим. Кто знает, о ком больше беспокоится зверь: о себе или о нас?.
СМЕЛОСТЬ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Однажды, слушая стихи молодого поэта, обратил внимание на то, как он легко и запросто произносил жестокие слова о смерти, о ранах и болях, не побледнел, не вздрогнул от ужаса. При обсуждении прочитанных стихов даже сказали: «Смелый поэт». А какая тут смелость? Так часто дети говорят нечто страшное, не отдавая себе отчета, что говорят. Такая смелость за чужой счет, за счет читателя. А смелость поэта и писателя должна быть за свой собственный счет. Сказал страшное – самому страшно, ударил больно – самому больно. Описав смерть Эммы Бовари, Флобер вышел из кабинета плачущим. Для него смерть любимой героини – факт самой жизни, а не литературы.
Поэт, равнодушный к жестоким словам, не знает меры. А когда самому поэту больно, он будет искать меру боли в самом себе, меру говорить лишь то, что может выдержать сам. С этого начинается точность поэтического слова. Чувство правды будет развиваться в поэте естественно. А то получается, что за счет других можно говорить много, а случится сказать для себя – и, глядишь, поэт оробеет. Как часто у нас путают смелость с безответственностью.
ЕСЕНИН И ДОСТОЕВСКИЙ
В жизни я боялся двух писателей: Есенина и Достоевского. Есенина – в юности. Достоевского – еще и теперь. Подозреваю, что природу моей боязни Есенина можно объяснить чувством самосохранения. Мне доводилось видеть людей, находившихся в рабском плену его поэзии, из которого им не удавалось выбраться. Меня пугала в этих людях пьяная слезливость.
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Оказаться похожим на подражателей Есенина для меня было противно. Но дело не только в уродливом отражении поэзии Есенина. Причина боязни таилась в самих его стихах, в их неотразимой интонации, в их трагизме. Есть таланты, способные не только умудрять юную душу, но и убивать ее, обрекать на бесплодие, почти так же, как при повышенном облучении.
Теперь Есениным я могу уже наслаждаться, то есть воспринимать эстетически. Во-первых, это потому, что я стал его глубже понимать; во-вторых, уже что-то в себе выработал, могу защититься своими стихами, какими ни на есть, но своими; в-третьих, время сняло с его стихов дурманящий привкус, многое в них просветлило.
Перед Достоевским я все еще беззащитен. Читаю, а в душе все время какое-то беспокойство, похожее на боязнь куда-то провалиться. Мне с ним пока что не до эстетического наслаждения. Это, видимо, потому, что я его как следует еще не понимаю, ничего своего не могу противопоставить. Правда, его «Подросток», перечитанный мной недавно, частью освободил меня от страха. Психологические извивы, когда их первопричина – деньги, на меня мало действуют. В «Преступлении и наказании» на первом плане проблема философская, а потому психологически действенная. Думаю, что знание внутренних пружин, действующих в его произведениях, не принесет мне избавления от тревожных ощущений. Для этого есть один путь – путь творческий: его знанию природы человеческой противопоставить свое знание. Хорошо бы перестать пугаться!
РОЖДЕНИЕ ИМЕН
Анна Снегина.
Какое поэтическое имя! Удивительно пластическое, особенно для поэмы. Оно естественно вписывается в стихотворный текст. Как это имя родилось у Есенина? Литературовед В. Белоусов в своей небольшой книжке о Есенине утверждает, что где-то недалеко от есенинских мест была женщина с таким именем. Жена лесника. Подозреваю, что это утверждение – из области вымысла, поскольку знаю более убедительный документ. Как-то давно, перелистывая тонкие журналы времен первой мировой войны, а их было тогда много, я натолкнулся на «Голос жизни» за 1915 год со стихами Есенина. В том же номере был напечатан легонький рассказец за подписью «О. Снегина». Есенин, конечно, не мог не видеть эту подпись в соседстве со своим именем и, когда через десять лет задумал поэму, вспомнил о ней, изменив имя на Анну Снегину.
Аэлита.
Рождение этого небесного имени, по моим догадкам, не менее любопытно. В залах Эрмитажа можно найти и полюбоваться тонкой женской красотой «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Казалось бы, Алексей Толстой сделал совсем немногое. К имени этой мадонны он прибавил «аэ», то есть признак воздушности и небесности. Аэ-Лита. Так родилось романтичнейшее из литературных имен.
АФОРИЗМЫ И СЕНТЕНЦИИ
Крылатые выражения и афоризмы в поэзии рождаются не по капризу поэта: дескать, вот я придумаю афоризм. Специально придуманные афоризмы – это хилые недоноски, которые быстро умирают. Живут лишь те, за которыми – конкретная природа, конкретные события, изображенные поэтом. Афоризм – высшая концентрация эмоции, когда она кристаллизуется до поэтической формулы, наивысший сплав конкретной мысли и конкретного чувства.
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых…
Так у Пушкина говорит Борис Годунов после шести лет своего царствования. Говорит усталый и разочарованный властитель. Поставь эти слова вне связи с Борисовой судьбой – они бы повисли, никто бы не заметил их значительности. Они запоминаются, как судьба. Точно то же можно сказать и о словах Маяковского:
Так и жизнь пройдет,
Как прошли Азорские острова.
Тоже конкретно. Азорские острова действительно однажды прошли в жизни поэта. Конкретная ситуация стоит и за такой грустной формулой Есенина:
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.
Афористична поэзия Блока. Многие строки его стихов врезаются в память с одного чтения на всю жизнь.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Афоризм не надо путать с сентенцией, хотя у них есть внешняя схожесть. Сентенции рождаются сами по себе, вне зависимости от поэтического события, от логики стиха, от развития мысли и чувства. Афоризм тоже приобретает самостоятельность, но по другому закону: по закону огромного обобщения. Для меня уже неважно, что пушкинский стих был вложен в уста усталого Бориса Годунова, мне уже все равно, проходили или не проходили мимо Маяковского Азорские острова. И Пушкин и Маяковский сказали то, что применимо ко многому и многим. Родившись в конкретности, они утрачивают конкретность.
БОЙТЕСЬ УТОНЧЕННОСТИ
Утонченность – всегда за счет силы и плоти.
На первый взгляд такая опасность нашей поэзии не грозит, поскольку в ней слишком много сырой плоти и грубой силы. Но в этом ее качестве таится своя опасность.
Изящество, грация, пластика в поэзии качества хорошие, когда они вырабатываются тренировкой души, трудом, то есть естественно. Желание же быть непременно изящным приводит некоторых ленивцев только к поэтическому кокетству и жеманству. Но в этом еще нет трагедии. У ленивцев подобного толка трагедий не бывает. Хуже, когда бесплодная утонченность наступает в результате постоянного труда и логического развития. И тут важно направление творческого движения, его перспектива…
В художественных галереях Лондона мне довелось видеть картины Тернера. Он любил писать море, туманы и корабли в тумане. В его первых картинах можно увидеть и почувствовать плоть земли и моря, силу стихий. За материальностью туманов и марева виделась материальность легкокрылых; парусников. Потом стали появляться картины с туманами более зыбкими, кораблями более призрачными. Появились полотна, на которых очертания кораблей скорее угадываются, чем видятся. И наконец краски размылись до того, что уже нельзя и почувствовать и увидеть ни туманов, ни кораблей. С полотен ушла плоть и сила. Осталось студенистое вещество со слабыми признаками немыслящей жизни.
К такому результату приходит тот, кто на свою творческую задачу смотрит только как на техническую. Собственно, современный абстракционизм стоит на позициях тернеровского результата. Он заведомо пренебрегает и плотью ц силой. Его философия, если она есть, во сто раз аскетичнее самого аскетического монашества. Монахи не отрицают плоти, они лишь пытаются ее умерщвлять, а абстракционисты, тяготясь ею, отбросили ее напрочь. Вместе с плотью отбрасываются и морально-нравственные нормы, поскольку без плоти они теряют всякий смысл.
Посмотрим на картины Пикассо, тяготеющего к абстракции. У него, по моему разумению, есть на то свои побуждающие мотивы. В его картинах есть попытка изобразить сложный и противоречивый мир современного человека. Но результат тот же: плоть разрушена, сила раздроблена. Телесность разрушается тем, что духовный мир человека выносится за его физические границы. В этом легко убедиться, посмотрев «Студента, читающего газету».
В поэзии утонченность мнимая и действительная также имеют множество проявлений. Тут и кокетство, и жеманство, тут и гладкопись, тут и теория подтекста с ее намеками на то, чего не ведает никто. Однако не призываю к прямолинейности и неряшливости. Неряшливость – тоя-ее одна из форм мнимой утонченности, вернее, избалованности. В стихах не должно чувствоваться труда. Чем больше работаешь над стихом, тем меньше в нем заметен труд, а утонченность и прилизанность его обнаруживают.
ЭМОЦИЯ
Эмоция – это почва, из которой прорастает древо поэзии, ее мысли и образы. Возможно также, что вначале придет мысль, но она, чтобы стать поэтичной, должна вызвать эмоции, выкупаться в них, сродниться с ними, конкретизироваться и трансформироваться в чувстве. Если же пришедшую мысль просто зарифмовать, получится то, что мы называем риторикой.
Одна и та же мысль в одном случае будет поэтичной, в другом может оказаться скучной прозой. Если бы Маяковский начал утверждать, что Земля – шар, это было бы типичной риторикой, но известную истину он сумел эмоционально конкретизировать применительно к случаю и извлечь из нее поэтический эффект:
Можно убедиться,
что земля поката,
Сядь на свои ягодицы
и катись.
Заметным недостатком молодых часто бывает нехватка эмоциональных накоплений. Появилось смутное чувство, еще не созрело, а его уже стараются зарифмовать. Вскоре родилось такое же чувство – и его в стихи. А потом выясняется, что все чувства были одной и той же природы, одной окраски и породили они стихи, похожие друг на друга, – стихи одного поля, ослабленные преждевременным появлением на свет. Этих поэтических недоносков могло бы и не быть, если бы молодой поэт умел накапливать эмоции.
Второй заметный недостаток молодых – это эмоциональная пестрота стихов. Случается, на одно свое стихотворение молодой вытряхнет всего себя, не замечая, что его эмоциональные накопления имели разную природу и разную окраску – от интимной до публицистической. Накапливая чувства, Есенин не смешивал то, что копилось для «Анны Снегнной», с ее лирико-эпической интонацией:
Село, значит, наше – Радово,
Дворов, почитай, два ста.
С тем, что выплеснулось с «Песнью о великом походе»:
Эй вы, встречные,
Поперечные!
Тараканы, сверчки
Запечные.
При этом лирическая палитра Есенина допускала удивительное соседство эмоций интимных и общественно-политических. Его «Письмо к женщине» выходит далеко за рамки бытового конфликта, обозначенного строчкой: «Любимая! Меня вы не любили». В общую эмоциональную окраску «Письма к женщине» легко и естественно вписываются резкие мазки социального смысла о «хладной планете», которую и «Солнцем-Лениным пока не растопить». Отсюда можно сделать вывод, что накопление и разграничение эмоций – это не отдельные тюбики красок, которые стоит потом лишь выдавить и в случае нужды механически размешать. Поэт может накапливать эмоции, окрашенные в разные цвета, но объединенные общим колоритом.
У поэта может быть пристрастие и к одному цвету, как у Бараташвили к синему, столь разнообразному в оттенках, столь всеохватывающему в его мироощущениях, что кажется, будто другие цвета и вовсе не нужны.
Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
С детства он мне означал
Синеву иных начал.
Это цвет моей мечты,
Это краски высоты.
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.
Это взгляд небесный твой,
Напоенный синевой.
Это плач моих родных
На похоронах моих.
Какое удивительное, совершенно уникальное чувство цвета! Даже там, где, казалось бы, неизбежны другие краски, поэт не поступился своим любимым цветом, открывая все новые и новые его оттенки.
Это синий, не густой Иней над моей плитой. Это зимний, сизый дым Мглы над именем моим.
Вот пример, как из малого истинный поэт извлекает великое. Любовь к синему цвету, по признанию самого поэта, накапливалась в нем с малолетства, чтобы стать цветом его знамени. В этом и есть высшее мастерство.
«ЛЕНИНСКИЙ ПОДАРОК»
Закончив Литературный институт, я поехал к сестре Тоне в Крым. Тотчас в ее продолговатой, похожей на пенал комнатке появилась соседка, тетя Нина – сухонькая, нервная и заботливая. Уже зная обо мне от сестры, она встретила меня как родственника и взяла часть забот обо мне на себя.
Есть в наших людях примечательная черта: встретив писателя, непременно расскажут ему что-нибудь такое, что кажется им интересным. Делается это не из корысти, не из тщеславной надежды попасть в книгу, а чаще от неосознанного желания, чтобы ничто примечательное из жизни народной не пропало. Надо только терпение слушать и не отмахиваться при первой банальности. Мое внимание к рассказам тети Нины было вознаграждено замыслом поэмы «Ленинский подарок».
Однажды, вспоминая свою жизнь, она вдруг рассказала, что встречалась с Владимиром Ильичем. Больше того, получила от него подарок – фасонистые сапожки. И рассказала, как это случилось.
Тетя Нина, а тогда просто Нина, работала в одном из госпиталей Петрограда. Фронт был совсем недалеко, и раненых было много (потом я жалел, что не спросил, какой это был фронт),. И вот в один из тревожных дней в госпиталь заехал Ленин. Он обошел палаты, поговорил с ранеными и собрался уезжать. Тогда его окружили санитарки-солдатки и пожаловались на свою трудную жизнь – на недостаток одежды и обуви. Ленин сочувственно покачал головою и, прощаясь, обещал помочь. Шло время, про обещание Ильича санитарки уже забыли, когда нежданно-негаданно они получили сапожки.
По словам тети Нины, разговор санитарок с Лениным происходил в здании госпиталя, никто за его «фордиком» не бежал, не догонял у неисправного мостка. Мне же пришлось заставить Надю бежать за ним.
«Надя, догони!..»
«Ты смелая!.. Проси не пищи,
Проси обувку… Должен дать…
Она на рынке стоит тыщи,
Обувка-то!.. А где нам взять?!»
Забегая вперед, объясню, почему я сделал это. После разговора Ленина с ранеными о войне и мире здесь же начинать второй – уже о бедности – с точки зрения художественной было невыгодно. Они мешали бы друг другу, создавали бы вредную толчею образов. Вне госпиталя, где Ленин предстает народным вождем и мыслителем, его можно было показать в плане бытовом: «как мужики порой в деревне, присел на бревна отдохнуть». Тут Наде, прибежавшей просить обувку, легче заметить, что у Ильича ботинки тоже поношенные. И, на мой взгляд, заметней его грустные слова:
Вы молоды, вы доживете
До модных туфель и шелков.
Вернусь к рассказу тети Нины. Если бы она вела речь только о ленинском подарке, писать поэму не имело бы смысла. Для поэмы нужны судьбы: судьба страны, судьба людей. И тетя Нина мне в этом помогла. С горькими слезами она рассказала о смерти Владимира Ильича. В то время тетя Нина была уже ткачихой. О ленинском подарке, который берегся годами, на фабрике знали все. Тетя Нина обула сапожки и пошла на траурный митинг. Ее попросили выступить. Она поднялась на трибуну и сказать ничего не может. Только плачет и показывает на сапожки.
Вместе с тетей Ниной плакал и я… В ее слезах я увидел судьбы, которых потребует поэма. Написать поэму – значило расшифровать ее слезы, показать то, о чем она не говорила.
Чувствительность – не самое лучшее качество поэта. За работу я взялся не сразу. Несколько успокоившись, я начал думать о рассказе тети Нины уже трезво. Бывает, что впечатлительные люди часто выдают за свое где-то вычитанное. Тем более что моей подозрительности тетя Нина дала пищу. Она, например, сказала, что до того, как Ленин приехал в госпиталь, туда приглашали знаменитого артиста, который якобы от встречи высокомерно отказался. Этот мотив показался мне знакомым. К счастью, все остальное ни в поэзии, ни в прозе найти не удалось.
Приступая к работе, я прежде всего конкретизировал время событий.
Это было трагическое время для нашей страны, когда на Петроград шли немцы, когда во имя спасения революции, вопреки всем истошным крикам меньшевиков и эсеров Ленин пошел на заключение Брестского мира. О Ленине, каким он был в ту пору, можно было узнать только от самого Ленина. Сейчас передо мной лежит двадцать седьмой том его сочинений, в который вошли все материалы, показывающие его почти нечеловеческие усилия по добыванию мира. Вижу отдельные ленинские фразы, подчеркнутые мной когда-то.
Мне было необходимо читать Ленина не только для того, чтобы лучше разобраться в политической обстановке того времени, нужно было почувствовать Ильича через его речь. Среди подчеркнутых мной фраз есть одна, которая тогда несказанно обрадовала. Вот она: «Но надо было мир взять, а не хорохориться зря». Слово «хорохориться» в нашей семье было давно обжитым словом. Мать рассказывала, когда ей с отцом случалось допоздна засиживаться в гостях, он говорил: «Ты, Ульянка, иди домой, а я еще немного похорохорюсь». Видимо, это дало мне возможность лучше почувствовать ленинскую интонацию речи и передать ее не в цитатном виде, как часто бывает в стихах о Ленине, а более свободно. Так на вопрос споривших «надо ль замириться с буржуазией мировой» Ленин говорит:
Когда за власть буржуи ссорятся,
Война народу не с руки…
Нет, нет! И пусть не хорохорятся
То-о-варищи меньшевики!
Ленина я начал читать еще в детстве. Я, разумеется, многого не понимал, но меня завораживала энергия стиля, само сцепление слов. Поздней я заметил, что энергия его стиля возникает не в силу формальных стилевых приемов, а логикой развития мысли я, я бы сказал, образа. Его речь всегда была по-народному образна. Теперь мне отчетливо ясно, что к образу Ленина надо идти не столько через факты и обстоятельства его огромной жизни, сколько через его слово.
Работа над поэмой «Ленинский подарок» дала мне, как поэту, очень много, хотя ее конструктивный рисунок прост. Она помогла мне потом написать другие поэмы, такие, как «Проданная Венера», «Белая роща». А простота «Ленинского подарка» была продиктована человеческой простотой вождя революции и санитарки Нади. В конце поэмы мне хотелось сказать, что рассказ старой ткачихи не конечный итог одной жизни.
Все, все,
Что ее окружает,
Что радует сердце и глаз,
На сто голосов продолжает
Не конченный ею рассказ.
ОТ ОШИБКИ – К ПОЭМЕ
Когда поэма «Бетховен» появилась в «Огоньке», а потом в книге, я стал получать письма, из коих понял, что меня воспринимают как человека музыкально образованного, во всяком случае, знающего и понимающего музыку не только Бетховена, но и других. Разоблачать себя в глазах своих читателей тогда не имело смысла, но теперь, когда речь идет о творчестве, о его двигателях, хочу признаться, что у меня нет даже музыкального слуха. Только однажды в детстве на полях мне показалось, что я услышал радостную и счастливую музыку, объявшую все мое существо, проникшую в каждую клеточку моего чуткого тогда сердца. Если бы я смог записать ее, а потом в нужную минуту повторять, я бы до конца своих дней был счастливым человеком. Но теперь от моих воспоминаний о ней осталась одна смутно озвученная солнечность.
Потом, лет уже пятнадцати-шестнадцати, я оказался в оркестре щипковых инструментов авиационного техникума, в котором начал учиться. Толкнул меня в этот оркестр старший брат Иван взамен себя, когда ему надоело таскать огромный контрабас, завернутый в дырявую студенческую простынь. Вскоре я ощутил всю тяжесть этого бремени. А главное, меня стала смущать моя роль: балалайки, мандалины звенят, заливаются, а ты ждешь очередного такта, чтобы тронуть самую басовитую струну и опять ждать. И пока твой звук гудит, звуки балалаек и мандолин играют на нем как птицы в густых листьях высокого дерева. Дерево гнется-гнется, принижается, листья осыпаются-осыпаются… А я все жду и жду, когда листья совсем опадут, а птицы начнут разлетаться. Пора!.. И я снова трогаю струну и поднимаю упавшее дерево: поднимаю еще выше, еще пышнее, еще громкоголосней в птичьем гомоне… И снова жду, пропуская несколько тактов. Нет, мне больше нравилась игра птиц, чем роль падающего и воскресающего дерева. Однажды я не пришел на репетицию. Руководитель оркестра сделал мне выговор. Тогда я сказал, что не буду ходить совсем.
– Вася, но ты же фундамент оркестра!
– Не хочу быть фундаментом.
Собственно, на этом моя музыкальная карьера и кончилась. Не думаю, чтобы этот эпизод в моей жизни имел какое-то отношение к поэме. Зерном, из которого она поздней выросла, была моя ошибка. Не случись той ошибки, не было бы и поэмы о великом композиторе.
Наши комсомольские и профсоюзные деятеля решили, что если я пишу стихи, то наверняка смогу вести литературно-музыкальный вечер. Так я стал конферансье. Литературная часть вечера проходила сходно, а на музыкальной я споткнулся. Наш физик увлекался музыкой и сам хорошо играл на виолончели. Мне нужно было представить квартет и объявить музыку. Я громко выкрикнул:
– Музыка Бетховена!
Зал грохнул в смехе, а я, глупо улыбаясь, не понимал, в чем дело. Уже после вечера меня окружили друзья и спросили:
– Васька, ты это для смеха ударение перепутал?
– Конечно! – обрадовался я счастливому оправданию, тогда как чувство стыда проникало в меня все глубже и глубже.
С тех пор Бетховен стал как бы «моим», моей виной, которую нельзя было ничем избыть. Все, что касалось его, стало восприниматься как нечто близкое. Нет, я не побежал в библиотеку, чтобы взять о нем книгу и остаться с ним с глазу на глаз, зато, как виноватый, не упускал возможности посмотреть на него издали или со стороны, послушать его и о нем. В начале войны в Новосибирска находился симфонический оркестр ленинградской филармонии. Перед его концертами часто выступал Солертинский. Когда мне выпадала редкая возможность послушать его, а потом и музыку, я с радостью этим пользовался. То, что Иван Иванович говорил, например, о Бетховене, я ничего не запоминал, не мог запомнить и музыки, как не запоминают в подробностях таких явлений природы, как гроза, ливень, ураган, но в ощущениях встреча с Бетховеном оставалась памятной.
В то время я писал «Лирическую трилогию», которая вся шла под знаком музыки. О Бетховене, как теме, я не думал. Просто музыка, как гуманнейшая из искусств, помогала мне отчетливей увидеть трагическое состояние мира – крушение любви и счастья. Но это уже были те эмоциональные накопления, связанные с именем «моего» композитора, которые потом легли в поэму.
У моих эмоциональных накоплений не было реальной привязки. Они группировались скорее вокруг понятия «Бетховен», чем конкретной личности, наделенной вполне человеческими чертами. Те портреты, которые мне доводилось видеть, были уже результатом поэтизации образа, что никогда не вызывало во мне прилива творческой энергии. Мне нужно было представить этого гения в его первичном виде. Такая счастливая возможность однажды мне представилась.
Будучи в Карловых Барах, я забрел в местный исторический музей и увидел скульптурный портрет Бетховена, созданный его современником. Он был непохож на все его поздние бюсты с характерной гривой волос. Его лицо было плебейски простым и мужественным, как у рыбаков и дровосеков. И тогда все мои эмоции, что вертелись вокруг его имени, получили реальную меру. Что не шло к такому лицу, было сразу же отброшено, а что примерилось, еще больше скрепилось и осталось. Правда, в поэме у меня есть традиционно поэтическая черта, подчеркнутая строчкой «тряхнул своей бетховенскою гривой», но эта знакомая черта вписывается в тот облик, который мне представился в скульптурном портрете, то есть я уже мог сказать: «как дровосек, трудом разгоряченный, со лба устало смахивая пот» или:
И голову клоня перед судьбою,
Взревел, как бык, ударенный бичом.
Но и это конкретное воплощение образа пришло ко мне намного позднее, уже после того, как я почувствовал, что родился замысел. А родился он совершенно неожиданно, когда я весь был занят поэмой «Седьмое небо», ее фантастической главой «Земля и Вега». В Ленинграде меня пригласили прочитать эту главу в Союзе писателей, на что я охотно согласился. Время было горячее. В нашей поэзии шли бурные споры о путях ее развития, о роли художника в жизни, его личности и о многом другом. При обсуждении моих стихов, оспаривая мысль о беспомощности искусства, я невольно обратился к Бетховену.
Ход моей мысли был таков: когда Бетховен писал симфонии, он должен был верить во всемогущество своей музыки. Ему должно было казаться, что, услышав его музыку, человечество преобразится, избавится от пороков, от эгоизма и зла, от мелочности и суетности, но музыка его звучала, а в мире по-прежнему совершалось зло, люди по-прежнему погрязали в пороках и мелочах. Эта беспомощность не могла не потрясти Бетховена, но великий художник снова брался за труд, веря в совершенство, к которому стремился. И снова его ожидал тот же печальный результат. И все-таки всякий раз, когда звучала его новая музыка, человечество делало неприметный для себя самого шаг к прекрасному.
Так неожиданно для себя в полемическом задоре я выговорил замысел своей новой поэмы, хотя и не догадывался об этом. Вернувшись из Ленинграда, я уехал во владимирскую деревеньку Заднее Поле. Сидя ночью в тесовом закутке крытого двора и перебирая в памяти ленинградскую встречу, я вдруг почувствовал, что высказанное мной стало ядром всех моих эмоциональных накоплений, связанных с Бетховеном. В открытое окно заглядывала звездная ночь, в молодом саду, посаженном мною, свиристели цикады, которых раньше, кажется, даже не было. С этой минуты я начал думать о Бетховене стихами:
Когда ему дались и подчинились
Все звуки мира и когда дались
Все краски звуков, молодой и гордый,
Как юный бог, стоящий на горе,
Решил он силу их на зло обрушить.
Поэма напросилась сама, и так неожиданно, что у меня даже не было времени подумать, каким ее стихом писать – рифмованным или белым. До сих пор у меня не было ни одной поэмы, написанной стихами без рифм, а тут белый стих полился сам собой:
Закрылся он подобно колдуну,
Что делает из трав настой целебный,
И образ он призвал любви своей,
Отдав всю страсть, высоким заклинаньям.
На зов его, на тайное «приди»!
С улыбкою застенчивой и милой,
С глазами тихими, как вечера,
Пришла любовь, напуганная жизнью.
Этот факт лишь доказывает, что к любому материалу не нужно идти с готовой' формой, что материал, если он достаточно вызрел, продиктует ее сам. Между прочим, где-то в середине поэмы у меня появилась потребность стихи зарифмовать, что я и сделал, и критики потом отмечали, что рифмованные стихи не поломали общего строя белого стиха, а звучат в том же ритмическом и мелодическом ключе:
Запели скрипки и виолончели
И повели, перемежая речи,
По горестным извилинам души
В далекий мир исканий человечьих,
В тот светлый мир, где не бывает лжи.
Это лишний раз подтверждает мысль о пластичности формы, о ее способности подчиняться материалу и творческой задаче поэта. Форму можно нейтрализовать так, что она будет неощутима и невидима для читателя, как невидим жесткий каркас какой-нибудь сложной скульптурной лепки. Нам дела нет до того, как держится извитое и перевитое змеиное тело «Лаокоона».
И еще один психологический момент. В два дня, а вернее, в две ночи, я написал примерно половину поэмы. Как раз в то время мне нужно было уезжать в Крым. Обыкновенно я трудно привыкаю к новому месту, к стенам, к окнам, к столу, а на этот раз, приехав в Крым, в тот же вечер, будто и не прерываясь, вернулся к поэме и| через несколько дней ее закончил. Что же случилось? А то, что в Крыму меня встретили такие же цикады, что свиристели в нашем деревенском саду, когда я начинал поэму. Их уже знакомый голос оказался сильней шума моря, сильней всех новых впечатлений, он сразу же ввел меня в привычную рабочую обстановку.
Закончив поэму, я прочел ее Николаю Рыленкову. Он сделал мне несколько частных замечаний, а потом спросил, читал ли я перед работой Ромена Роллана.
– Конечно, нет! – ответил я.
– Почему «конечно»?!
И я должен был признаться, что перед работой никогда этого не делаю. Во-первых, другой писатель может навязать свой взгляд, нагрузить лишними подробностями, ненужными для твоего замысла.; во-вторых, прочитав что-нибудь, я, прежде чем сесть за работу, должен был бы все позабыть, что вычитал, а на это нужно много времени, за которое мог бы улетучиться и сам замысел. Но теперь, когда поэма была уже написана, было даже интересно заглянуть в книги Ромена Роллана, что я и сделал, после чего, однако, никаких поправок не внес, а лишь утвердился в том, что сделал то, что хотел. Плохо ли, хорошо ли, но сделал.
Так ошибка, совершенная в юности, привела меня к поэме. Но вернусь еще раз к накоплению эмоций. Когда я говорил, что, прочитав о Бетховене или прослушав его музыку, должен все забыть, я не имел в виду, что мне нужна была ничем не обозначенная эмоция. Наоборот, эмоция до поры до времени должна быть на какой-то привязи. Например, в чувстве характера такой привязью стал скульптурный портрет Бетховена, увиденный мной в Карловых Варах, а сам портрет держался в моей памяти на характерной складке его крутого лба, которая и помогла мне найти рефрен, очень важный для всей конструкции вещи:
И лоб его, досель неомраченный,
Тогда и рассекла кривая складка,
Что перешла потом на белый камень